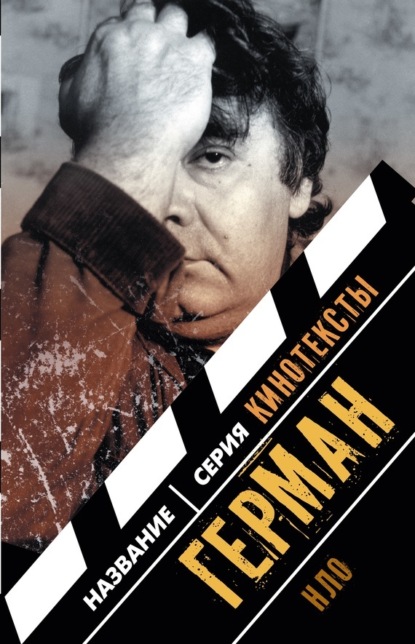Полная версия
Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране
Действие пушкинской повести переносится в наши дни, сюжет значительно перерабатывается, а психологические портреты героев развиваются: остается лишь общая схема событий и отношений между персонажами. Авторы фильма (автор идеи – Константин Чернозатонский, режиссеры – Александр Вартанов и Кирилл Михановский) реализуют именно то, что предлагала героиня «Романа в письмах» и что часто в отношении европейских сюжетов осуществлял сам Пушкин: вышить по старой канве новый узор. По сравнению с экранизациями, более точно следовавшими тексту и не осуществлявшими транспозиции в другое время, этот фильм меньше подвергался критике за отступления от пушкинского текста – так как и не создавал иллюзии соответствия[78]. Другая возможная причина спокойной реакции зрителей и критиков на отступления от канона заключается в том, что это пушкинское произведение ассоциируется у аудитории не столько с неприкосновенной высокой классикой, сколько с программой по литературе средней школы. Так, автор «Учительской газеты» Ариуна Богдан отмечает, что кинематографисты «максимально уважительно» отнеслись «к произведению из школьной программы»[79]. А исполнитель одной из главных ролей, Игорь Гордин, признается, что он не перечитывал повесть с пятого класса – как, вероятно, и большинство зрителей[80].
Ахматова, ценившая «Дубровского» менее других произведений Пушкина за отсутствие в нем «тайны», указывала вместе с тем на привлекательность его для массовой аудитории: «„Дуб<ровский>“, оконч<енный>, по тому времени был бы великолепное „чтиво“ ‹…› оставляю целые три строки для перечисления того, что там есть соблазнительного для читателя»[81]. Сочетание романтической истории и сюжета о благородном разбойнике, неожиданные повороты сюжета, включая тему самозванца, – все это делает «Дубровского» привлекательной основой для киноадаптации.
В новом фильме Троекуров и Дубровский – сослуживцы по Афганской войне. Их ссора начинается, когда Дубровский заступается за одного из солдат, силами которых Троекуров строит новый гараж – «конюшню» – и в которых не видит людей. Обладая влиянием на коррумпированные местные власти, Троекуров доказывает, что Кистеневка Дубровского построена с нарушением норм, – и после того, как разбитый ударом старший Дубровский умирает, приступает к сносу. Деревенские жители, оказавшись под угрозой внезапного выселения и потери всего имущества, оказывают сопротивление отряду ОМОНа, который погибает в результате ночного поджога. Затем значительная часть жителей уходит в лес, чтобы уже оттуда вести партизанскую войну против Троекурова – и вообще всех представителей власти.
Будучи перенесен в современные реалии, конфликт сохраняет убедительность. Кузнец Архип в фильме превращается в афганского ветерана Кузнецова, который, будучи болезненно склонен к насилию, воплощает собой темную сторону вооруженного протеста против коррумпированной власти. «В России без крови никогда не обходилось», – резонерски объявляет он. В дальнейшем Кузнецов, не находя поддержки своим методам, покидает отряд: авторы подвергают критике не само сопротивление властям, но методы ветерана, зеркально отражающие методы его противников.
Сам молодой Дубровский (в исполнении Данилы Козловского) старается не применять насилие, но использует в качестве оружия информацию. Оставив карьеру преуспевающего адвоката, он появляется у Троекурова под именем американского банкира Марка Дефоржа, будто бы намеренного спонсировать строительство на месте Кистеневки нового центра отдыха. Но если в пушкинской повести раскрытие его подлинного лица оказывается одинаково неожиданным и для читателя, и для Маши, в фильме и сериале реализована другая стратегия: то, как Владимир оказался в доме врага, демонстрируется нам хронологически. Неожиданность читательского открытия в фильме замещена зрительской тревогой за героя-самозванца. Компрометирующие материалы, найденные у Троекурова и племянника губернатора Ганина (то есть пушкинского князя Верейского), Дубровский выкладывает в интернет.
Афиша фильма с фигурами Маши и Владимира в зимнем лесу, особенно в сочетании с датой выхода фильма на экран – восьмого марта, – представляла фильм как, в первую очередь, романтическую историю. Егор Москвитин полагает, что эта заявка создавала у зрителя ложные ожидания[82]. На самом же деле, в отличие от «Барышни-крестьянки», «Дубровский» уже с первых кадров, представляющих собой документальную съемку подавления гражданского протеста ОМОНом, прямо заявляет о своей острой социальной направленности. «Мы делали кино для зрителя, которому не безразлично, что происходит вокруг, который готов сочувствовать социально нагруженным историям», – говорил в интервью The New Times продюсер Евгений Гиндилис[83]. Важность фильма состоит именно в том, что, принадлежа к массовому кино, он сам формирует широкую социально небезразличную аудиторию[84].
Некоторая эклектичность «Дубровского», отмеченная критиками[85], обусловлена двойной задачей, которую решали его авторы: он снимался как трехчасовой сериал, из которого был сделан – сконцентрирован – фильм, ставший продуктом компромисса между эстетикой и темпоритмом сериала и полнометражного фильма[86]. Ирина Анисимова считает стилистическое сочетание любовной линии и изображения насилия в «Дубровском» характерным именно для телесериала[87]. В фильме за кадром, естественно, остались детали бытовой жизни героев, часть психологической разработки характеров, – в частности, в том, что касается взросления молодого Дубровского, ощущающего нарастающий протест против своей роли юриста, лишенного возможности этического выбора в мире большого бизнеса. В итоге «война» перевешивает «мир», при том, что центральные сцены – опорные точки сюжета – сохранены, в фильме они выглядят разреженно, общий ритм временами «провисает».
Дополнительную сложность представляла собой смена режиссеров в процессе съемок – и, соответственно, смена стилевых решений. Выстроенный по канве пушкинского сюжета «Дубровский» формировался и под влиянием актуальных визуальных источников, а именно современных западных сериалов. Михановский ориентировался на жесткую ироническую эстетику сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad), а Вартанов позже отходит от нее, внося в фильм романтические штампы. Но и его целью остается показать, что возможен качественный современный российский сериал, который может конкурировать с мировыми образцами. Достижению этой цели во многом способствуют монтаж и мастерская операторская работа, в частности, с точками зрения: на Троекурова, неумолимо решающего Машину судьбу и объявляющего ей отцовскую волю, мы смотрим снизу вверх, так что узор на потолке образует вокруг его головы венчик, иронически намекающий на ветхозаветное богоподобие персонажа. И наоборот, когда Троекуров падает на ковер, хватаясь за сердце, мы смотрим на него сверху – как душа смотрит на оставленное ею тело. Когда потрясенный ограблением Ганин бежит вниз по лестнице троекуровского дома, а потом прыгает в машину, мы видим пробег с его точки зрения, словно в глазок камеры – рыбьего глаза (поле зрения как бы ограничено его страхом). Когда же он врывается в будку дорожной автоинспекции, уже внешняя камера, сосредоточенная на сумбурных событиях в будке, фиксирует еще и их отражение в поверхности машины. Некоторые сцены поднимаются до символических: топор, которым Дубровский рубит дрова на фоне кровавого зимнего заката, предвосхищает «топор народной войны», которая вскоре развернется в лесу.
Аллюзии на классическое советское кино, добавленные авторами в фильм, вызвали негативную реакцию многих критиков: за березки, кружащиеся перед глазами умирающего персонажа – и отсылающие к сцене смерти Бориса в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли», Илья Миллер предлагает «бить по рукам»[88]. Причины такого возмущения не совсем ясны: возможно, критики считают, что сама сцена, экстериоризирующая внутреннее состояние и считавшаяся во времена Калатозова новаторским переосмыслением открытий авангарда, давно уже стала штампом. Массовый жанр сериала трудно упрекать за использование сюжетных и кинематографических штампов – и критика такого рода относится именно к короткой версии, к фильму. Другая возможная причина – иерархическая несовместимость классического образца и массового кинопродукта (хотя бы и с элементами артхауса) в сознании критиков.
Главный фон событий – заснеженный лес, в который уходят лишившиеся собственных домов жители Кистеневки. Лес демонстрирует, с одной стороны, их причастность природной жизни, становится укрытием, а с другой стороны, представляет собой вывернутый наизнанку мир, в котором открытое пространство замещает дом и функционирует как интерьер. Нарушение естественных законов жизни, катализированное ссорой Троекурова и Дубровского, подчеркивается сквозным образом раздетых людей в лесу. Поймав работников бывшего друга за незаконной рубкой леса, Дубровский велит выпороть их и отправить к хозяину полураздетыми; ведущий партизанскую войну против властей отряд раздевает и пускает бегом по дороге троекуровского чиновника – эта загадочная сцена появляется в начале сериала, а объяснение получает позже. Наконец, сам Дубровский в конце фильма бежит по лесу в окровавленной рубашке, чтобы остановить свадебный кортеж Маши и Ганина. Перевернутость привычного мира проявляется в сцене теннисной игры Маши и Владимира на заснеженном корте, но там этот сдвиг времен года – лето среди зимы – не имеет негативного значения: само неожиданное возникновение их любви противостоит логике семейной вражды.
Другие фрагменты действия развиваются на фоне традиционного деревенского быта Дубровского и в противопоставленных этому быту новорусских интерьерах Троекурова – с картинами на религиозные темы, на фоне которых пляшут цыгане. Это конкурирующие друг с другом варианты развития: оба героя – предприниматели и занимаются строительством. Дубровский создает ферму, его дело тесно связано с жизнью деревни, с работой на земле. Проекты Троекурова призваны продемонстрировать роскошь и служить дальнейшему обогащению. Один из парадных залов, еще закрытый пленкой в процессе декорирования, дает возможность снять прекрасный кадр, как бы в туманном сине-зеленом коконе. Помимо строительства гаража для своих многочисленных машин Троекуров планирует возведение центра отдыха с альпийскими лугами и лодочной станцией. Его проект, «девелоперская ласточка», – чужой для этой земли, и для его осуществления Кистеневку необходимо снести.
Фильм показывает, что западное воспитание совершенно не обязательно оправдывает этику бизнес-мира, тогда как традиционное русское барство ее с удовольствием усваивает. Именно Троекуров, чьи власть и богатство держатся на коррупции, считает себя хранителем традиционных русских ценностей, к которым, с его точки зрения, относятся неограниченные сила и власть, – и ведет разговоры об исключительности русского стиля жизни, понимаемого им вполне стереотипно. «Вот ты много поездил, Маркуша, где еще народ умеет так пить?» – с гордостью обращается он к Дубровскому, живущему у него под именем американского архитектора Дефоржа. «Да, честно сказать, много где», – не оправдывает его ожидания собеседник.
Герои, ориентированные на либеральные западные ценности, – и Маша, зараженная, по мнению отца, «лондонским либерализмом», и Владимир, успешный юрист с прекрасным английским, – пытаются сопротивляться беспринципности коррумпированного мира и жить по своим представлениям о чести и долге. Внутренний кризис Владимира начинается, когда он узнает, что предприниматель, для которого он заключал контракт, собирается прекратить выпуск отечественного аналога лекарства, необходимого многим больным, так как он стал невыгодным. Однако его попытки протестовать ни к чему не приводят. Перелом происходит, когда Владимир понимает, что подопечные его отца, оставленные без крыши над головой девелоперским проектом Троекурова, нуждаются в его помощи. Маша, боровшаяся за право принимать собственные решения, видевшая людей там, где ее отец видел лишь инструменты, в конце концов ради спасения отца отказывается от своей свободы. Троекуров же вынужден отказаться от своей роли защитника любимой дочери и продать ее ненавистному племяннику губернатора Ганину, от которого он теперь зависит.
Союзником «народа», таким образом, в фильме оказываются не чиновники и представители силовых структур, лицемерно выступающие с патриотическими лозунгами, но получившие европейское образование молодые люди, берущие на себя ответственность за тех, кто от них зависит, пытающиеся противостоять деспотизму и коррупции. Их идеализм постоянно сталкивается с жесткой реальностью, и локально они проигрывают – но, по крайней мере, хотя бы лишают эту реальность монолитности. Так преломляются в новом времени пушкинские ценности и понимание свободы, к которому писатель пришел в начале 1830‐х годов:
Свобода, понимаемая как личная независимость, полнота политических прав, в равной мере нужна и народу, и дворянской интеллигенции… выковавшей в вековой борьбе с самодержавием свободолюбивую традицию. Борьба за уважение деспотом прав дворянина – форма борьбы за права человека. С этих позиций народ и дворянская интеллигенция («старинные дворяне») выступают как естественные союзники в борьбе за свободу. Их противник – самодержавие, опирающееся на чиновников и созданную самодержавным произволом псевдоаристократию, «новую знать»[89].
Вместо самодержавия в наши дни можно подставить «автократический режим», вместо «новой знати» – коррумпированных государственных чиновников и связанных с ними представителей силовых структур, превращающихся в мелкопоместных правителей. А противостоят им новые частные предприниматели, разделяющие европейские ценности уважения к частной жизни, личным правам и имуществу: именно с ними деревенские жители оказываются «естественными союзниками в борьбе за свободу».
И создатели, и участники, и зрители «Дубровского» отмечают, как точно он отразил современную политическую реальность, которая формировалась одновременно с работой над фильмом. Журналист РБК Илья Миллер указывает на сходство между блогером Дубровским, выкладывающим в интернет компромат на Троекурова, и Навальным. Продюсер Евгений Гиндилис согласен, что замысел фильма даже предугадал развитие некоторых политических сюжетов: «Когда Константин Чернозатонский принес нам сценарий, того, что там было описано, еще не происходило в реальности: еще не было ни приморских партизан, ни Кущевки, ни конфликта в поселке «Речник» – не было такого сращивания власти и бизнеса, такого уровня коррупции. Постепенно реальность догоняла наш замысел, сюжет стал воплощаться в жизнь»[90]. Именно в этом критики и авторы видят подтверждение актуальности классического текста[91].
Интерес для социолога культуры представляет перераспределение в связи с «Дубровским» культурного капитала при взаимодействии литературного и кинематографического текста. По сюжету фильма была написана повесть, выпущенная издательством «Лабиринт» под одной обложкой с «Дубровским» Пушкина. Обложка представляет героев фильма и сопровождается его рекламой – «Смотрите в кинотеатрах страны». Лозунг книжной серии – «Смотрим фильм – читаем книгу» – демонстрирует, что, хотя популярность адаптации обеспечена классическим статусом пушкинского текста, возвращение к самому классическому тексту и к его литературной адаптации происходит через фильм, взявший на себя роль хранителя этого статуса. Само наличие адаптаций, даже травестирующих текст, подтверждает его классический статус.
Самозванцы на государственном уровне: «Русский бунт» и «Борис Годунов»
«Русский бунт» между литературой и историей
Исторический костюмный блокбастер Александра Прошкина «Русский бунт» снимался к двухсотлетнему юбилею со дня рождения Пушкина, в рамках национального чествования писателя, хотя и вышел на экраны несколько позже, в 2000 году. Пиетет авторов по отношению к Пушкину заявлен посвящением в начале фильма. При этом «Русский бунт» парадоксальным образом обращается к проблеме взаимоотношений текста и фильма, упраздняя, в частности, традиционный вопрос о соответствии фильма «оригиналу». Режиссер в своей адаптации соединяет два совершенно различных по методу, концепции и жанру произведения Пушкина: «Историю Пугачева» – исторический трактат и «Капитанскую дочку» – роман воспитания, историю частного человека на фоне исторических событий. На первый взгляд, такой подход может показаться естественным, так как оба текста посвящены исследованию Пугачева и его восстания и написаны приблизительно в один период[92], однако эта попытка впрячь в одну телегу коня и трепетную лань во многом объясняет неуспех «Русского бунта».
На проблематичность сочетания двух разноплановых пушкинских произведений указывали разные исследователи, не поясняя, однако, достаточно исчерпывающе, в чем, собственно, она состоит[93]. Чаще всего фильм критикуют за неудачное соединение частной истории и эпического охвата событий, при котором не получается ни то ни другое[94]. Можно было бы возразить, что к моменту создания «Русского бунта» у Прошкина уже был опыт успешного исторического фильма о XVIII веке – сериала «Михайло Ломоносов» (1986), в котором ему с успехом удавалось сочетать личное и историческое и рассказать историю героя на фоне истории страны. Там, правда, художественная задача стояла несколько иначе: сериал разрабатывал официальный миф о Ломоносове как о национальном герое, и сам ритм многосерийного фильма был размеренным, ориентированным на широкую аудиторию, которую он сплачивал ощущением единства, – а историческая роль героя была более однозначной и определенной.
Точнее других проблему определяет Анат Верницки, опираясь на Виктора Матизена. Она отмечает редукцию смыслов, которая происходит в «Русском бунте» из‐за совмещения различных точек зрения: частного взгляда Петруши Гринева, повествующего о событиях от первого лица, и взгляда историка, создающего масштабное полотно[95]. Как отметил Матизен[96], история, которая держится на точке зрения главного участника событий и рассказана им самим, необъяснимым образом включает эпизоды из жизни Пугачева, которые ему не могли быть известны, например арест Пугачева, – точка зрения рассказчика, таким образом, размывается. Надо отметить, что настолько же, насколько советские исследователи подчеркивали масштаб исторического фона в пушкинской повести[97], игнорируя иногда ограниченность оптики повествователя, постсоветские критики склонны эти масштабы недооценивать, считая повесть «рождественской сказкой»[98].
Трудность экранизации «Капитанской дочки» действительно состоит в создании точки/точек зрения, но дело не столько в том, что Гриневу могло или не могло быть известно, сколько в дистанции между позицией рассказчика и позицией автора, обозначенной в повести общей структурой и системой эпиграфов, создающих подсветку для рассказа главного героя, – а также подчеркнутой субъективностью, сказовостью его истории[99].
Двойная оптика «Русского бунта», таким образом, могла быть подсказана уже полифоничной точкой зрения «Капитанской дочки», но в большей степени общий план ориентируется на «Историю Пугачева». Давая в первых кадрах широкую панораму, вид сверху на наклонившуюся поверхность озера, фильм создает взгляд с высоты птичьего полета буквально – с точки зрения ворона, который сразу вслед за этим появляется в кадре. Именно в вороне, обозревающем, «как игралища таинственной игры», поля сражения и видящем расстановку сил, воплощен авторский взгляд. Ворон присутствует с начала до конца фильма как сквозной образ – и, конечно, заставляет вспомнить притчу об орле и вороне в романе и вообще напоминает о круге ассоциаций «вор – вороненок – ворон, который „еще летает“», связанном с Пугачевым.
Неудача фильма состоит не столько в неработающем сочетании камерности и эпичности, сколько в попытке совместить метод и задачи исторического трактата с методами и задачами художественного произведения. У Пушкина разница в этих задачах особенно видна в освещении фигуры Пугачева. О разрыве между Пугачевым «Капитанской дочки» – Вожатым, который «губит всех, а Петрушу одного – любит», с его темной широтой души, величием, запретной притягательностью, – и атаманом «Истории Пугачева», извращенно-жестоким, подверженным приступам малодушия, не осознающим, что является игрушкой управляющих им яицких казаков, писала Цветаева в знаменитом эссе «Пушкин и Пугачев». Она указывала на значительность того обстоятельства, что Пушкин сознательно, уже зная все факты «Истории Пугачева», силой художественного воображения преобразил своего героя, создав из него фигуру огромную, наделенную опасными чарами, не изменяющую своему великодушию в отношениях с Петрушей[100]. «Капитанская дочка» – история воспитания. Центральными темами здесь являются честь и благодарность, милость и великодушие, невозможные, казалось бы, отношения между молодым дворянином, активно участвующим в подавлении крестьянского восстания, и предводителем этого восстания. Это история о странном сцеплении душ, узнавании, внезапной близости людей противоположных – и неожиданно способных говорить друг с другом поверх всех ограничений, накладываемых социальным положением, как человек с человеком[101].
Если в «Истории Пугачева» Пушкин работает с документальным материалом и пишет об истории, какой, по его мнению, она была, – в «Капитанской дочке», как подчеркивает Лотман, он дает представление о своей концепции идеальной власти, в которой человечность должна стать над законом. Он показывает в событиях Пугачевского бунта то, что потом так трагично было продемонстрировано историей ХХ века: безжалостность по принципу принадлежности к группе, без личной ненависти, даже с состраданием к конкретному «представителю» группы. Именно так ведут себя бунтовщики, подводящие Гринева к виселице: «„Не бось, не бось“, – повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить». Этот эпизод потом эхом отзовется в «Котловане» Платонова, когда крестьяне обнимают своих кулаков и со слезами прощаются с ними перед тем, как отправить на плоту по реке. Но на примере Пугачева и, позже, Екатерины Пушкин демонстрирует, что подлинное величие властителя проявляется в тех моментах, когда он за представителем социальной группы может увидеть человека[102].
Прошкин же приводит своего Петрушу Гринева не к волшебному Вожатому, а к неуравновешенному Пугачеву, которым к тому же манипулирует его окружение. Отменяя законы повествования и логику художественного текста, он помещает героя в жесткую, часто абсурдную реальность текста исторического. Человеческая связь, которая возникает между Петрушей и Пугачевым в «Капитанской дочке», непреложность ответственности за того, кому ты сделал добро, в этих условиях обесценивается. Но именно она составляет этический стержень «Капитанской дочки». У Прошкина же вместо неизменной Пугачевской милости к Петруше, основанной на благодарности и благородстве, мы видим лишь случайную прихоть самодура. Тот, кто может отдать на растерзание маленького брата Елизаветы Харловой[103] и ее саму, не решаясь противоречить своему окружению, вполне мог бы отдать и Петрушу, как того требует фельдмаршал. Именно такое развитие событий предсказывает Цветаева в своем эссе, обсуждая возможность встречи Гринева «с Пугачевым не на страницах „Капитанской дочки“, а на страницах „Истории Пугачевского бунта“»[104]. «Возвышающий обман», который Цветаева так высоко ценит, внутренняя этика художественного произведения в фильме Прошкина исчезают. Поэтому диалоги между Петрушей и Пугачевым выглядят в нем так незначительно и недостоверно. Не случайно отсутствует и завершающий аккорд пушкинской «Капитанской дочки», когда Пугачев, узнав Петра Гринева в толпе, окружившей эшафот, кивает ему головой, – это последнее личное прощание, последний подарок Гриневу – и читателю. Пугачев «Истории Пугачева», Пугачев Прошкина уже к тому времени потерял от страха человеческое лицо, и этот катарсический момент невозможен.
Можно предположить, что «точкой сборки» образа Пугачева, в котором Прошкин объединил «Историю Пугачева» и «Капитанскую дочку» стало, как ни парадоксально, именно упомянутое эссе Цветаевой. Все те моменты, которые Цветаева отбирает из «Истории Пугачева», чтобы продемонстрировать отличие образа Пугачева в ней от созданного Пушкиным в «Капитанской дочке», – примеры жестокости (не сказочной, но отвратительной) и зачастую малодушия, проявляемого атаманом, – все это находит себе дорогу в фильм Прошкина. Режиссер показывает и приказание повесить астронома Ловица «поближе к звездам», и трусость Пугачева при объявлении смертельного приговора, и отказ его от раскольнической веры, и зависимость от ближнего круга казаков, и, как мы уже говорили, эпизод с Елизаветой Харловой. «Русский бунт» Прошкина, таким образом, оказывается по отношению к эссе Цветаевой полемическим.
По мнению Верницки, блокбастер Прошкина с его скепсисом по отношению к революционному пафосу, является типичным постсоветским произведением[105]. Можно было бы предположить, что подчеркивая негативные стороны бунта и образа Пугачева, он является охранительным по отношению к легитимной власти. Но это не совсем так. Прошкин воспроизводит симметрию пушкинской повести, последовательно снижая образ обоих властителей: жестокость, малодушие и слабость Пугачева «уравновешены» высокомерием и развращенностью Екатерины. Открывая фильм сценой во дворце, когда императрица получает письмо от своего фаворита, графа Орлова, об убийстве Петра III, он напоминает, что Екатерина сама пришла к власти путем ее узурпации. Он также подчеркивает иностранное происхождение императрицы, показывая ее акцент, который у Пушкина не упоминается. Как и Пушкин в «Истории Пугачева», Прошкин сопоставляет жестокость обеих враждующих сторон – и в сценах восстания, и в сценах его подавления. Но если Пушкин позволяет обоим властителям выйти за рамки, накладываемые их политической ролью и продемонстрировать благородную человечность, режиссер ставит мотивы их поступков под сомнение. Милость, которую Екатерина оказывает Маше, как и сердечная склонность Пугачева к Гриневу, является лишь прихотью: это каприз развращенной императрицы, которая готова сквозь пальцы смотреть на проступки, вызванные любовной слабостью. Не случайно она и помилование Гриневу объявляет через своего фаворита, прежде чем появляется сама.