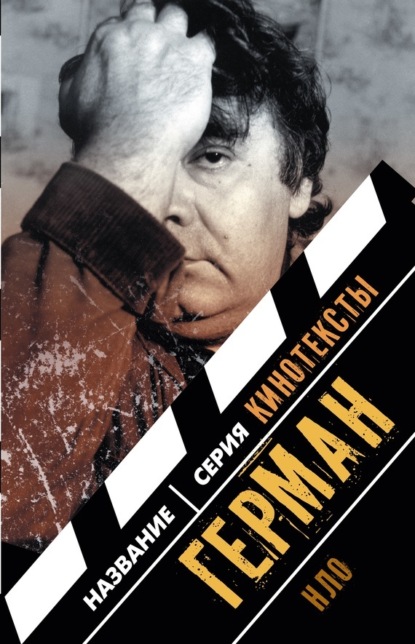Полная версия
Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране
Сама экранизированная сегодня история пушкинской дуэли дает богатый материал для развития антизападных и антигейских мотивов – что и осуществляет в своем фильме Бондарчук, утверждающая, по сути, что Пушкин пал жертвой иноземных гомосексуалов. Учитывая, что для российского общества уже к концу XIX века смерть Пушкина была «образцовой травмой», легко представить, каким взрывным потенциалом обладает проекция этой травмы на современную общественно-политическую ситуацию.
«Последняя дуэль» предлагает новый взгляд на обстоятельства дуэли, характерный именно для середины 2000‐х годов: фильм Бондарчук транслирует ценности уваровской триады – православие, самодержавие и народность – в связи с пушкинским мифом, – тогда как советская версия мифа, естественно, ограничивалась лишь последним элементом. В фильме Бондарчук царь не злоумышляет против Пушкина, но искренне дает его жене отеческие советы беречь себя. Подслушав у двери приемной эти увещевания, Пушкин избавляется от подозрений на его счет. Вообще «Последняя дуэль» подчеркивает пиетет Пушкина по отношению к царю – видя проезжающего по петербургской улице Николая, поэт (в исполнении Сергея Безрукова) с придыханием восклицает: «Государь!» Подлинные враги здесь – внешние: агенты иностранных государств, Геккерн и Нессельроде, организуют заговор против лучших российских умов с целью ослабления страны. Поскольку царь все более прислушивался к мудрым советам первого поэта государства, осознавшего эту опасность, сначала их необходимо было настроить друг против друга. Отдавая себе в этом отчет, Пушкин горестно восклицает: «Беда в том, что они поссорят меня с государем!»
Вместе с самодержавием оказывается реабилитировано и Третье отделение. В частности, сыгранный Борисом Плотниковым Дубельт представлен благородным и сдержанным – и вообще, изображен очень сочувственно. То же касается и фигуры Дубельта в «Последней дороге». Здесь он жалуется на то, что столичная полиция всегда узнает все последней, и объясняет Жуковскому, что его работа – лишь результат трагического поворота судьбы. Сочувственное изображение тайной полиции в «Последней дуэли» опирается на трактовку Менакера в «Последней дороге»: поздняя советская адаптация булгаковской пьесы сдвигала ее акценты, ослабляя тему вины Третьего отделения. Менакеру, как замечает Сандлер, важно было подчеркнуть, что смерть Пушкина стала результатом невнимательности и безответственности его друзей – Вяземского, Жуковского, отчасти Данзаса; финальная сцена неожиданно даже предполагала сочувствие и к Дубельту, и к ростовщику, пришедшему за деньгами: тело увозят, и именно эти двое остаются осиротевшими. «Александр Пушкин», по контрасту с этой трактовкой, в целом придерживается булгаковской интерпретации политической придворной интриги: вина Третьего отделения, царя и Натальи Николаевны не подвергается сомнению.
Сквозным мотивом «Александра Пушкина» является слежка, подглядывание и подслушивание. Зритель оказывается в положении наблюдающего за наблюдателем – и в роли самого наблюдателя. В сценах, происходящих в императорском дворце, камера постоянно возвращается к глазку для подсматривания[69], а действующие лица делятся на тех, кто знает о глазке, и тех, кто ничего не подозревает. Первые часто произносят диалоги в расчете на невидимого соглядатая.
Дубельт в «Александре Пушкине», как и у Булгакова, выполняет косвенно высказанное предписание Бенкендорфа. Подобно Пилату в «Мастере и Маргарите», который выдает Афранию указание о том, как должно поступить с Иудой, Бенкендорф, зная о том, что готовится дуэль, предупреждает, что полиция может поехать «не туда». Чтобы убедиться, что его поняли, он повторяет это несколько раз – и Дубельт эхом откликается ему. «Последняя дуэль», напротив, дает все основания полагать, что Дубельт честно пытался разобраться в деталях заговора – и даже проявил определенную смелость, обвиняя высокопоставленных лиц. Бенкендорф в одной из сцен с возмущением восклицает, что в представленном Дубельтом списке виновных в смерти поэта не хватает только его и государя императора. Поскольку полиция вместе с императором действуют во благо России, тем более очевидной в интерпретации Бондарчук оказывается ответственность подлинных виновников – иностранных заговорщиков.
Вместе с государственными ценностями «Последняя дуэль» утверждает, возвышая Наталью Николаевну и сочувствуя ей, и «традиционные семейные ценности». В булгаковской пьесе и обеих ее экранных адаптациях противопоставлены образы эгоистичной жены Пушкина, являющейся предметом его любви и ревности, – и его заботливой свояченицы Александры. Свояченицу, в отличие от Натальи Николаевны, допускают к Пушкину в дни его болезни после дуэли, она ухаживает за ним и даже закладывает свои вещи, чтобы помочь ему. В версии Бондарчук Александра вообще не появляется, а Наталья Николаевна виновата разве что в излишнем легкомыслии и кокетстве. На встречу у Идалии Полетики ее заманили хитростью, и объятия Дантеса оказались для нее неожиданностью. Хотя она пыталась освободиться, у этой сцены были свидетели, так что жена поэта оказалась скомпрометирована. Наталья Николаевна в «Последней дуэли» сама ухаживает за Пушкиным и даже кормит его легендарной морошкой (лишь упоминаемой в «Последней дороге»), вина за гибель поэта с нее снята. Это, кстати, единственный фильм, где мы видим детей Пушкина и Натальи Николаевны – или, по крайней мере, одну дочь, Сашу, которая даже лежит с супругами в кровати. В двух остальных фильмах дети лишь упоминаются – впрочем, до зрителя иногда доносятся их голоса, а в «Последней дороге» мы видим на полу куклу, зримое свидетельство невидимого присутствия детей.
Сергей Безруков, который по своей популярности в роли разнообразных исторических фигур мог бы соперничать с Пушкиным за титул «нашего всего», сыграл в первом фильме Дантеса, а во втором – самого поэта. В «Александре Пушкине», как и у Булгакова, сам поэт на экране не присутствует: мы только слышим его кашель – и один раз, когда несут его тело после дуэли – видим упавшую руку с длинными ногтями. В «Последней дороге» поэт мимолетно появлялся в начале фильма. В «Последней дуэли», напротив, его присутствие, как подчеркивает Стефани Сандлер, очень телесно, ярко и живо: поэт громко читает свои стихи, встречается с государем, занимается любовью с Натальей Николаевной в открытой карете, ругается с ней, выкручивает ей руки, как Саша Белый своей жене в фильме «Бригада» в исполнении того же актера, – и вообще, полон витальной энергии. Значимое отсутствие поэта в булгаковских интерпретациях, по мнению американской исследовательницы, обусловлено целью представить его именно как жертву придворной интриги при участии Третьего отделения и самого Николая I. Кроме того, Сандлер высказывает предположение, что Булгакова от «воплощения» Пушкина удерживало нежелание переносить поэта в ту эпоху, когда драма писалась, то есть в 1937 году. Исследовательница также справедливо указывает, что «Последняя дорога» выполняет те же функции, что и музей Пушкина: в отсутствие главного героя сакральное значение приобретают вещи его эпохи, связанные с ним знаменитые образы, его атрибуты, посмертная маска. Еще одна важная причина, по которой Пушкин не появляется у Булгакова и в «Александре Пушкине», а в «Последней дороге» лишь кратко мелькает, выходя с бала, – попытка избежать китча. Бондарчук же в «Последней дуэли» попадает в эту ловушку.
Яцко в «Александре Пушкине» удается продемонстрировать субъектность Пушкина, показать его активным участником событий – даже в отсутствие его на экране. Сцена дуэли снята именно с его точки зрения, зритель на минуту оказывается Пушкиным: когда Дантес целится в своего противника, оружие направлено непосредственно на зрителя – здесь использован знаменитый прием из «Броненосца „Потемкин“» с наведенной на аудиторию пушкой; после выстрела мы видим покачнувшийся лес, затем наклонившегося сверху Данзаса. В фильме Бондарчук сама последняя дуэль показана со стороны, Пушкин изображен крупным планом. Его выстрел серьезно ранит Дантеса – то есть перед тем, как оказаться в роли жертвы, поэт выступает как агрессивный борец с врагом.
Ни в «Последней дороге», ни в «Александре Пушкине» мы не видим Пушкина страдающего – мы лишь слышим рассказы действующих лиц о его страданиях. В «Последней дуэли» же, наоборот, натуралистично представлены физические муки поэта. Если в других фильмах свидетели его страданий упоминают, что он молчит и закусывает руку – акцентируется момент беззвучия, страдающее отсутствие выражает на деле напряженное присутствие, то в «Последней дуэли» Пушкин страдает зримо и кричит в полный голос.
«Последняя дуэль» прямо утверждает, что смерть Пушкина – это русская версия смерти Христа. Формулировка мифа в фильме принадлежит преемнику Пушкина, Лермонтову, заявляющему, что именно смерть Пушкина – важнейшая часть его жизненного пути, что мучения были его Голгофой: «он специально взошел на эту Голгофу, чтобы, распрощавшись с жизнью, вернуться к жизни вечной. Пушкин лежал, страдал на смертном одре, а уже тогда рождался для легендарной жизни. Смерть поэта всколыхнула такую волну народной любви, какую доселе Россия не видела». Именно поэтому Бондарчук так важно акцентировать физические, видимые страдания – страсти Пушкина. Они оказываются оправданы и искуплены важнейшим результатом – сплочением русского народа.
Утверждению мифологизирующей параллели между гибелью Пушкина и распятием Христа служит и композиция «Последней дуэли»: события выстроены не в хронологическом порядке, но как серия эпизодов до и после смерти героя, которая, таким образом, оказывается новой точкой отсчета. Надпись на экране указывает, сколько часов и дней отделяет от этой точки каждую сцену – с той или с другой стороны. Поскольку Пушкин, погибающий в результате злоумышления врагов, восходит на Голгофу ради единения русского народа, тема этих врагов звучит особенно зловеще. Полковник Галахов (Виктор Сухоруков) подтверждает в беседе с Лермонтовым, что имеет место иностранный заговор против всего русского: Дантес за убийство всего лишь выслан во Францию, а молодой поэт – на Кавказ, под пули. Когда оба изгнанника по необъяснимой географической прихоти режиссера встречаются на границе и Лермонтов пытается догнать сани с Дантесом – француз наводит на него палец и прицеливается, имитируя пистолетный выстрел, предвосхищающий смерть молодого преемника звания Первого поэта. Дальнейший комментарий за кадром проясняет смысл заговора: после возвращения на родину Дантес станет советником Луи Наполеона III, а спустя некоторое время иностранные державы вовлекут Россию в Крымскую войну, результатом которой будет гибель более пятидесяти тысяч русских. Выстрел Дантеса, таким образом, становится «первым залпом» Крымской войны. Сам же Пушкин оказался в роли акунинского Эраста Фандорина, которому, несмотря на понимание опасности, никак не удавалось войну предотвратить[70]. Как следует из фильма, единственное, что противостоит иностранному заговору, – единение народа в результате смерти поэта. Востребованность Пушкина в эпоху кризиса идентичности проявляется уже в том, что в 1990–2000‐х самые разные российские режиссеры адаптируют именно его произведения, связанные с темой самозванства на локальном уровне («Барышня-крестьянка», «Дубровский») или в масштабе страны («Русский бунт», «Борис Годунов»), причем три последних фильма связаны с темами народного восстания и легитимности власти. Фильмы демонстрируют три разные стратегии адаптации: и в «Барышне-крестьянке», и в «Русском бунте» действие происходит в то время, которое было описано Пушкиным; авторы усиливают актуальные темы, изображая это его время сквозь призму настоящего политического момента. При всей жанровой и стилистической разнице между костюмной драмой («Барышня-крестьянка») и широкомасштабным историческим блокбастером («Русский бунт») их сближает режиссерский прием объединения в одном фильме различных пушкинских произведений. В «Дубровском» пушкинский текст переписывается, транспонируется в современность с сохранением основных проблем и конфликтов. Наконец, в «Борисе Годунове» текст практически без изменений переносится в нынешние реалии.
Самозванцы локального уровня: «Барышня-крестьянка» и «Дубровский»
«Барышня-крестьянка» и торжество национальной идеи
Экранизация Алексеем Сахаровым повести «Барышня-крестьянка» (1995), снятая по сценарию Александра Житинского на студии «Мосфильм» («Ритм») при поддержке Роскомкино, завоевала множество призов – в том числе премию на Международном фестивале детских фильмов в Артеке «за самый добрый фильм» и, что особенно характерно, один из призов Международного кинофестиваля славянских и православных народов «Золотой Витязь»[71]. В критических отзывах о фильме, наряду с похвалами, звучит недоумение по поводу несоразмерно бурного признания такого «немудреного» и «простодушного» кинопродукта. Так, подводя итог своего аналитического обзора рецензий, Елена Грачева говорит: все рецензенты согласны в том, что именно такого буквального прочтения текста хочет публика, измученная постмодернистскими изысками[72] (сегодня подобные жалобы из 1995 года воспринимаются как наивные и анахронистические, но их важно взять на заметку). Сама Грачева считает, что при буквальном воспроизведении водевильного сюжета было отметено «главное»: «пушкинская литературная игра с жанрами и литературными масками рассказчиков, с цитатами и псевдоцитатами, с остраненными штампами и нарушенными читательскими ожиданиями; уникальное балансирование на грани реальности и неповторимая ирония». Это наблюдение справедливо, но сама по себе такая констатация находится в рамках традиционного подхода к экранизации как к переводу с литературного языка на киноязык, заведомо неполноценный. Более важным представляется проанализировать – и в конце обзора Грачева делает шаг в этом направлении, – какие именно идеологические изменения происходят в фильме в результате такого упрощения. Сохраняя внешнюю канву сюжета, Сахаров перекодирует пушкинский текст: усиливает его патриотическое звучание, подчеркивает тему национальной гордости и акцентирует преимущества русского в конфликте между своим и иностранным. Жанр легкой, лирической, будто бы неидеологизированной комедии с эротическими элементами скрывает за собой мягкое утверждение национальной идеи. В целом в фильме Сахарова намечены тенденции, которые разовьются в последующие десятилетия в спонсированных государством экранизациях: сохраняя иллюзию точного прочтения текста и уважения к классике, адаптации будут более или менее тонко редактировать ее с учетом актуального политического запроса: усиливать темы противостояния Западу, российской исключительности и превосходства. Развернувшиеся вокруг «Барышни-крестьянки» споры «о судьбах России» подтверждают, что, несмотря на мнимое простодушие, фильм является не таким уж трогательно-безобидным. Считая, что публика «пропускает мимо ушей» разговоры о судьбах России, критики недооценивают и публику, и силу непрямого внушения.
Рассмотрим, каким именно образом авторы фильма – Житинский и Сахаров – переписывают пушкинскую «Барышню-крестьянку», обходясь без слишком заметных изменений, но сдвигая существующие акценты и расставляя новые. В первую очередь, они усиливают пародийность европейских черт, снимая при этом самоиронию по отношению к русскому, присутствующую у Пушкина. Этот эффект возникает во многом из‐за исчезновения призмы повествователя – а следовательно, дистанции между автором и простодушным Белкиным, который сам является предметом авторской иронии. Отметим на полях, что эта исчезающая призма повествователя представляет собой проблему для большинства режиссеров, переписывающих Пушкина для экрана – например, для Прошкина в экранизации «Капитанской дочки». В «Барышне-крестьянке» автор оставляет внимательному читателю возможность заметить, что Белкин, объявляющий, что русские провинциальные девушки более самобытны, чем столичные аристократки, погружен при этом в столичную западную культуру: он не только использует для утверждения превосходства русского французское слово individualité, но и сопровождает это заявление цитатой из немецкого автора Жан Поля, разрабатывавшего темы сверхъестественного и двойников.
В самом стремлении утвердить торжество русской идеи на материале «Повестей Белкина» кроется глубокая ирония: их сюжеты глубоко укоренены в европейской литературе, к которой отсылает множество аллюзий. Один из самых важных подтекстов – трагедии Шекспира. Тема связи «Повестей» с Шекспиром давно привлекала внимание литературоведов. Мария Елиферова, в частности, развивает тему «Пушкин и Шекспир» в новом направлении: она убедительно доказывает, что «Повести Белкина» представляют собой не столько пародийную игру с самими трагедиями Шекспира, сколько пародию на отечественную рецепцию его произведений[73]. Елиферова указывает, что типичное представление о шекспировских пьесах в 1830‐е годы у публики складывалось по прозаическим русским переделкам французских переложений, в которых трагедия получала счастливую концовку. Именно такого рода трансформации Пушкин подвергает шекспировские сюжеты. Его Белкин – реципиент «массового» Шекспира: «Барышня-крестьянка» представляет собой комическую инверсию «Ромео и Джульетты»; «Станционный смотритель» реализует сентиментальный вариант «Короля Лира»; «Гробовщик» травестирует «Макбета» в стиле пересказа Андреем Тургеневым шиллеровского перевода в письме Жуковскому[74]. Наконец, «Выстрел» переписывает «Гамлета», известного современникам Пушкина по переводу С. Висковатова, который, в свою очередь, опирался на французскую адаптацию Ж.-Ф. Дюсиса[75].
Таким образом, проблема адаптации и реакции на адаптации оказывается в центре внимания самого Пушкина при написании «Повестей Белкина». Если согласиться с теорией о том, что «Повести» реагируют на популярную версию Шекспира, известную Белкину, легко увидеть, как при удалении иронической дистанции между автором и Белкиным, при превращении в Белкина самого режиссера в сухом остатке остается именно этот самый массовый Шекспир, он же популярный Пушкин. Сюжет, лишенный иронических обертонов, которыми окрашено отношение Пушкина к обеим сторонам, легко трансформируется в повествование о противостоянии чудаковатого западника и патриота-славянофила, заканчивающемся победой русской идеи. Реплики Белкина, согласного с Берестовым в том, что «на чужой манер хлеб русский не родится», отданы именно этому вызывающему авторскую симпатию герою – а потом еще и повторены другим соседом.
Патриотическое звучание фильма усилено объединением «Барышни-крестьянки» с незаконченным «Романом в письмах». Сама по себе эта идея подсказана сюжетными перекличками между двумя произведениями и сходством некоторых пассажей. Принципиально важно, однако, то, в каком именно контексте эти пассажи появляются, с одной стороны, у Пушкина, и с другой – у Житинского – Сахарова. «Роман в письмах» – начало повествования о скучающем светском молодом человеке (Владимире), который приезжает в деревню и стремится произвести впечатление на уездных барышень позой Чайльд-Гарольда. Известно, что в прошлом у него – несчастная большая любовь. Сам он ухаживает за главной героиней – Лизой, приехавшей из Петербурга бедной наследницей древнего аристократического рода, – и, для развлечения, за деревенской барышней Машей, вкус и ум которой он воспитывает. Пушкин, как мы видим, вышивает по одной канве разные узоры: в «Барышне-крестьянке», при всем сходстве экспозиции он предпочитает не развивать этот, склоняющийся к «Опасным связям», сюжет; Алексей, который «за девушками слишком любит гоняться», влюбляясь в Лизу – Акулину, оставляет все другие развлечения.
Именно из «Романа в письмах» берется материал для монологов и диалогов героев в фильме – однако в новом контексте, без учета того, кем и почему они изначально были сказаны, звучат они совершенно иначе. Например, именно из письма Владимира заимствованы строки о необходимости восстановить славу исторических родов, которыми «никто у нас не дорожит, начиная с тех, которые им принадлежат… ‹…› Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ!» Однако помимо того, что Владимир представлен в «Романе» как очень сомнительный нравственный авторитет, именно в его устах размышления о том, что «семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа», звучат особенно фальшиво: сам он, как мы знаем из письма Лизы, – «внук бородатого мильонщика». В фильме же эти слова отданы старшему Берестову, который произносит их на полном серьезе.
Изменяют авторы фильма и некоторые детали биографии Берестова, акцентируя его героический патриотизм, противопоставленный прозападным симпатиям Муромцева. Муромцев, в частности, признается, что никогда не был в военной службе, – а Берестов с гордостью рассказывает, что участвовал в войне с французами и служил под началом Кутузова. Пушкинский Берестов, однако, не имел отношения к российской победе над Наполеоном: он покинул службу в 1797‐м, когда к власти пришел Павел I.
Весь конфликт между семьями отражает диспозицию соперничества между Россией и Западом, и фильм последовательно утверждает превосходство первой над вторым. Берестов и Муромцев противопоставлены друг другу в еде, играх, речи, моде, манерах – и визит гостей в обе усадьбы по очереди подчеркивает их контраст. Еще до появления гостей у Муромцевых демонстрировался скудный английский завтрак с овсянкой. А приехавшие гости с удовольствием вспоминают разнообразные русские кушанья, которыми их потчевали у Берестовых. Муромцев же предлагает другое заморское, «угощение» – крокет. Сосед его бьет по шару размашисто – «по-русски», как он сам объясняет, – и приводит в качестве примера настоящей русской игры городки. Но в ответ на призывы хозяина учиться сдержанности и аккуратности, гостья, поплевав на руки, объявляет: «У России свой путь!» – и одним ударом закатывает шар под всеми воротцами, демонстрируя превосходство русского метода даже «на чужом поле». В конце фильма даже гувернантка мисс Жаксон сдается и начинает играть в городки[76].
Камера подолгу останавливается на традиционных лирических пейзажах средней полосы, заполненных туманом и пением соловьев, а действие в целом разворачивается на фоне торжествующей народности: водевильные дворовые, одетые в национальные костюмы, не разделяют неприязни господ друг к другу и живут собственной жизнью с совместными застольями и играми. При этом они активно участвуют во всех важных событиях, выполняя роль хора: например, радостно приветствуют с крыльца подъезжающую к дому Муромцевых бричку Берестовых.
Постепенно Берестов узнает, что глубоко в душе Муромцев всегда оставался русским: вражда полностью испаряется, когда Муромцев открывает Берестову свой секретный рецепт водки. Мисс Жаксон, несмотря на все старания, не удалось заставить Муромцева отказаться от русской привычки к водке. «Скажи мне, что ты пьешь, и я скажу, кто ты!» – с удовлетворением заключает Берестов. Окончательная победа русского над английским проявляется в трансформациях главных героев: западные атрибуты (таинственное романтическое кольцо, которое носит Алексей, его английский сплин, поза разочарованного Чайльд-Гарольда) оказываются напускными. В конце герои возвращаются к своей естественной русской природе. Можно сказать, что роман между Лизой и Алексеем возможен не столько потому, что Лиза скрывает от Берестова свое аристократическое «я», сколько потому, что она может проявить свое подлинное «я» русской девушки – которое в социальных ситуациях обычно замаскировано английским воспитанием.
В манере, традиционной не только для постсоветских, но и для ранних советских экранизаций классики[77], Сахаров вносит в «Барышню-крестьянку» эротический элемент; сочетание классики, эротики и национальной идеи будет пользоваться большим спросом и в позднейших адаптациях. Помимо изображения обнаженной женской и мужской натуры – переодевающейся Лизы, крестьянок-купальщиц и присоединившегося к ним Алексея, – разрабатывается и любовная линия «Настя – пастух Трофим» (последний, против пушкинского оригинала, вовсе не стар). Эта линия плотских отношений между слугами развивается, как и положено в комедиях, параллельно с романом Лизы и Алексея. Интересный режиссерский прием здесь заключается в усилении эротического эффекта за счет конструирования подсматривающего взгляда – или, точнее было бы сказать, игрового конструирования намека на такой взгляд: когда Лиза переодевается из крестьянской одежды в свою собственную, зритель видит ее саму и Настю, этим процессом не интересующуюся, но, как мы знаем, на сеновале в это время прячется пришедший на свидание с Настей Трофим, который становится свидетелем этого переодевания.
«Дубровский»: кто является союзником народа?
Многие элементы, из которых строится сюжетная схема «Дубровского», – те же, что и в «Барышне-крестьянке», и также заимствованы у Шекспира: вражда между семьями; любовь детей, развивающаяся вопреки этой вражде; мотив самозванства, благодаря которому возникновение этой любви становится возможным. Но конфликт, который в повести Белкина разрешается комически, здесь имеет несчастливый драматический исход: вражда и разобщенность побеждают. Другим существенным различием является более широкий в случае «Дубровского» социальный план конфликта, вовлекающего в себя народ, то есть жителей Кистеневки, – в качестве активного участника. В этом смысле в «Дубровском», соединяя темы самозванства и народного восстания, Пушкин уже подступает к «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». Элементы структурного сходства особенно ярко проявляют различия между фильмами – и в стиле, и в жанре, и в стратегии экранизации, и в политической позиции автора.