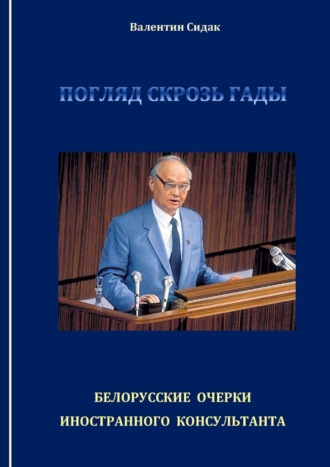
Полная версия
Погляд скрозь гады. Белорусские очерки иностранного консультанта
Но, помимо высокой патетики на мотив известной песни «Не думай о секундах свысока», в ПГУ, как и во всем советском государстве, была еще и обыденная текучка, рутинная бюрократическая работа, от которой тоже никуда не денешься. Особенно та, которая осуществлялась в условиях очень специфического и достаточно заржавелого, но, тем не менее, еще очень надежного и хорошо «защищенного от дурака» механизма советской бюрократии, который в своих основных чертах был фундаментально отстроен еще в сталинские времена. Дело в том, что, по установленному в СССР порядку, правом обращаться в Отдел ЦК КПСС по работе с заграничными кадрами и выездам за границу, за которым было последнее слово в утверждении кадровых назначений для работы в советских загранпредставительствах, располагали исключительно руководители советских ведомств и их заместители. Смешно, конечно, но заместитель главного редактора какого-нибудь центрального печатного органа, имевшего свои представительства за рубежом, к примеру – газеты «Труд» или «Социалистическая индустрия», в кадровом отношении реально обладал бόльшими правами и полномочиями, чем начальник всей советской внешней разведки. И неважно при этом, что один (а порой и не один) из заместителей главного редактора этой самой газеты, или журнала, или редакции радио с телевидением являлся кадровым сотрудником КГБ, офицером действующего резерва младшего или среднего оперативного звена. И хотя в масштабах всей внешней разведки он был бесконечно малой кадровой величиной, замыкавшейся в своей основной (а не «крышевой») служебной деятельности даже не на руководителя подразделения, а на обычного рядового сотрудника Управления «РТ» (разведка с территории) – все равно в нашем кривом, однобоком, искаженном бюрократическом зеркале он был более самостоятельным в своих действиях и принимаемых решениях руководителем, чем его гораздо более высокопоставленные коллеги и начальники в «лесу».
Естественно, что в подобных условиях основной куратор ПГУ – Председатель КГБ СССР – был просто физически не в состоянии даже не то, чтобы рассматривать, но даже механически подписывать сотни кадровых представлений в Отдел ЦК КПСС по работе с заграничными кадрами и выездам за границу. Лично он занимался исключительно назначениями резидентов и руководителей представительств КГБ на «крышевые» должности. Все остальные текущие представления, начиная с заместителя резидента и ниже, подписывал один из заместителей Председателя КГБ, как правило – заместитель по кадрам. Но этим же правом также обладал и стал активно пользоваться один из первых заместителей главы ведомства. Вот тут-то и образовался очевидный «кадровый тромб», который вплоть до 1978 года никак не мог и не хотел самостоятельно рассасываться. Был он связан с весьма колоритной фигурой первого заместителя Председателя КГБ СССР, свояка или шурина (не знаю, как правильно) генсека Л.И.Брежнева Григория Карповича Цинёва. Он был, на мой взгляд, одним из наиболее ярких и наглядных примеров брежневского самодурства в кадровой политике, хотя во многих других сферах управления страной Леонид Ильич проявил себя очень мудрым, взвешенным и дальновидным руководителем. Это был, к сожалению, абсолютно тот же стиль выдвижения руководящих кадров, что и назначение своего зятя, мужа Галины Брежневой, заведующего сектором охраны общественного порядка ЦК ВЛКСМ (аналог отдела административных органов ЦК КПСС) Юрия Чурбанова вначале на генеральскую должность в политуправление 8 Главного управления («спецмилиции») МВД СССР, а впоследствии и его выдвижение на пост первого заместителя министра Н.А.Щелокова, тоже прямого брежневского выдвиженца и одного из наиболее доверенных лиц генсека. Между прочим, на фотографии 1970 года в Георгиевском зале Кремля я, тогдашний заместитель начальника охраны XVI съезда ВЛКСМ, стою с только что врученным мне прямо тут же, в гербовом фойе Кремлевского дворца съездов Почетным Значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» на лацкане куртки, бок о бок с Ю. Чурбановым непосредственно позади тогдашнего первого секретаря ЦК ВЛКСМ Б.Н.Пастухова.
Г.К.Цинёв стал заместителем Председателя КГБ при Совете Министров СССР в августе 1970 года, как раз вскоре после этого комсомольского форума. Мой предшественник по работе в Управлении делами – Секретариате КГБ СССР генерал-майор Н.В.Губернаторов, в течение ряда лет работавший помощником Ю.В.Андропова, в своей книге «Команда Андропова» дает Г.К.Циневу в целом положительную оценку. Вот что он писал: «Георгий Карпович Цинёв был личностью широкого масштаба вопреки тому, что бы и как бы ни говорили о нём его недоброжелатели. Не таким уж простым человеком был Георгий Карпович, как иногда о нём пишут и говорят. Георгий Карпович Цинёв очень любил дисциплину, порядок, был справедлив и честен перед людьми. Он был человеком весьма осведомлённым и хорошо понимал контрразведку, хотя, по мнению ряда признанных контрразведчиков, отнести его к числу выдающихся деятелей контрразведки было бы не совсем правильно. Он был твёрд в своих решениях. Был строг. Доверял молодым работникам, делал на них ставку. Был предан службе». Уважаемый Николай Владимирович имеет, конечно, собственные веские основания для подобных оценок деятельности Г.К.Цинёва в Комитете государственной безопасности. Полный и беспросветный бардак, который «кукурузник» Н.С.Хрущев устроил во всей сложной, тонкой, структурно очень разветвленной и тщательно продуманной системе органов безопасности советского государства в отместку двум «мертвым львам» – И.В.Сталину и Л.П.Берии, после него разгребали еще лет двадцать. Но так до конца и не разгребли вплоть до гибели Союза ССР в 1991 году. Любой человек, который был способен хоть как-то противодействовать этому откровенному кадровому мордобою в органах госбезопасности и неприкрытому позору советского государства, в том числе и Г.К.Цинёв, многими воспринимался тогда на «ура», чуть ли не как некий «мессия».
Дело в том, что одним из главных откровенно мерзостных деяний Хрущева, а отнюдь не его ошибкой, просчетом или заблуждением, было то, что он фактически приравнял по своей политической значимости КГБ при СМ СССР к Центральному комитету ВЛКСМ. Если судить уже только по этому его поступку – полный клинический идиот был, конечно, но об этом почему-то до сих пор предпочитают скорее помалкивать или говорить очень приглушенно, «под сурдинку». А ведь тогда целое поколение чекистов выросло и получило закалку на хрущевско-комсомольской показухе выпускника Московского института философии, литературы и истории им. Чернышевского, 40-летнего комсомольского вожака А.Н.Шелепина и его 37-летнего преемника на обеих постах (и в комсомоле, и в КГБ) В.Е.Семичастного. Это с их подачи «борьба с диссидентами» подменила реальную борьбу с постоянно возраставшим проникновением спецслужб противника к источникам сокровенных тайн советского государства.
Именно в те времена в высших сферах военно-политического руководства страной появились неправомерно осведомленные обо всех тайнах предатели Родины типа в общем-то рядового сотрудника ГРУ, но зато зятя генерал-лейтенанта Д.А.Гапановича и протеже главного маршала артиллерии С.С.Варенцова Олега Пеньковского. Тогда же начали свой шпионский полет будущий генерал-майор ГРУ Д.Ф.Поляков – самое удачное до сих пор агентурное приобретение американцев, и ушедший в иной мир неразоблаченным Герой Советского Союза, сотрудник Нью-Йоркской резидентуры КГБ А.И.Кулак.
Но самым печальным было то, что лакейское низкопоклонство тогдашних чекистов-«комсомольцев» перед руководством партийных органов всех уровней сделало позднее невозможным, нереальным, практически неосуществимым разоблачение многих потенциальных недругов Советской Родины, начиная от члена Политбюро ЦК КПСС А.Н.Яковлева, на которого в КГБ СССР накопилось целое досье оперативных материалов, и заканчивая самим руководителем партии и государства М.С.Горбачевым, на которого некоторые настораживающие сведения добыли оперативным путем немецкие друзья. Причем не по линии широко разрекламированного сейчас в СМИ восточногерманского «супер-шпиона» Маркуса Вольфа, а по никому неведомым до сих пор каналам Героя Советского Союза и дважды Героя ГДР, выходца из структур Коминтерна Эриха Мильке.
Прежде чем вновь перейти к личности Г.К.Цинёва, мимоходом отмечу следующее. Н.В.Губернаторов, А.Е.Евсеев, Л.К.Корнешов, Г.П.Молодая являются авторами книги «Гордон Лонсдейл: моя профессия – разведчик». В предисловии к этой книге пишется: « Почти два десятилетия назад советский разведчик Конон Трофимович Молодый обратился к нам, двум журналистам и учёному, с просьбой помочь привести в порядок его записи, воспоминания, некоторые документы из личного архива. Цель этой работы он определял совершенно ясно: будущая книга о его жизни и профессии. Конон Молодый откровенно рассказал нам, что до этого плодотворного сотрудничества с другими журналистами у него не получилось: «Они пытаются изобразить мою жизнь как приключения, а у меня была тяжёлая, порою однообразная работа». Мы встретились. Встреча эта состоялась в «Комсомольской правде», где тогда работал один из нас». Я читал всего лишь некоторые отрывки из этой книги, поэтому обо всей книге в целом судить не могу – вроде бы, она удалась авторам. Но здесь я хотел бы подчеркнуть совсем другое. За что лично я испытываю глубочайшее – как профессиональное, так и человеческое – уважение к Конону Трофимовичу Молодому? А вот за что.
К 65-летию советской внешней разведки была издана т. н. библиотека молодого чекиста-разведчика, я реферировал буквально каждую книгу этой серии перед ее докладом В.А.Крючкову. Все издания этого выпуска имели очень ограниченный тираж, несли соответствующий гриф секретности и предназначались преимущественно для учебно-тренировочных целей при подготовке разведчиков, в основном нелегального звена. Каждое издание представляло собой воспоминания того или иного разведчика (как нелегала, так и сотрудника разведки под легальным прикрытием). В них без раскрытия оперативных подробностей (и тем более установочных данных агентуры) «задним числом», с учетом всех полученных позднее сведений проводился своеобразный оперативный «разбор полетов». Подробно анализировалось, что было сделано удачно и поэтому достойно дальнейшего использования. Или в чем заключалась суть оперативного промаха или допущенной оперативным работником ошибки, приведшей в целом ряде случаев к провалам запланированных разведывательных операций. К.Т.Молодый, которого, к сожалению, в тот период уже не было с нами, в отличие от многих своих коллег-нелегалов описывал происшедшее с ним абсолютно честно, объективно и всесторонне, без какой-либо попытки сгладить упущения или представить себя и свое поведение в ходе разведывательной операции в наиболее благоприятном свете. Честь ему и хвала за столь достойное поведение многоопытного профессионала! Уверен – он не одного молодого разведчика отвратил тем самым в будущем от беды.
К чему я все это вспомнил? А вот к чему: сапоги должен тачать сапожник! Н.В.Губернаторов – по своему профилю следователь, вот и пиши себе на здоровье о Г.К.Цинёве, который был куратором следствия в органах госбезопасности. Это будет и честнее, и объективнее, и правдивее. Не могут будущие разведчики обучаться на многочисленных литературно-публицистических произведениях расплодившихся сейчас бытописателей разведывательной деятельности типа Н. Долгополова. Там фантазий, аккуратно причесанной и бережно отлакированной выдумки зачастую содержится больше, чем голой, неприкрытой и порой очень неудобной правды. На литературных экзерсисах М.П.Любимова тоже учиться вряд ли стоит, ведь вышедший из-под его пера бумажный мусор – это откровенная саморекламная продукция, даже если для непрофессионалов она внешне выглядит очень даже внушительно и весомо.
Возвратимся к фигуре Цинёва. Решение о смещении с должности Председателя КГБ СССР В.Е.Семичастного и назначении вместо него Ю.В.Андропова было принято по предложению Л. И. Брежнева единогласно на заседании Политбюро ЦК КПСС в мае 1967 года. Семичастный в работу разведки и контрразведки не вникал, да особо даже и не пытался. Подготовкой и обновлением чекистских кадров тоже не занимался, считая, что комсомольский задор и боевой натиск и без того поможет добиться успеха его выдвиженцам. Многочисленные заседания, на которых Семичастный периодически выступал с пустыми и трескучими речами, только раздражали опытных чекистов. Когда Семичастного сняли с должности Председателя КГБ и отправили на Украину одиннадцатым (!) заместителем главы республиканского правительства, большинство кадровых работников КГБ восприняло это с воодушевлением, и Ю.В.Андропов в дальнейшем не обманул их надежды и ожидания. Через несколько дней заместителями Ю.В.Андропова были назначены С.К.Цвигун, Г.К.Цинёв и А.Н.Малыгин, которые заняли смежные кабинеты на четвертом этаже основного здания на Лубянке.
Георгий Карпович Цинёв приходился родственником Л.И.Брежневу и имел неофициальный статус его доверенного человека в органах, лично докладывая ему обо всём происходящем в КГБ. «Цинёв имел независимые прямые выходы на Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева, что заметно осложняло работу КГБ, особенно по кадровой линии», – отмечал генерал-лейтенант И.Л.Устинов. Военный контрразведчик генерал-майор Б.В.Гераскин вспоминал позднее: «Цинев, в противоположность Цвигуну, невысокого роста, обыденной внешности, всегда с наголо бритой головой. Человек живого ума, не лишенный проницательности, весьма энергичный и подвижный. В нем уживались простота, доступность и обманчивая открытость с капризностью, непредсказуемостью, восприимчивостью к сплетням, властолюбием и болезненным стремлением постоянно быть на виду… Цинев никогда ничего не забывал, глубоко таил в себе недоброжелательство и всегда находил возможность свести личные счеты». Могу к этому наблюдению добавить следующее. Когда в 1987 году на коллегии КГБ рассматривался вопрос о случаях нарушения «социалистической законности» в работе Третьего главного управления и органов военной контрразведки на местах все отлично понимали, что претензии нужно предъявлять в первую очередь не генерал-полковнику Н.А.Душину, которого после этого сняли с должности и отправили на пенсию, а к сидящему здесь же в зале другому члену Коллегии, первому заместителю Председателя КГБ генералу армии Г.К.Цинёву. Именно он на протяжении нескольких десятилетий был бессменным куратором работы военных контрразведчиков – наследников легендарного «Смерша», и всячески настраивал их на массовое выявление потенциальных предателей и шпионов среди военнослужащих любой ценой, в том числе и путем организации откровенных провокаций.
Должен сказать, что куратор военной и обычной контрразведки Г.К.Цинёв попортил немало крови и начальствующему составу, и рядовым оперативным сотрудникам центрального аппарата. Пока до переезда в Ясенево разведка теснилась в помещениях на 7-м этаже основного здания на Лубянке, именно Цинёв добился от Андропова и Федорчука распоряжения, чтобы в основном здании все военнослужащие ходили на доклад к высшему руководству исключительно в мундирах и соблюдали при этом все положенные по Уставу Вооруженных Сил СССР требования. Немало сотрудников центрального аппарата, в том числе и ПГУ, пострадали в тот период за неотдание ему воинской чести, за помятый мундир, за нечищенную обувь и за многие другие незначительные прегрешения. Самодур, больше ничего добавить не могу. В Краснознаменном институте КГБ месяцами целенаправленно выбивали дух «сапогов» (прошу извинения у кадровых военных за этот слэнг), который мог бы привести к расшифровке разведчика в его конспиративной работе за рубежом (и, увы, порой действительно приводил). Когда разведка стараниями Ю.В.Андропова перебралась на постоянное жительство в «лес», в Ясенево, многие вздохнули с явным облегчением.
Между прочим, известное сейчас «подмосковное Лэнгли» в Битцевском лесном массиве вовсе не было построено специально для нужд разведки, как думают и даже утверждают многие. Оно досталось ПГУ во многом случайно, в результате поразительной гибкости, отменной маневренности и мгновенной управленческой реакции Ю.В.Андропова. За создание этого административного, учебно-тренировочного и жилого комплекса в лесу, между прочим, большой коллектив архитекторов и строителей получил Государственные премии СССР (или Совета Министров СССР, не помню точно), поскольку он был признан образцовым примером удачного масштабного градостроительного решения без нанесения весомого ущерба окружающей среде. Помнится, еще в 1976—1978 гг. я утром по дороге в здание собирал мимоходом белые грибы и вовсю кормил «вкуснятиной» многочисленных белочек. Это сооружение было построено по заказу Международного отдела ЦК КПСС как комплекс загородных зданий для так называемой «ленинской школы». Это было условным названием известной еще со времен Коминтерна богадельни по подготовке партийного актива коммунистических партий и левых организаций ряда стран, находившихся у себя на родине на нелегальном или полулегальном положении. Кстати, подземный тир для стрельбы из боевых видов оружия там с самого начала был одним из лучших в стране. Насколько я припоминаю из рассказов сослуживцев, руководители международного отдела во главе с М.А.Сусловым и Б.Н.Пономаревым уже на финальной стадии строительства комплекса вдруг стали недовольно крутить носом ввиду его очевидной территориальной удаленности от Старой площади и отсутствия обещанной сотрудникам удобной транспортной инфраструктуры. Кто-то во время «слил» эту ценную информацию Андропову, и тот сразу же оценил всю прелесть этого загородного объекта, на территории которого, кстати, был позднее посажен фруктовый сад его имени.
Одним словом – веселый был человек Георгий Карпович, к нему сам Ю.В.Андропов не без оснований относился с явной опаской. Когда в 1978 году три новоиспеченных заместителя председателя КГБ «уползли» все же из-под его очень назойливой опеки, а сам он «в утешение» через месяц получил маршальскую звезду, «кадровый тромб», наконец-то, рассосался. В.А.Крючков получил возможность самостоятельно, уже от своего имени подписывать многие письма, обращения и другие документы в Инстанции. Но не это было главным. Принципиально важным было то, что В.А.Крючков в своем новом качестве зампреда КГБ вошел в состав двух важнейших правительственных органов – Военно-промышленной комиссии (ВПК) Совета Министров СССР и Комиссии по новой технике (КНТ) при Совете Министров СССР. Впоследствии в том же качестве он стал полноправным членом еще двух правительственных органов – Комиссии СМ СССР по вопросам Арктики и Антарктики и Комиссии СМ СССР по вопросам мирового океана, морского дна, шельфа и прибрежной зоны. Все это было напрямую связано с деятельностью как научно-технической, так и политической и даже нелегальной разведок.
До 1985 года ВПК возглавлял зампред правительства СССР Л.В.Смирнов, который, как и сам Крючков, был избран в марте 1984 года депутатом Верховного Совета СССР 11 созыва. На мой субъективный взгляд, он был гораздо более глубоким по своим масштабам видения и принятия решений руководителем ВПК, чем его преемник Ю.Д.Маслюков. Могу судить об этом по документам, которые довелось прочитать. Но тут уж «архитектору перестройки» М.С.Горбачеву было, как говорится, виднее – все карты у него были на руках и в запасной колоде тоже. В ноябре Комиссия Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам (ВПК) была преобразована в Государственную комиссию Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам в качестве постоянно действующего органа, осуществлявшего руководство единым комплексом оборонных отраслей промышленности. В ее состав вошли девять министерств (знаменитая «девятка») – авиационной промышленности, машиностроения, оборонной промышленности, общего машиностроения, промышленности средств связи, радиопромышленности, судостроительной промышленности, среднего машиностроения и электронной промышленности. Тем самым роль В.А.Крючкова, как постоянного члена этой госкомиссии, еще более возросла. Вот как раз с позиций своего членства в ВПК и КНТ новоизбранный депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва Владимир Александрович Крючков и стал успешно осуществлять свою многогранную и плодотворную деятельность по оказанию содействия не только жителям Минского (сельского), Червенского, Пуховичского и Логойского районов Минской области Белорусской ССР, но и всему народно-хозяйственного комплексу Белоруссии в целом.
Я здесь приведу лишь несколько конкретных эпизодов его деятельности в научно-технической сфере, но, думается, они дадут весьма наглядное представление о подходах Владимира Александровича к вдумчивому и бережному отношению к потреблению того огромного материального и интеллектуального богатства, которое добывалось за рубежом по каналам НТР (научно-технической разведки). Здесь были свои особые правила, свои источники поступления, свои специфические задачи, своя собственная отчетность и даже свои особые каналы реализации в виде так называемых «Отделов специнформации» в профильных министерствах и «групп специнформации» в головных институтах профильных министерств. В тот период шло бурное, по сути скачкообразное, развитие советской радиоэлектроники. В СССР активно работали Министерство промышленности средств связи (Минпромсвязи СССР), Министерство радиопромышленности (Минрадиопром СССР), Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР (Минприбор СССР), Министерство электронной промышленности СССР (МЭП СССР). Во всех этих министерствах работали на уровне заместителей глав ведомств сотрудники научно-технической разведки, у которых в подчинении были очень мощные структуры специальной научно-технической информации, куда поступала на практическую реализацию добытая разведкой информация, образцы изделий, научно-техническая документация, разрозненное и комплектное оборудование и прочие рождественские «дары Дедов Морозов» из НТР. О белорусской радиоэлектронике, в том числе и сугубо военного назначения, я расскажу немного позднее, а сейчас начну с главного – с сельского хозяйства Белорусской ССР.
Белоруссия традиционно развивалась в СССР как крупнейший машиностроительный гигант с упором на преимущественное развитие прежде всего техники сельскохозяйственного и транспортного направлений. В республике выпускались трактора (Минск, Бобруйск, Витебск), зерноуборочные комбайны (Гомель), грузовые автомобили (Минск, Могилев), карьерные самосвалы (Жодино), автобусы (Минск) и тягачи (Минск). С описания машиностроительного комплекса, пожалуй, и начнем.
В СССР, где, казалось бы, в условиях строгой плановой экономики по определению не может быть монополизма, на самом деле такой монополизм существовал и даже кое-где расцвел густым махровым цветом. Причем в самой грубой и извращенной его форме, в форме тотального подавления любых потенциальных конкурентов. Так было и в производстве комбайнов – наиболее востребованных в стране самоходных транспортно-уборочных агрегатов, особенно в условиях ежегодного дефицита кормового зерна для производства мясо-молочной продукции. Именно того самого молока и мяса, по производству которого «на душу населения в стране» Н.С.Хрущев весь период своего правления все грозился догнать и перегнать США. Звали этого монополиста «Россельмаш» (или, точнее, «Ростсельмаш»). На современном сайте завода пишется очень скромно и обтекаемо: «Само предприятие, как и его работники, также получило много наград, но ключевыми из них принято считать три: орден Трудового Красного Знамени (1930 г.), орден Ленина (1956 г.), орден Октябрьской Революции (1971 г.)». На деле же Ростовский завод сельскохозяйственного машиностроения был самым орденоносным предприятием Советского Союза – на его трудовом знамени было одиннадцать (!) различных государственных наград СССР.
Надо сказать, что еще со времен великого путаника Н.С.Хрущева в сельскохозяйственном машиностроении Советского Союза стал твориться неописуемый бардак, который закончился лишь с бесславной гибелью самого СССР. С 1961 по 1978 год в стране существовала «Союзсельхозтехника» с очень длинным и непонятным названием – Всесоюзное объединение по продаже сельскохозяйственной техники, запасных частей, минеральных удобрений и других материально-технических средств, организации ремонта и использования машин в колхозах и совхозах. Руководил этой хитрой конторой, этим очередным «чиновным облаком в штанах» какой-нибудь очередной не слишком видный и не очень заметный назначенец в ранге Министра СССР. В 1978—1985 годы ее заменила Госкомсельхозтехника – Государственный комитет СССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства. А в 1985 великий реформатор советской экономики по фамилии Горбачев придумал невиданный ранее производственно-сельскохозяйственный монстр под названием Госагропром СССР.
В период с 1980 г. по 1988 г. пост министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (сельскохозяйственного и тракторного машиностроения) СССР занимал Герой Социалистического Труда (1985) А.А.Ежевский, который в 1951—1953 гг. был директором Алтайского тракторного завода в Павлодаре, а в 1953—1954 гг. директором Ростовского завода сельскохозяйственного машиностроения «Ростсельмаш». Он же в 1957—1962 гг. – заместитель начальника, а затем начальник отдела автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Госплана СССР, в 1962—1978 гг. – начальник Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника», в 1978 -1980 гг. – председатель Государственного комитета СССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства. Короче говоря, сельскохозяйственное машиностроение в СССР в течение десятилетий прочно и устойчиво ассоциировалось с именем А.А.Ежевского.



