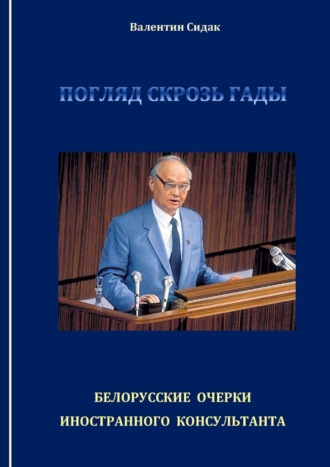
Полная версия
Погляд скрозь гады. Белорусские очерки иностранного консультанта
В.А.Крючкова сделал депутатом советского парламента лично Юрий Владимирович Андропов, у которого Владимир Александрович был одним из наиболее приближенных и наиболее доверенных лиц на протяжении очень длительного периода времени. Несколько ранее (в 1978 году) тот же Ю.В.Андропов перевел должности начальников трех главных управлений (Первого (ПГУ) и Второго (ВГУ) главных и Главного управления погранвойск (ГУПВ) в ранг заместителей Председателя КГБ, что впоследствии дало возможность В.А.Крючкову (тогда еще зампреду и руководителю советской внешней разведки) на волне афганских событий стать генералом армии в январе 1988 года.
Когда заместитель председателя КГБ СССР – начальник ПГУ КГБ СССР В.А.Крючков по воле Ю.В.Андропова и при поддержке избирателей четырех районов Минской области стал депутатом Совета национальностей от Минского (сельского) избирательного округа, ему срочно понадобился референт (помощник) по депутатской линии. Как уж там кадровики решали этот вопрос – не знаю, но вскоре меня вызвали к начальнику секретариата ПГУ Юрию Михайловичу С. и после соответствующей беседы сразу же повели «на смотрины» к депутату. Причем в ту часть служебных помещений разведки, куда мы, рядовые работники, и глядеть-то лишний раз опасались, а не то, чтобы ходить там по коридорам. Максимум раз в год попадешь туда по разнарядке в качестве помощника оперативного дежурного Главка – и все. Разве что за ежедневными «тассовками» туда периодически бегали…
Так состоялось мое личное знакомство с Владимиром Александровичем, в ближайшем окружении которого мне довелось проработать более 7 лет. Больше этого срока в его в «ближний круг» входил только работник секретариата ПГУ Николай Федорович М., который к августу 1991 года стал начальником Приемной Председателя КГБ СССР. Он проработал с Крючковым без малого четырнадцать лет и был единственным человеком, который сопровождал Владимира Александровича в его относительно немногочисленных зарубежных поездках в социалистические страны и в Финляндию, а также во время очень многочисленных и достаточно регулярных посещений Кабула – столицы Демократической Республики Афганистан. Мне с Крючковым за рубеж не довелось съездить ни разу – только в Белоруссию, только на встречи депутата со своими избирателями, а также еще совсем немного по чекистским делам по Союзу – в Свердловск, например, на зональное совещание руководящего состава регионов Урала и Западной Сибири, и в Литву. Лишь один единственный раз «проклюнулась» возможная поездка в ГДР, даже служебный загранпаспорт кадры мне выправили – однако поездка сорвалась буквально в самый последний момент, уже и не припомню сейчас, по какой причине это произошло.
По моим наблюдениям, самым доверенным лицом В.А.Крючкова в разведке, его негласным советником и непременным спутником в ежедневных пеших прогулках со служебной дачи на работу был недавно скончавшийся Геннадий Федорович Титов, один из моих предшественников на посту помощника начальника ПГУ. Но это уже совсем другой расклад – это был яркий пример творческого сочетания личного со служебным. Крючков мог кого-то внимательно выслушать, но поступал при этом всегда по-своему. И лишь Титов как-то умудрялся – не раньше – так позже, не мытьем – так катаньем – добиваться нужного ему результата путем активного задействования богатого арсенала отработанных психологических приемов. Прямо какой-то ходячий Дейл Карнеги с устойчивой подпольной кличкой среди оперсостава – «крокодил Гена»!
Какое впечатление на меня произвел Владимир Александрович во время первой встречи? Говорю честно, положа руку на сердце и абсолютно искренне – точно не помню! Представьте себе сами: из кабинета начальника секретариата ПГУ (что уже само по себе было необычно) тебя вдруг сразу, без какой-либо подготовки тащат неизвестно зачем и неизвестно с какой целью в святая-святых разведки. Прямиком в кабинет зампреда КГБ и начальника ПГУ – интересно, как бы вы сами на это среагировали? Вот и я точно так же – был сплошной мандраж, да и только. Хотя Крючкова, как коммуниста нашей парторганизации (он стоял на партийном учете в 5-м географическом (линейном) отделе) я несколько раз видел, но не более того. Ну, платит партвзносы коммунист – и ладно. Крючков абсолютно не терпел холуйских предложений «снизу» сдавать для удобства партвзносы в своем кабинете, хотя порой это все же и происходило ввиду его жуткой, просто сверхчеловеческой занятости и неимоверной загрузки по работе.
Одним словом, уж не знаю почему, но Владимиру Александрову я как-то глянулся, и он дал команду на мое оформление в секретариат ПГУ на несуществующую должность «референта депутата в кадровом статусе направленца». Ничего путного из этого, в конечном итоге, не вышло, и уже через пару недель он сам дал команду оформлять меня уже на штатную должность «помощник начальника ПГУ». На которой до меня работало всего четыре сотрудника: помощник Ф.К.Мортина Гений Евгениевич К., помощники В.А.Крючкова Геннадий Федорович Титов, Валентин Антонович А. и Юрий Александрович К., а после меня работал только помощник Л.В.Шебаршина Юрий Васильевич Г. – вот и все: история этой достаточно редкой и экзотической должности «помощник начальника советской внешней разведки» на этом благополучно закончилась.
По указанию Крючкова я быстро составил перечень потребных для обеспечения его депутатской деятельности вещей: начиная от организации общественных приемных депутата во всех четырех райисполкомах (Минском, Червенском, Пуховичском и Логойском), организации регулярной доставки в Москву всех региональных печатных изданий – начиная от официальной республиканской «Белорусской правды» и заканчивая районными типа «Уперад» («Вперед»), установления бесперебойной связи с первыми секретарями РК КПБ и председателями райисполкомов, а также с другими абонентами в республике. В последнем вопросе Владимир Александрович проявил неслыханную щедрость: через Управление правительственной связи меня включили в список абонентов очень хитрой системы Министерства связи СССР – по паролю я мог выйти на связь с любым абонентом не только в СССР, но, при необходимости, хоть в Австралии. Естественно, я никогда этим не злоупотреблял, но с моего служебного телефона, бывало, заместители начальника ПГУ периодически звонили куда-то по нужным им делам. Очень хитрая была система, позвонить можно было куда угодно, лишь бы туда тянулись железнодорожные рельсы, линии электропередачи, провода электро- или радиосвязи, внутриведомственной связи и прочая инфраструктура с любым металлом. Однажды мне пришлось на деле испытать все потенциальные возможности этой системы и ухитриться «перехватить» Крючкова во время его поездки по служебным делам где-то глубоко в провинции, буквально возле будки стрелочника на железнодорожном переезде – все четко сработало! Это сейчас проблем с мобильной и спутниковой связью никаких – звони хоть из Арктики, хоть с Антарктики, а тогда – лишь проводная да релейная связь на открытых каналах.
Одним словом, никаких организационных трудностей у меня тогда не возникало, все делалось в режиме наибольшего благоприятствования и в кратчайшие сроки. Свободно владея родным мне украинским языком, я быстро овладел навыками понимания смысла заметок в местной белорусской прессе. А если возникала такая необходимость, у меня всегда были под рукой пара оперативных работников – белорусов по национальности плюс еще одна преподавательница на языковых курсах, которые обеспечивали уже грамотный, официальный перевод нужной заметки для последующего доклада Крючкову. Следил он за всем этим очень пристально и дотошно. Иногда, бывало, получив по служебным каналам информацию из Минского УКГБ, спрашивал у меня на предмет «проверки бдительности»: «А что там недавно произошло на таком-то предприятии (или в колхозе) Пуховичского района, Вы не слышали?» и, получив развернутый ответ, как правило, говорил: «Следите за этим и дальше, если будет что-то новое – незамедлительно докладывайте».
В первую депутатскую поездку в округ с ним отправился Николай Федорович М., я же поехал, наверно, где-то через полгода, не ранее. В поездках с Владимиром Александровичем было одновременно и легко, и, вместе с тем, крайне сложно. Все организационные моменты он решал, как правило, самостоятельно, ни на кого не надеясь. Но с обслуживающего персонала ответственности за тщательную отработку всей программы пребывания в округе это никоим образом не снимало. Поэтому поначалу так и получалось: отшлифуешь до блеска все детали программы пребывания, а он дает очередную неожиданную вводную, и все ранее подготовленное летит кувырком. Это, кстати, было очень характерной особенностью Владимира Александровича: даст, скажем, своему аппарату (два его помощника плюс иногда еще и начальник секретариата ПГУ) задание готовить текст своего выступления, скажем, на партийной конференции или на годовом собрании партийного актива Главка. Мы готовим-готовим доклад, пыхтим, спорим друг с другом, периодически уточняем и согласовываем отдельные положения с Крючковым. А в результате он совершенно спокойно откладывает в сторону уже подготовленный и согласованный материал, вылизанный буквально до запятых, вызывает свою стенографистку и заново надиктовывает ей на основании своей знаменитой картотеки собственный вариант, с которым затем и выступает перед чекистской аудиторией. И мы потом, как правило, откровенно признавали: да, у Владимира Александровича получилось гораздо лучше, чем у нашей команды «спичрайтеров ad hoc».
На моей памяти лишь однажды наблюдалось, чтобы он отступил от своих правил и выступал уже не по собственному варианту доклада, а по подготовленному его подчиненными тексту. Это было как раз то самое историческое выступление на закрытом заседании Верховного Совета СССР в Кремле в июне 1991 года, текст которого мне пришлось в авральном режиме сразу с двумя стенографистками «склепать» буквально на коленке за полтора дня. Правда, составлял я его на основе уже ранее подготовленных и сохранившихся неуничтоженными февральско-мартовских наработок и черновиков целой команды в составе пяти человек: В. Лебедева, О. Особенкова, А. Егорова, А. Сидоренко и меня. Тогда, во время своего выступления перед народными депутатами СССР В.А.Крючков, отклонился от напечатанного текста лишь однажды – при зачтении и комментировании известной записки КГБ СССР в ЦК КПСС за подписью Ю.В.Андропова «о приобретении ЦРУ США в СССР агентов влияния».
Что меня тогда больше всего поразило в личности В.А.Крючкова? Прежде всего, его утонченное восприятие настоящей классической музыки. Его истинное, глубокое увлечение театром, особенно драматическим – он не пропускал ни одной стоящей театральной постановки в Москве. Неожиданное для меня увлечение философией (читал он очень много «всякого-разного», но академический научный журнал «Вопросы философии» неизменно штудировал от корки до корки) – делал при этом множество закладок, выписок и комментариев на полях, расшифровками которых затем занималась специальная опытная машинистка-стенографистка секретариата ПГУ. Не менее впечатляло его внимательное отношение к материалам «ОЗП» ТАСС и к закрытым публикациям издательства «Прогресс», а также ежедневное чтение периодических изданий на венгерском языке, которым он владел в совершенстве. К слову сказать, венгерский язык был единственным из европейских языков, за знание которого работникам ПГУ начислялась доплата к должностному окладу в размере не 10, а целых 20 процентов, как и в сложных азиатских языках типа японского, китайского, корейского, урду и пр. Приходишь, бывало, к нему на доклад по вызову, а на приставном столике у начальника лежит несколько последних номеров газеты «Непсабадшаг» или чего-то еще более заковыристого из Венгрии. Наконец, его очень цепкая, потрясающая по объемам накопленных знаний память настоящего интеллектуала-энциклопедиста. Его манера держаться со всеми очень ровно, без ненужных начальственных «выволочек» и чрезмерных эмоций. Всегда очень строго, принципиально и даже, при необходимости, достаточно жестко, но неизменно корректно и исключительно в пределах приличия. За все время нашего знакомства Владимир Александрович при мне «от души» высказался не более двух-трех раз, ненормативный лексикон был абсолютно не в правилах его поведения.
Был он очень внимателен к нуждам и житейским заботам своего близкого окружения. Например, одного работника дежурной службы Главка по своим каналам определил на обследование к знаменитой целительнице Джуне Давиташвили, другому – помог со сложной операцией, поместив его через академика Чазова на лечение в Кремлевскую больницу. Одного заслуженного и очень добросовестного работника секретариата Главка, бывшего сотрудника 15 управления, он настойчиво «пробивал» и, наконец таки добился направления в загранкомандировку – на работу в аппарате Представителя КГБ СССР при МГБ ДРА. Лично мне он серьезно помог дважды. Первый раз – кубинскими лекарствами для лечения сестры после инсульта. Второй – когда моего брата-строителя решили потревожить м… ки из ОБХСС Октябрьского района Москвы в связи с «выявленными случаями хищений в системе коммунально-жилищного хозяйства» района, в котором он был даже не начальником, а всего лишь главным инженером строительного треста. Позднее я уже через сотрудников Московского УКГБ выяснил: продажные менты просто-напросто отрабатывали поступивший от кого-то из их уголовных клиентов, истинных ворюг и расхитителей народного добра заказ на сокрытие и заметание следов совершенного преступления и увод начавшегося расследования в сторону от истинных виновников.
Манера ведения беседы у Владимира Александровича была очень характерной и запоминающейся: он формулировал свои мысли всегда очень четко, стройно, логически очень последовательно, и в силу этого сказанное им вспоминалось потом достаточно легко, даже без рабочих пометок. В конце разговора он, как правило, интересовался, насколько сказанное им было верно и адекватно воспринято собеседником. В целом был немногословен, в высказываниях достаточно осторожен, по телефону разговаривал с собеседниками всегда с доброжелательной интонацией в голосе и с полуулыбкой на лице. Порой удачно, очень к месту шутил, но всегда делал это очень тонко, с хорошим чувством юмора и, конечно, без характерного для некоторых сотрудников КГБ казарменного стиля в выборе объекта для шуток. Анекдоты, особенно ниже пояса, насколько мне помнится, он не жаловал, но и их рассказчиков не обрывал – я это хорошо запомнил по разговорам и беседам в Белоруссии, в иной профессиональной среде.
Знакомство с депутатским округом для меня началось, если не ошибаюсь, с Червенского района Минской области. В Минск мы летели на персональном самолете Председателя КГБ СССР В.М.Чебрикова, он сам его предложил Владимиру Александровичу для депутатской поездки. Дело в том, что в Минске находился авиаремонтный завод гражданской авиации №407, на котором, согласно правилам, периодически проводились регламентные работы самолетов марки Ту-134 внуковского Отдельного авиационного отряда №235, и как раз именно в это время подошел срок проведения очередных работ по ремонту судна. Крючков долго колебался, стоит ли ему лететь спецбортом, раздумчиво говоря при этом: «А что подумают обо мне избиратели округа, если узнают, что их депутат не на обычном рейсовом самолете прилетел?». Но, в конце концов, мы его все дружно, хором все-таки разубедили от такого пессимистического взгляда на вещи. Поселили нас в небольшом, но уютном правительственном особнячке в зеленом массиве где-то неподалеку от реки Свислочь. Оперативный сотрудник Управления «Т» (научно-техническая разведка) ПГУ, который также летел с нами на самолете в Минск этим же рейсом, работал по спецпрограмме, обозначенной ему самим Крючковым, и проживал отдельно от нас, его полностью взяли под свою опеку товарищи из первого (разведывательного) управления КГБ Белоруссии.
Насколько мне припоминается, основные поставленные перед ним задачи были связаны с сельским хозяйством, прежде всего с деятельностью Белорусского НИИ картофелеводства и плодоовощеводства (БелНИИКПО), а также с работой ряда научно-исследовательских хозяйств Белоруссии по селекции элитных пород крупного рогатого скота. Коровы черно-пестрой породы в хороших условиях кормления и содержания обеспечивали удои по 4—5 тыс. литров молока жирностью 3,6—3,8% в год, в то время, как их биологический (генетический) потенциал молочной продуктивности составлял 6,0—7,5 тыс. литров молока за период лактации. По-моему, уже тогда этот работник НТР поехал в Минск не с пустыми руками, а с криоконсервированным семенем (спермой) от целого ряда наиболее продуктивных быков-производителей (голштинской, симментальской и еще каких-то там высокопродуктивных пород скота) со всего мира для организации искусственного осеменения этих самых черно-пестрых белорусских бурёнок…
Город Червень находится в 64 километрах к юго-востоку от Минска на автомобильной трассе Минск – Могилёв. Сам городок небольшой, но древний – первое упоминание о нём датируется 1387 годом. Это земли бывшего Полоцкого княжества, затем Великого княжества Литовского. 28 апреля 1387 года князь Великого Княжества Литовского и король Польши Ягайло специальным привилеем передал своему брату Скиргайле владения на Беларуси, в том числе и поселение Игумен. Обычно название города Игумена (в 1923 году он был переименован в Червень, по-белорусски и по-украински это означает «июнь») объясняют при сопоставлении с нарицательным словом игумен – «настоятель православного монастыря». Это, дескать, было определяющим поводом для переименования города в богоборческие времена на заре советской власти, но на самом деле это, конечно, не так. Этимология этого названия совсем другая, ее корни лежат в искаженном произношении какого-то угро-финского понятия. В окрестностях города хорошо сохранилась природа – здесь расположен Червеньский биологический заказник, на реке Волма расположено огромное рыбное хозяйство – рыбокомбинат «Волма», в котором мы останавливались и с большим удовольствием потребляли свежую рыбу. Меня тут мимоходом спросили при редактировании книги – а не здесь ли сегодня разводят знаменитые «белорусские креветки»? Нет, не здесь, а в Брестской области, в акваториях Березовской ГРЭС, в частности, в водоеме-охладителе теплоэлектроцентрали под названием озеро Белое. Здесь выращивается, кстати, российский подвид пресноводной креветки из Юго-Восточной Азии Macrobrachium nipponense, когда-то случайно завезенной в подмосковный Электрогорск вместе с мальком белого амура, призванного очищать акваторию водоема-охладителя местной ГРЭС-3 им. инженера Р.Э.Классона от излишней растительности.
Из промышленных предприятий мы тогда посетили только единственную в Белоруссии валяльно-войлочная фабрику в городе Смиловичи, которая производила свою высококачественную художественную продукцию преимущественно на экспорт и преимущественно для зарубежных модниц. Взглянули также на остатки очень живописного имения богатого польского магната Ваньковича, хозяевами которого ранее были другие известные магнаты Сапеги, Огинские и Монюшко. Этот дворцово-парковый комплекс появился в Смиловичах благодаря деду известного польского композитора Станислава Монюшко, а сам будущий создатель польской национальной оперы родился и провел свое босоногое детство тоже рядом – в фольварке Убель неподалеку от Смиловичей.
Основная встреча с районным активом и избирателями прошла очень неформально, как-то очень тепло и даже по-семейному доверительно. Я не думал и не предполагал, что Владимир Александрович на встрече с простыми тружениками села сочтет необходимым затронуть специфичную тему работы советской внешней разведки за рубежом. Однако он сделал это настолько умно, тонко и органично в контексте общего завязавшегося разговора, что сразу же вызвал к себе всеобщее доверие и расположение всех присутствующих в сравнительно небольшом зале местного райисполкома или райкома партии. Я потом получил немало писем от участников этой встречи, и все они были единодушны в оценке полезности содержательного разговора с избирателями именно в подобной уважительной тональности. Народ и тогда уже порядком подустал от пустой лозунговой партийной трескотни большинства наших руководителей из верхних эшелонов власти.
Из рассказов червенцев мы узнали очень много интересного и познавательного об их малой родине. По данным переписи 1939 года, во всем Червенском районе проживало всего лишь немногим более 50 тысяч человек, из них порядка 45 тысяч проживали по селам и хуторам, а 6 376 были жителями города Червень. Это был типичный город еврейской черты оседлости, в нем проживало 4 126 белорусов (64,7%), 1 491 еврей (23,4%), 329 русских (5,2%), 132 украинца (2,1%) и 126 поляков (2%). Город был занят немецкими войсками уже через десять дней после начала войны – 2 июля 1941 года и находился в оккупации ровно три года. За этот период оккупанты уничтожили 4 265 человек. Осенью 1941 года на северо-восточной окраине Червеня они создали еврейское гетто, число узников которого составляло примерно 2 000 человек. Кроме местных жителей там были также беженцы из Минска и часть еврейских детей из детского дома, который так и не успели эвакуировать. В воскресенье 1 февраля 1942 года Червенское гетто было полностью уничтожено. Утром, в 6 часов, оно было окружено полицаями, весь город был прочесан в поисках спрятавшихся евреев. Через несколько часов толпу обреченных людей погнали на расправу в урочища Глинище. Из 2 тысяч узников гетто сумели уцелеть лишь около 200. С первых же дней оккупации на территории района создаются подпольные организации и формируются партизанские отряды. На день соединения с частями Красной Армии на территории Червенского района было 35 партизанских отрядов общим количеством 9 897 партизан, объединенных в 8 партизанских бригад: 1-ю Минскую, «Чырвоны Сцяг», «За Савецкую Беларусь», «Разгром», «Полымя», имени газеты «Правда», имени С.М.Кирова, имени Н.А.Щорса.
В эту же поездку белорусские коллеги организовали нам посещение одного из самых старых музеев Минска – Дома-музея I съезда РСДРП. Он был открыт в 1923 году в здании, где в 1898 году была основана Российская социал-демократическая рабочая партия. При открытии музея у дома был проведен праздничный митинг партийных, профсоюзных организаций города и представителей воинских частей, а над самим домом был поднят красный флаг. В довоенное время в музее был восстановлен интерьер мемориальной комнаты, в которой проходил I съезд РСДРП. В нем принимали участие всего лишь 9 делегатов от четырех «Союзов борьбы за освобождение рабочего класса» (Московского, Киевского, Екатеринославского и Петербургского) и Бунда. В экспозиции музея были представлены текст учредительного Манифеста, фотографии его составителей: П.Б.Струве, С. Радченко и А. Кремера, а также художественное изображение заседания съезда с картины М.И.Моносзона и снимки первой экспозиции музея 20-х гг. В первый же год войны во время непрерывных бомбардировок Минска музей был разрушен, а все экспонаты оказались уничтоженными. В январе 1948 г. по постановлению ЦК КП (б) Белоруссии и Совета Министров БССР было принято решение о строительстве музея на месте дома, где проходил Первый съезд РСДРП. К осени 1948 г. на старом фундаменте был восстановлен такой же дом. В 1992 года по решению Совета Министров Республики Беларусь Дом-музей I съезда РСДРП передан Министерству культуры Республики Беларусь и стал филиалом Национального музея истории и культуры Беларуси (современный Национальный исторический музей Республики Беларусь), сотрудники которого в 1995 году создали новую экспозицию (история социалистической идеи). Дом-музей внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как памятник истории.
Еще в период этой поездки состоялось знакомство с Западной машинно-испытательной станцией под Минском, но об этом я расскажу отдельно и более подробно. Из культурной программы для заядлого театрала В.А.Крючкова был организован поход в старейший театр Белоруссии, знаменитый Белорусский драматический театр имени Янки Купалы, где он с огромным наслаждением посмотрел какой-то спектакль с легендой белорусского театрального и киноискусства Стефанией Михайловной Станютой в главной роли.
После первой поездки в округ я еще добрую неделю «лопатил», анализировал и сводил воедино все полученные материалы для подготовки рабочей записки В.А.Крючкова о результатах его поездки и формулирования выводов от встреч с избирателями для последующего направления материалов в аппарат Совета Национальностей Верховного Совета СССР. В этих вопросах он всегда был крайне щепетильным, очень аккуратным, и поэтому его обычный депутатский отчет был всегда ничем не хуже по качеству, чем те аналитические записки разведки, которые за его подписью ежедневно во множестве направлялись в Инстанции.
Я уже писал в своей предыдущей книге («Кукловоды и марионетки»), что несомненной заслугой Ю.В.Андропова как Председателя КГБ СССР и В.А.Крючкова как его заместителя по разведке является то, что они «де-факто» придали ПГУ КГБ СССР статус самостоятельного ведомства в системе политических органов страны, в системе органов исполнительной власти советского государства. Начало этому было положено в 1978 году, когда начальники сразу трех главных управлений – ПГУ, ВГУ и ГУПВ – получили статус заместителей Председателя КГБ СССР. Для разведки, в отличие от контрразведки и погранвойск, это имело особо важное значение, поскольку тем самым сразу же снималась ежедневная головная боль по поводу порядка представления в Инстанции на согласование огромного массива кадровых назначений для работы в совзагранучреждениях. Объясню на вполне конкретном примере. По исторически сложившемуся распределению обязанностей в руководстве Комитета государственной безопасности СССР (или «при Совете Министров СССР») работу внешней разведки (Первого главного управления), как, впрочем, и «девятки» с «пятнашкой», почти всегда лично курировал глава ведомства – и это абсолютно понятно и легко объяснимо, почему был установлен именно такой порядок. Именно здесь скапливались самые сокровенные тайны ведомства, носящие уже не только ведомственный, но и общегосударственный характер. Поэтому никому лишнему, а тем более постороннему, совать сюда свой любопытный нос крайне не рекомендовалось, могли очень больно его прищемить. Это же, кстати, было также основной причиной, по которой Ю.В.Андропов состоял на партийном учете в управлении «С» ПГУ – руководящем органе работой нелегальной разведки за рубежом. Этим его шагом подчеркивалась, с одной стороны, особая значимость внешней разведки для советского государства, а с другой – не нарушались основополагающие принципы конспирации в оперативной работе. Ведь тогда на партийных собрания обсуждались вполне конкретные аспекты работы сотрудников ПГУ, в том числе связанных с обеспечением оперативной работы наших разведчиков-нелегалов за рубежом.



