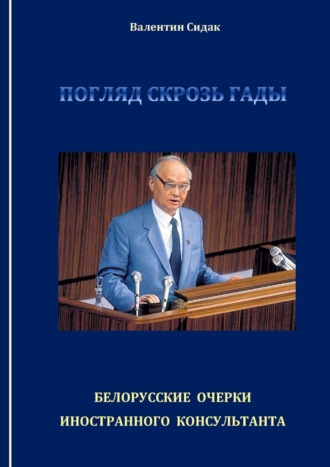
Полная версия
Погляд скрозь гады. Белорусские очерки иностранного консультанта
«Хитом хрущевской оттепели» в сельском хозяйстве страны был ростсельмашевский комбайн СК-4, ставший своеобразной визитной карточкой советского машиностроения и самым массовым советским комбайном (было выпущено более 1,2 млн. единиц этой техники), который в различных модификациях производился вплоть до 2018 года. Хорошенько вдумайтесь только в сам факт. На протяжении более чем полувека крупнейший и по существу единственный в СССР завод по производству зерновых самоходных комбайнов (для колхозов и совхозов Сибири с 1981 года стал выпускаться комбайн «Енисей-1200» производства Красноярского завода комбайнов) производил неуклюжую, малопроизводительную груду металла, имевшую, правда, одно несомненное достоинство: его, при необходимости, мог починить любой не вполне трезвый слесарь на ближайшей машинно-тракторной станции или в машинно-тракторной бригаде.
Конструкторы Ростсельмаша долго тужились, пыжились и, наконец, в 1970 году выпустили первые экспериментальные образцы нового зерноуборочного комбайна СК-5, более известно у нас в стране под названием «Нива». В 1971 году промплощадка Ростсельмаша была объявлена «Всесоюзной ударной комсомольской стройкой» в рамках подготовки к широкомасштабному производству «Нивы» – модели-долгожителя, модифицированная версия которой под маркой Nova производится и сегодня. Вот только главный инженер завода, а с 1978 года – генеральный директор «Ростсельмаша» Юрий Песков «Ниву», как позднее выяснилось, почему-то не любил и в глубине своей инженерно-конструкторской души вынашивал идею создания совсем другой зерноуборочной машины. Вот что он говорил уже в современной России: «Это была не та машина, которая нужна нашему сельскому хозяйству! Однажды был на испытаниях, где среди импортных комбайнов была представлена наша «Нива». И когда я увидел, как работают они, и как – наш комбайн, я не выдержал: «Да на кой черт он нужен! Я с ним пять лет промучился, но такая машина никому не нужна!». Конечно, запоздало оказался прав Юрий Александрович, да вот только после боя кулаками не машут.
Как руководство «Ростсельмаша» ради продвижения своей новой перспективной модели комбайна «Дон-1500» угробила действительно талантливое детище своих коллег-машиностроителей из Таганрога под названием «Дон-Ротор» – об этом специалисты еще долго будут вспоминать и при этом откровенно плеваться от возмущения. Да, «Дон-1500» стал первой в мире зерноуборочной машиной с размером барабана 800 мм, несколько повышавшего производительность комбайна и позволявшего работать на «трудных» хлебах. Да, в кабине этого комбайна уже был кондиционер, что по меркам и представлениям 80-х гг. превращало его в настоящий «комбайн мечты» для тружеников села. Но в остальном – очень даже «так себе» в сравнении с западногерманскими «Клаасами», американскими «Джон Дирами», не говоря уже о голландских «Нью Холландах»… Комбайн зерноуборочный самоходный «Дон-Ротор» КТР-10 (практическая реализация целой серии более ранних наработок команды легендарного конструктора из Таганрога, лауреата Ленинской премии Ханаана Ильича Изаксона) был предназначен для уборки зерновых колосовых культур. При оборудовании комбайна специальными приспособлениями он позволял убирать кукурузу на зерно и зерностержневую смесь, подсолнечник, семенники трав, зернобобовые и крупяные культуры, сорго, люпин – то есть он был универсальным по сферам своего применения агрегатом. Таганрогский «Дон-Ротор» отличался от ростовского «Дон-1500» наличием в комбайне роторного молотильно-сепарирующего агрегата с измененной системой привода рабочих органов. За счет этого обеспечивалась высокая производительность при уборке зерновых культур и минимальные потери зерна, при этом уменьшалось его дробление и достигалась конечная чистота зерна в бункере. Благодаря особой конструкции молотильно-сепарирующего агрегата комбайн позволял убирать сельскохозяйственные культуры повышенной влажности почв и при неблагоприятных погодных условиях. Пропускная способность молотилки «Дона-Ротора» при уборке пшеницы урожайностью 40 ц/га составляла 10—12 кг/сек., что в 1,5—2 раза превышало аналогичные показатели комбайна «Дон-1500» (6—8 кг/сек.), и обеспечивало производительность уборочных работ до 14 тонн в час при влажности зерна до 18%.
Белоруссия имела свое собственное, причем достаточно крупное предприятие по производству комбайнов – Гомельский завод сельскохозяйственного машиностроения. Однако он специализировался преимущественно на создании кормоуборочной техники (свекла, картофель, кукуруза, сено, силос и пр.). Но белорусы, которым, как и всем аграриям в нашей стране, катастрофически не хватало зерноуборочных комбайнов с «Ростсельмаша», из-за чего они ежегодно несли огромные убытки по причине потерь зерна и ухудшения его товарного качества, просто мечтали о создании у себя современного производства по выпуску зерновых комбайнов. Причем по возможности более качественных, чем «Колосы» и «Нивы», которые на переувлажненных почвах Полесья давали худшие результаты, чем на равнинах России, Украины и Казахстана.
Согласно установленному в СССР порядку практического использования сельскохозяйственных машин, оборудования и механизмов все они должны были пройти целую серию государственных испытаний в независимых от производителей учреждениях – в так называемых машиноиспытательных станциях (МИС). До распада СССР МИС находились в ведении объединения «Союзсельхозтехника», а после упразднения этой структуры были переведены на баланс Министерства сельского хозяйства.
Их главной задачей в советское время было проведение государственных испытаний новых конструкций тракторов, с.-х. машин и орудий и выдача заключений об их готовности к серийному выпуску, а также о возможности их использования в комплекте с другой техникой в конкретной почвенно-климатической зоне сельскохозяйственного производства. Наряду с этим МИС ежегодно проводили контрольные испытания машин и орудий, находящихся в серийном и массовом производстве, для определения их соответствия действующим техническим условиям и контролю качества изготовления в течение гарантированного заводом-изготовителем срока работы без ремонта, а также соответствия заявленным предприятием-производителем параметрам производительности и качества выполняемых работ. В 1985 году в СССР имелись 31 МИС и 2 научно-исследовательских института – Кубанский ордена Ленина научно-исследовательский институт по испытаниям тракторов и сельскохозяйственных машин и Всесоюзный научно-исследовательский институт по испытаниям машин для животноводства и кормопроизводства.
Одна из таких МИС – Западная машиноиспытательная станция – находилась в депутатском округе В.А.Крючкова в поселке Привольный, Минского района Минская области (сейчас это Белорусская МИС). Первым директором станции был назначен по совместительству директор Научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства в составе АН БССР Михаил Ефремович Мацепуро. В 1947 году он в возрасте 39 лет был избран академиком АН БССР и академиком-секретарем АН БССР, членом Президиума АН БССР. М.Е.Мацепуро был директором Западной МИС с 1948 по 1950 год, при нем станции в 1950 году от Министерства совхозов БССР было передано хозяйство «Горкий Апчак», на базе которого с 1951 года было развернуто строительство полномасштабной производственной базы МИС. С 1972 г. по 1976 г. и с 1981 г. по 2002 г. станцией руководил Александр Викентьевич Короткевич, с которым мне и довелось очень тесно общаться по многочисленным депутатским делам В.А.Крючкова. Под его руководством станция стала одной из ведущих в бывшем СССР и неоднократно выходила победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании. Сам же Короткевич успешно защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации и издал свыше 160 научных трудов и учебных пособий, а также получил 44 авторских свидетельства на свои изобретения. Программой одной из первых поездок В.А.Крючкова в свой депутатский округ предусматривалось посещение как раз Западной МИС. Эта поездка оказала огромное влияние на всю его дальнейшую работу как депутата, потому что работники Западной МИС поставили перед ним целый ряд вопросов, имевших, не побоюсь этого слова, общегосударственную значимость. Один из них прямо касался вопроса перспектив и направлений дальнейшего развития советского комбайностроения. Кратко напомню, как в то время обстояли дела со средней урожайностью и уборкой зерновых культур в СССР.
В год поездки под зерновые культуры в СССР было засеяно 116, 5 млн. гектаров пашни, собрано 106,6 млн. тонн зерна, из них озимой пшеницы – 16,4 млн. тонн, яровой пшеницы – 24,8 млн. тонн и озимой ржи 11,5 млн. тонн. По данным ЦРУ США (наша статистика в этом вопросе не вполне достоверна) СССР в это же время закупил за рубежом порядка 45 млн. тонн зерна, их них примерно половина пришлась на долю пшеницы. То есть, в среднем по стране урожайность зерновых в 1984 году составила 9,15 центнеров с гектара (в целом по России – 13,3 ц/га). В 80-ые годы в СССР, если верить государственной статистике, более 50% посевов составляли сорта сильной и ценной по качеству пшеницы. Однако, она могла дать хороший урожай исключительно при ее уборке в благоприятных погодных условиях, при отсутствии неоправданных потерь из-за нарушения сроков жатвы (осыпание колоса) и при соблюдении всех условий техники уборки, полной исправности машин и механизмов, отсутствия хищений на всех этапах транспортировки зерна на сборные пункты и элеваторы.
Скажу так: на мой непросвещенный взгляд, со всех сторон было бы гораздо более рациональным, если бы труженикам села заранее обусловленную часть урожая передавали бы во владение просто «за так, за спасибо», избавив их от горечи созерцания того, как собранное ими же зерно горит (и образно, и натурально) в валках из-за очевидной нехватки уборочной техники. Да они бы своему собственному, личному зерну никогда бы не дали так бесславно погибнуть, ночами бы убирали все скошенное вместо тихого и позорного воровства зерна! Нечто подобное сегодня ежегодно происходило в России с лесом: законодательный кретинизм уже двинулся было в сторону современного варианта «закона о трех колосках» (административное и даже уголовное преследование) за организацию сбора валежника – мертвых деревьев, лежащих на земле, но хватило ума слегка одуматься. Если ранее валежник относился к древесине, заготовка которой строго регламентировалась, то 1 января 2019 года вступил в силу закон, согласно которому валежник отнесен к недревесным лесным ресурсам (Федеральный закон от 18.04.2018 №77-ФЗ).
Теперь, как торжествующе провозгласили в СМИ, «собирать валежник в лесу для собственных нужд, граждане могут свободно и совершенно бесплатно». Но при том, однако, непременном условии, что это «не происходит в коммерческих целях (с целью перепродажи)». Ой, спасибо бесконечное, благодетели наши, что собираетесь наказывать граждан только за «нарушение установленного порядка сбора валежника»! В Финляндии, как и в ряде других зарубежных стран, деньги платят всем охочим за санитарную очистку леса и от сухостоя, и от валежника, и от бурелома, и от кустарника, и даже за обычный сбор веток и лесного мусора, ухудшающих экологию произрастания молодняка.
А в это же время в России ежегодно регистрируется от 9 тыс. до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 500 тыс. до 3,5 млн. га. Согласно данным МЧС России и Рослесхоза, всего с начала 1992 года по конец 2018 года в России зарегистрировано порядка 635 тыс. пожаров, затронувших земли лесного фонда. В среднем размер ущерба от лесных пожаров в год составляет порядка 20 млрд. рублей, из них от 3 до 7 млрд. рублей – ущерб лесному хозяйству из-за потери древесины. Чушь, конечно, несусветная, эти цифры явно взяты с потолка. Но, даже если принять их как достоверные, то раздать каждому гражданину России ежегодно по 120 рублей просто так, «на халяву» или «на пропой души», все равно будет гораздо умнее, чем в очередной раз сгноить народное добро собственным «ничего-не-деланием». Имеющим, однако, в своей основе отчетливую корысть и выгоду отдельных заинтересованных лиц. Будучи недавно в Красноярске, врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов назвал площадь лесных пожаров в 2019 году – она составила около 1% от всей площади лесного фонда России. Значит, с такими темпами мы сможем взирать на бушующие лесные пожары совершенно спокойно и безбоязненно еще 99 лет…
Однако перейдем снова к белорусскому хлебу. Далеко не все знают, что сегодня по урожайности зерновых Белоруссия из всех бывших советских республик уступает лишь Украине, зато значительно опережает Казахстан, идет впереди России и находится примерно на одном уровне с Арменией. Здесь поставлена общегосударственная задача достижения производства зерновых на уровне 40 центнеров с гектара на круг по всей стране, причем уже в текущем году производительность достигла более чем 37 центнеров с гектара! И все это происходит в государстве, где настоящих, качественных пахотных земель сравнительно немного, сплошь небольшие участки пашни, перелески, низины и неудобья, затрудняющие использование действительно высокопродуктивной техники при посадке семян и при сборе урожая.
До поездки вместе с депутатом в Белоруссию я совершенно не мог понять истинного смысла фразы «земля рождает камни» – считал это просто образным сравнением, фигурой речи. Оказалось, что это вовсе не так – во многих местах почвы Белоруссии действительно буквально «выталкивают» увесистые булыжники из своего тела. Я собственными глазами видел из окна машины, проезжая вдоль свежевспаханного поля, как специальный уборочный трактор сгребал эти камни в кучи, и само поле оставалось после этого чистым. Но буквально через несколько дней проезжаем здесь же – то тут, то там вновь появились из-под земли эти окаянные булыжники! Совсем недавно первый заместитель председателя Вилейского райисполкома Игорь Шевелев рассказывал представителям прессы, что сбор камней в поле – нормальный ежегодный процесс, и убирают камни не только на полях Вилейского района, но и по всей Минской области одновременно с посевом, «чтобы не угробить технику». «У нас есть распоряжение председателя облисполкома о шефской помощи сельхозпредприятиям по уборке камней. И нет ничего страшного в том, что люди на два дня съездили в поле, поработали на природе. Я тоже студентом камни собирал и ничего!» – рассказал Шевелев. Батька Лукашенко, кстати, предложил местных тунеядцев мобилизовывать на уборку камней – совсем как отправка алкашей и хулиганов на песчаный карьер в кинофильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика».
И вот на таком неудобье, на такой каменистой почве трудолюбивые белорусы уже в 1984 году получали аж по 21 с половиной центнера с гектара в целом по республике! В то время, как в СССР в качестве «героического подвига» устанавливалась планка по зерновым в размере 14 центнеров с гектара. Это вам, извините, далеко не то же самое, что плодородный чернозем моей любимой Полтавщины… Для Белоруссии вопросы повышения производительности всех выращиваемых сельскохозяйственных культур и улучшения качества используемой для этого техники всегда занимали большое и очень видное место в мыслях, в поступках и в решениях руководителей самых различных звеньев. Именно поэтому они в числе последних в советской стране отказались от дальнейшего равнения на контрольные цифры горбачевской Продовольственной программы – героически, но безуспешно пытались ее выполнить аж до бесславного конца самой программы. Помнится, руководитель МИС А.В.Короткевич тогда много чего прогрессивного продвигал депутату в беседах и немало чего полезного для станции «выцыганил» мимоходом у главы советской внешней разведки, всего сейчас уже и не помню. Однако три конкретных проекта я все же упомяну и начну с самого простенького – с машины по внесению удобрений МВУ-30. Кое-что полезное вы сможете самостоятельно почерпнуть здесь (https://zen.yandex.ru/media/bezavtojizninet/zabytoe-detisce-maz-mvu30-5cb362228fc6bd00b323bb64).
Строго говоря, вспоминать сейчас об этом после того циркового представления, которое устроили всему миру наши партнеры по ШОС – дружелюбные и вечно улыбающиеся китайцы, которые наплевали с высокой колокольни на все эти патентные ухищрения хоть западников, хоть россиян, хоть сверхмудрых, сверхпредусмотрительных и сверхосторожных израильтян не только поздновато, но порой и смешно. Они просто-напросто массово, широкомасштабно и очень нахраписто клепают «репликат» всего наиболее интересного, продвинутого и перспективного в мире науки и техники, и сегодня в насквозь глобализованном мире никого и ничем уже не удивишь.
И это, в общем-то, правильно и справедливо. E=mc² предназначено не только для соплеменников А. Эйнштейна, но и для всего остального человечества. Да, за изобретение, за открытие, за очередной музыкальный шедевр Аллы Пугачевой или за голую грудь какой-нибудь Анжелины Джоли по положениям Женевской конвенции по авторскому праву (Universal Copyright Convention) какую-никакую денюжку отстегивать, может быть, и надлежит. Но умные люди (а китайцы, безусловно, первые среди них после евреев) все эти глуповатые, навязанные глобалистами всему миру условности легко и играючи обходят. Берут нужное изделие в двух экземплярах. Один отправляют на всесторонние и всеобъемлющие испытания, а другой бережно раскручивают до винтиков, производят абсолютно все то же самое, только слегка меняют названия изделий и ставят на них свои клейма, штампы и прочую авторизованную мишуру. Затем вновь собирают и запускают на мировой рынок товаров и услуг по демпинговым ценам машины, агрегаты и даже готовые изделия той же микроэлектроники, но уже под своим собственным, китайским брэндом.
В случае с машиной для внесения удобрений МВУ-30 по этому весьма заманчивому, но, однако, несколько скользковатому пути, советские организации не пошли. И, кстати, совершенно зря, если обозревать ситуацию с моей местечковой колокольни – я бы наверняка поступил по заветам великого кормчего: «Неважно, какого цвета кошка – важно, чтобы она ловила мышей». За основу для создания машины по внесению удобрений МВУ-30 была взята американская машина BIG-A2500 американской фирмы Rickel Manufacturing Co. – очень известной в свое время по моделям серии Terra Tires и Big A компании, основанной Эдом Риккелом. Я уж и не представляю себе сейчас, каким образом оригинал этой модели попал на опытные испытания в Западную МИС. Но сама машина явно запала в душу испытателям – они ее дружно нахваливали В.А.Крючкову хором, просто взахлеб, удивляясь и восторгаясь одновременно. Самым большим достоинством этой машины, насколько мне помнится, помимо очень впечатляющей площади единовременного внесения удобрений (сравнимой разве что с самолетом типа «кукурузник») было невероятно малое удельное давление колес машины на почву. У нас же подобных машин даже близко не проглядывалось ни в военной, ни уж, тем более, в гражданской сферах потенциального применения.
То, что рассказали Владимиру Александровичу настырные минчане об этой машине, даром не прошло. По линии Комиссии по новой технике он тут же, сразу после возвращения из поездки в округ стал «пробивать» нужное решение и сравнительно легко добился положительного результата. Затем пошли соответствующие указания в резидентуры – и уже в скором времени как о самой американской «чудо-машине», так и обо всех ее ближайших зарубежных аналогах мы знали буквально все, вплоть до некоторых хитрых особенностей шайбы уплотнительного механизма в гидроусилителе агрегата. Однако с разгадкой секретов подготовки нужного состава резиносмесей для промышленного изготовления колес низкого и сверхнизкого давления дела шли туговато. В свое время я сам это хорошо прочувствовал на примере некоторых опытных работ в НИИ резиновой промышленности (сейчас Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий) и на Московском заводе «Каучук», где после третьего курса многие из нас проходили первую производственную практику и мне довелось месяца полтора потрудиться «каландровожатым» (оператором каландра для приготовления резиносмесей). В конце-концов и с этой задачей худо-бедно справились ярославские шинники, которые после многих месяцев упорной работы и испытаний опытных образцов сумели все же достичь нужных параметров резины для колес. Всю разработанную техническую документацию они впоследствии передали на Бобруйский шинный завод для организации производства МВУ-30 в «едином белорусском кластере».
Организационно работу по созданию массового производства машин МВУ-30 депутат Крючков проводил сразу по двум направлениям. Основное – через партийные и государственные органы Белорусской ССР, которые немедленно и с большим энтузиазмом откликнулись на его инициативу и пообещали всемерную помощь и поддержку в организации производства материалов и комплектующих на многочисленных машиностроительных предприятиях Белоруссии. Включая организацию сборочного производства на действующих мощностях Минского автомобильного или Минского тракторного заводов (первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Николай Никитович Слюньков, сам бывший авто- и тракторостроитель, твердо обещал Владимиру Александровичу обеспечить свой личный контроль за реализацией данного проекта).
Другое направление – принятие необходимых общегосударственных управленческих решений по линии Комиссии по новой технике при СМ СССР, «де-факто» возглавляемой тогда первым заместителем Председателя Госплана СССР Б.А.Ситаряном, который впоследствии стал заместителем Председателя Совета Министров СССР – председателем Государственной внешнеэкономической комиссии Совмина СССР. Комиссия рассмотрела на своем заседании детальный технический отчет Западной МИС о результатах испытаний МВУ-З0 и внесла в Правительство СССР предложение об изготовлении пробной (30 машин) партии с последующим направлением каждого опытного образца в одну из зональных МИС на предмет испытания ее пригодности к работе в различных почво-климатических зонах и при производстве самых различных сельскохозяйственных культур.
Забегая вперед, скажу, что даже в условия полной неготовности обслуживающего персонала к эксплуатации подобной высокопроизводительной техники, некоторого неоправданного перерасхода и неравномерности вносимых удобрений, результаты везде оказались просто потрясающими. И тогда уже на общегосударственном уровне было принято решение об изготовлении малой серии (300 машин) с направлением образцов в наиболее передовые хозяйства разных отраслей (производство зерна, свеклы, картофеля, кукурузы, рапса и пр.). Головное сборочное производство было организовано, как и задумывалось, на мощностях Минского автозавода. К сожалению, развал СССР поставил жирный крест и на этом многообещающем проекте.
Второе прогрессивное начинание депутата Крючкова было связано с проблемой внесения жидких минеральных удобрений в почву не в момент посадки семян растений, а уже в процессе их роста. Надо сказать, что с организацией процесса подкормки растений у нас в стране царил настоящий «каменный век» – вносились в основном туки, причем поверхностно и по технологии, которую горожане каждую зиму с большим неудовольствием и с явным неодобрением наблюдают на дорогах и тротуарах городов. Вертится диск, из бункера сыпется антиобледенительная солевая смесь, в результате – где густо, а где и пусто. При таком варварстве СССР никогда не смог бы достичь требуемого агрохимического показателя внесения удобрений в почву для питания различных растений, зато напрочь угробил бы все пруды и малые реки, куда дождевыми потоками смывались излишки нерастворившихся минеральных удобрений. Про жидкий навоз и прочее сортирное добро я сейчас речи не веду – все это вносится в почву «до» посева, а не после.
Технология инъекционной корневой подкормки жидкими удобрениями (внесение жидких минеральных удобрений КАС или ЖКУ в почву) тогда только начала развиваться, в основном в направлении создания различных навесных агрегатов на базе рамы междурядных культиваторов. Идея создания своеобразных «шприцов» для принудительного впрыскивания жидких удобрений на глубину до 12 см только-только зарождалась, лишь начала апробироваться на опытных зарубежных образцах. И опять же, использование различных агрегатов при подкормке зерновых культур весной требовало установки на них шин низкого и сверхнизкого давления уже не для недопущения уминания почвы, а для предотвращения травматизма ростков растений.
Самые разные машины и механизмы были испытаны для решения этой задачи на Западной МИС, но ни одно из них удовлетворительного результата для почвенных условий Белоруссии не дало. Однако упорные и настойчивые белорусы не сдавались. С помощью своего уважаемого депутата и при действенной поддержке всей научно-технической разведки СССР они все же нашли решение по принципу «дешево и сердито». Голландские ликвилайзеры – это, конечно, очень круто, но для тогдашних советских условий, когда слегка бухой тракторист осуществляет рядковую посадку семян, они еще долго совершенно очевидно не подойдут. Это стало реально возможным только в эпоху широкого и массового применения GPS-навигаторов в машинно-тракторных комплексах, когда автоматика работает, а оператор может потихоньку, украдкой пить в своей персональной кабине холодное пивко.



