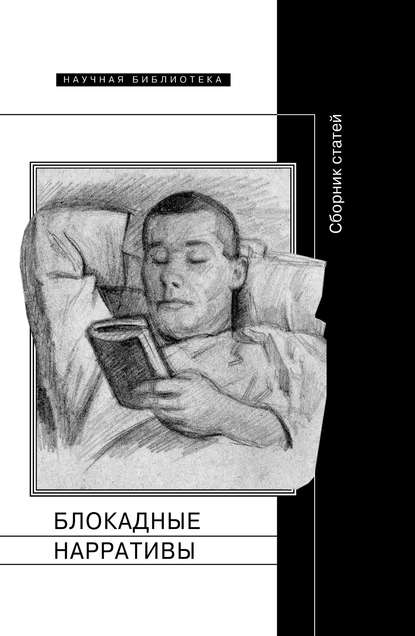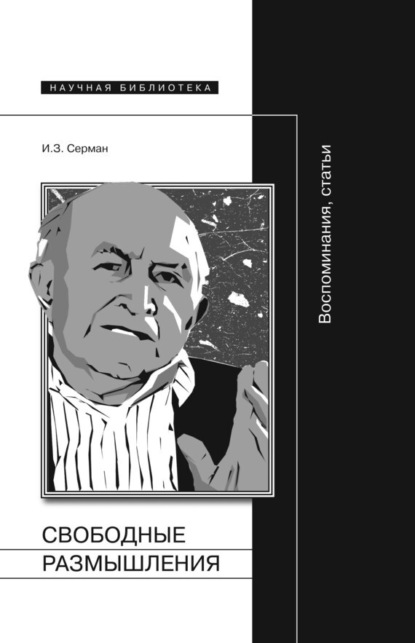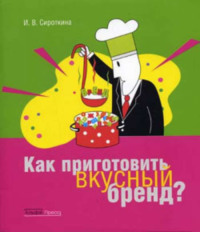Полная версия
Свободный танец в России. История и философия
В 1920‐е годы Алексеева преподавала в Театральном техникуме, занималась лечебной гимнастикой с детьми в туберкулезном санатории в Крыму, вела классы сценического движения в Белорусской драматической студии. «На занятиях, – вспоминала актриса студии С. М. Станюта, – перепробовали все: от пластики свободных движений в стиле Айседоры Дункан до труднейших акробатических этюдов. Нас учили рисовать своим телом»[357]. Незадолго до Великой Отечественной войны Алексееву пригласили в концертный ансамбль Оперы И. С. Козловского для постановки пластических сцен в «Орфее и Эвридике» Глюка. Орфея собирался петь сам Козловский. Хотя спектакль реализован не был, хореография Алексеевой не пропала. Во время войны сцены из «Орфея» показывали в госпиталях (гонораром часто служила буханка хлеба)[358]. Все это время Алексеева не переставала отстаивать преимущества своей «ХаГэ» перед обычной силовой и снарядной гимнастикой, которую считала механистической. Избежать механичности ей самой помогала музыка – упражнения «ХаГэ» были, по сути, этюдами пластического танца. Именно поэтому в конце 1930‐х годов критики от физкультуры нашли в ее работе «много такого, что идет от старого, давно отброшенного нашей советской действительностью мироощущения»[359]. Надеясь все же, что ее «ХаГэ» дадут широкую дорогу, она писала П. М. Керженцеву, в Высший совет физической культуры, в журнал «Гимнастика», но всюду упиралась в бюрократическую стену[360]. Массовым видом художественно-физического воспитания «ХаГэ» так и не стала, хотя и не была совершенно забыта и преподается сейчас в ряде московских студий.
«Искания в танце» Александра Румнева
Александр Александрович Зякин (1899–1965) свой псевдоним взял по названию родового имения Румня[361]. Как-то родители семилетнего Саши побывали на концерте Дункан. Их рассказы поразили воображение мальчика: раздевшись догола и завернувшись в простыню, он стал танцевать перед зеркалом. Четырнадцатилетним подростком Саша увидел «Покрывало Пьеретты» Таирова: «То, что своей немой игрой актеры могут так взволновать и увлечь, было необъяснимо и поразительно». Но заняться танцем он смог только после окончания гимназии. В 1918 году Елена (Гуля) Бучинская – дочь писательницы Тэффи – привела его в студию Алексеевой[362]. Для талантливого ученика Алексеева создала несколько танцев, в том числе на прелюд Рахманинова и на этюд Карла Черни – образ набегающей волны. Танцевал Румнев и «Раненую птицу» – сольный вариант «Гибнущих птиц» Алексеевой на Революционный этюд Шопена. Тогда же он поступил на медицинский факультет Московского университета и во ВХУТЕМАС, в мастерскую живописца Ильи Машкова, однако вскоре сделал окончательный выбор в пользу танца. Занимался он одновременно в балетной школе при театре Художественно-просветительного союза рабочих организаций, в Ритмическом институте и в студии Антонины Шаломытовой[363]. Со счастливой внешностью, выразительный и пластичный, Румнев быстро вышел на свою дорогу и уже в 1919 году имел собственных учеников.
Московские студии по большей части своих помещений не имели, отапливаемых залов вообще было мало, и занятия велись нерегулярно. Вхожий во многие студии, Румнев предложил им объединиться в один коллектив под названием «Искания в танце», ядром которого должна была стать студия Алексеевой[364]. На короткое время это удалось реализовать. Румнев вел в новой студии классы танца и пантомимы; в программу также входили гимнастические упражнения, задания на пластику и ритм, выразительность и музыкальность. Студию посещали сестры Наталья Глан и Галина Шаховская, ставшие известными хореографами, драматические актеры – в том числе Михаил Жаров. Однако и объединившись студийцы не получили теплого зала, и зимой обрызганный водой – чтобы не скользил, – деревянный пол покрывался ледком[365].
Несмотря ни на что, в эти годы Румнев много танцевал – в Кафе поэтов на углу Тверской и Настасьинского переулка, на «вечерах освобожденного тела» Льва Лукина. Алексей Сидоров называл его «поразительным» и считал, что им бы мог «гордиться Запад»[366]. В 1920 году Румнев был принят в труппу Камерного театра: играл в постановках А. Я. Таирова, преподавал актерам «искусство движения» и ставил танцы – «пантомимно-гротесковые, если понимать под гротеском не только комическое, но и трагическое»[367]. Один из его сольных номеров – о современном Дон Кихоте на музыку Скрябина – назывался «Последний романтик». «Слишком изысканный, чрезмерно изящно движущийся, подчеркнуто часто взмахивающий аристократическими тонкими кистями, поражающий изломанными движениями длинных рук и ног»[368], на фоне физкультурников Румнев выглядел анахронизмом. Критики говорили, что он нарциссичен и всегда демонстрирует самого себя; аристократизм и романтизм не прошли для него даром.
В 1933 году, по-видимому, спасаясь от репрессий, Румнев покинул Москву. В 1937‐м он оказался во Владивостоке, через год был арестован в Куйбышеве по обвинению в шпионаже, провел год в тюрьме, но был освобожден и после этого жил в Алма-Ате. В Москве, куда Румнев попал только после войны, его ждало разочарование: его любимая пантомима, где «актеры изъясняются условными жестами, ходят под звуки музыки»[369], совершенно исчезла из театра. Ее возвращения пришлось ждать два десятилетия: первой ласточкой стал приезд великого мима Марселя Марсо в конце 1950‐х годов. На его спектакли Румнев привел молодого художника Анатолия Зверева, который делал зарисовки с натуры[370]. В 1962 году Румневу удалось, наконец, организовать Экспериментальный театр пантомимы (ЭКСТЕМИМ) – увы, недолго существовавший.
Еще в начале 1920‐х годов Румнев познакомился с Максимилианом Волошиным и с тех пор почти каждое лето проводил в Коктебеле. В 1929 году он посвятил Волошину стихотворение «Тот блажен, кому свет дано лучезарный увидеть». В Коктебеле Наталья Северцова, жена искусствоведа А. Г. Габричевского, написала портрет – в розовой рубахе и соломенной шляпе, залитый солнцем «поразительный Румнев»[371].
Театр танца Веры Майя
Вера Владимировна Боголюбова (1891–1974) училась в Московской консерватории в классе К. Н. Игумнова и посещала студию Франчески Беата. Выступать она начала в 1917 году под именем Веры Майя. Вскоре у нее появились ученики, и первый показ их работ прошел летом 1920 года. Майя вела классы пластики в Государственной еврейской студии ГОСЕТ, на киностудии и в Театральном техникуме имени Луначарского[372]. Она вышла замуж за студента-юриста Леонида Серавкина, участника оперной студии Станиславского. Тот взял себе псевдоним «Маяк» и вместе с женой стал заниматься «студией выразительного движения», занятия которой проходили в их огромной пустой комнате в Доме Нирнзее в Гнездниковском переулке[373]. Создавая танцы, Майя шла от музыки: прекрасная пианистка, она садилась за рояль и предлагала свою интерпретацию произведений. В их обсуждениях участвовали танцовщик Большого театра Виктор Цаплин, руководитель Школы Дункан Илья Шнейдер, создатель «Свободного балета» Лев Лукин и композитор Юрий Слонов, на чью музыку танцевали в студии. Как и некоторые другие пластички, Майя создала собственный экзерсис, не похожий на балетный, который проводила без станка. Особое внимание уделялось развитию гибкости рук, шеи, плеч и корпуса. Изучая анатомию и биомеханику, Майя обнаружила целый ряд «забытых» мышц, которые обычно мало развиты, и придумала специальные упражнения для их тренировки. В ее классе на хореографическом отделении Театрального техникума преподавали балетный станок, ритмику, «слушание музыки», пластическую импровизацию. Нововведением Майя были акробатические упражнения и этюды на гибкость и силу, включая построение пирамид. По некоторым данным, уроки акробатики в студии вел З. П. Злобин, преподававший также биомеханику у Мейерхольда[374]. Хотя введение акробатики в танец одобряли не все ее коллеги, у зрителей акробатические номера и эффектные поддержки пользовались неизменным успехом[375].
В 1927 году из выпускников закрывшегося хореографического отделения Театрального техникума был создан «Ансамбль искусства танца под руководством Веры Майя» (с 1930 года – «Театр танца Веры Майя»). Майя хорошо чувствовала запросы дня и умела приспособить к ним репертуар. Ее ранние постановки напоминали популярнейшие тогда «танцы машин», в которых танцовщики исполняли простые на вид синхронные движения, имитировавшие вращения колес или стук молотков. Позже Майя стала делать композиции на спортивные темы – дуэты с воздушными поддержками «На катке», «Аэропланы». В конце 1920‐х годов, следуя идущей из начала века моде на экзотику, она пригласила танцовщицу Сильвию Чен – дочь китайского политического деятеля, полукитаянку-полунегритянку, а во время гастролей по Дальнему Востоку открыла кореянку Анну Ким. Наконец, Майя – одной из первых в пластическом танце, – стала использовать народную музыку, сделав в 1924 году большую композицию «Моя деревня»[376]. Своими «фольклорными» номерами Майя в идеологическом плане заработала много очков – в особенности по сравнению с теми студиями, которые показывали только «декадентские» танцы.
Ее театр танца выступал, часто вместе с другими студиями, в клубах, Зеленом театре Парка Горького, Камерном театре, Большом зале Консерватории и Колонном зале Дома Союзов, гастролировал по стране. В 1930‐е годы, чтобы выжить, Майя объединилась с близкими ей хореографами – своей ученицей Анной Асенковой, организовавшей театр в Харькове, и Инной Быстрениной. Накануне войны коллективы на хозрасчете были запрещены, и театр Майя распался. Воспитанные ею артисты, вместе с поставленными ею номерами, перешли на эстраду, в танцевальные группы театров и цирков, в ансамбль Игоря Моисеева и «Березку». После войны Майя работала хореографом в Центральном доме культуры железнодорожников, а в 1950‐е годы вместе с Людмилой Алексеевой участвовала в разработке квалификационных упражнений и показательных выступлений по художественной гимнастике – новом виде спорта, который она во многом помогла создать[377].
«Свободный балет» Льва Лукина
Сын присяжного поверенного, Лев Лукин (Лев Иванович Сакс, 1892–1961) отказался стать юристом и продолжить дело отца. Юноша мечтал об искусстве, занимался в Музыкальном училище Гнесиных, но «переиграл» руку и пианистом не стал. Уйдя из дома, он работал на фабрике, играл в любительских театрах, сблизился с кругом Евгения Вахтангова. Свой первый театральный кружок Лукин создал на Алтае, работая на строительстве железной дороги, а второй организовал в батальоне особого назначения московской ЧК, куда пошел служить в 1917 году. Новоявленный чекист занялся и танцем – сначала в балетной студии Бека[378], затем – у Шаломытовой, но понял, что танцовщиком ему становиться уже поздно. Тогда Лукин попробовал свои силы как хореограф; его первой постановкой была «Арлекинада», сделанная в студии Бека в 1918 году[379].
Неудовлетворенный балетной лексикой, Лукин искал новых движений и иного пути в танце. Проводником его стала музыка. Искусство танца он считал «физически музыкальным», а в музыке, в свою очередь, видел физическое движение. Импровизируя за роялем, он останавливался, думал, повторял фразу – как бы вглядываясь в нее, угадывая в ней жест. Любимым его композитором был кумир всего поколения Скрябин. Лукин ставил танцы на его прелюдии и поэмы: «Désir» («Желание»), «Caresse dansée» («Ласка в танце»), «Поэму экстаза»[380]. Собрав группу талантливой молодежи, он создал в 1920 году «Свободный балет», уже первые спектакли которого заставили «всю Москву» говорить о Лукине как новаторе танца. У него «акробатика, классика и пластика были впервые представлены в сочетаниях, поразивших… смелостью, оригинальностью и четкостью формы»[381]. Выступлениям «Свободного балета» в Консерватории аккомпанировали лучшие московские музыканты – Игумнов и Гольденвейзер; на поклоны они выходили, ничуть не смущаясь «соседством с танцовщиком, на котором были одни парчовые плавки»[382].
Несмотря на то, что стилистически модернистские постановки Лукина весьма отличались от античной образности босоножек, он оставался верным их идеям свободного танца. Общепринятой «красоте» он предпочитал движения, идущие от самого танцовщика, «хотя бы они и казались безобразными». Считая, что «современная эстетика стремится создать столько форм, сколько существует талантов», он утверждал: «Каждое тело должно создать себе индивидуальные формы». А для этого тело надо освободить – дать проявиться «воле к движению», раскрыть его потенциал выразительности. Выступления «Свободного балета» назывались «вечерами освобожденного тела». Однако целью оставалась индивидуальность. Своей статье-манифесту «О танце» он дал эпиграф: «В начале было тело», но заканчивал статью – «Мы создадим новую душу»[383].
Как хореограф, Лукин любил партерные движения, плел «узоры из тел», создавал «живую роспись», подобную той, которая «огибает крутые бока архаической вазы»[384]. Его пластику критик назвал «мотобиоскульптурой» – то есть скульптурой живой и движущейся. Особенно рельефно смотрелись «живые скульптуры» Лукина в Большом зале консерватории: усиленные светотенью от большой овальной люстры, тела танцовщиков превращались в гротескные видения. Как лучше одеть – или, вернее, обнажить исполнителей, – придумывали лучшие театральные художники – Борис Эрдман и Петр Галаджев.
Из-за отсутствия традиционного хореографического образования Лукина окрестили «талантливым дилетантом». «Постановки его мне напоминают случайные импровизации, – писал критик Трувит, – в них может танцевать любой человек, без хореографической подготовки: достаточно иметь хорошее тело и некоторую гибкость»[385]. Хотя Алексей Сидоров называл Лукина «интересным новатором» и «значительным и серьезным ученым», хореографию его он считал статичной. В отличие от живой и непосредственной пляски Дункан, пластические композиции Лукина казались ему набором поз, «переходом от одной статуарности к другой»[386]. Лукина обвиняли в однообразии – он «знает только острые углы и прямолинейные движения»; пророчествовали, что его фантазия быстро исчерпает себя; называли его хореографию «разложением танцевального модернизма». Критиковали даже за верность музыке: по мнению критика, Лукин «стал только иллюстратором музыкальной литературы»[387]. Грубые обвинения в «порнографии» поставили крест на «вечерах освобожденного тела»[388].
В 1921 году Айседора Дункан приехала в Москву и по приглашению Александра Румнева пришла на выступление «Свободного балета». Хореография Лукина представляла «довольно острый винегрет из классики, акробатики и пластических движений»: «Мы танцевали голые, босиком, в парчовых плавках с абстрактным орнаментом и парчовых шапочках, похожих на тюбетейки, – вспоминал Румнев. – [Художницы с помощью кусочков меха] разрисовывали нас черными, оранжевыми или зелеными треугольниками, квадратами и полумесяцами, ломая естественные формы тела»[389]. Когда на следующий день Румнев спросил Айседору о ее впечатлении, та сказала, что принять эти танцы не может:
Она говорила о простоте, о гармонии, об одухотворенности движения и еще о многом, чего я тогда не понимал по причине юношеского азарта в ниспровержении общепринятых норм искусства. Она не принимала экстатических конвульсий и утонченной изысканности лукинских композиций. С убежденностью опытного полемиста, самого произведшего революцию в танце, она отстаивала свою правоту, ссылаясь на античную традицию, на круг идей, вдохновлявших Бетховена, Шуберта, Чайковского. Вечное, человеческое, выраженное во всем величии и во всей простоте, – вот предмет искусства и предмет танца. А изломы и изыски лукинских экспериментов пройдут, не оставив после себя заметного следа[390].
В августе 1924 года, когда частные школы и студии пластики были закрыты декретом московского правительства, «Свободный балет» гастролировал в Баку. В этом городе Лукин провел свое детство и теперь решил в Москву не возвращаться, возглавив Рабочий театр в Баку. Следующие несколько лет он провел на Кавказе – в том числе в Тифлисе, поставил танцевальную сюиту «Кармен»[391]. В Москве Лукин появлялся наездами – например, в 1927 году сделал в хореографическом техникуме «Узбекские пляски» и «Египетские танцы». В 1930 году во Фрунзе при подготовке «декады киргизского искусства» он был арестован, но через полгода освобожден[392]. После этого Лукин много работал в Средней Азии, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке – как хореограф ансамбля Тихоокеанского флота.
В столицу он приехал сначала в 1933 году – по иронии судьбы как художественный руководитель школы Дункан, которая когда-то отозвалась о его танце столь критически. В 1944–1946 годах ставил с «дунканятами» тематические композиции: «Песню о Буревестнике» на музыку Речменского, хореографическую поэму «Ульяна Громова» на Седьмую симфонию Шостаковича. Брал и традиционных для Дункан композиторов: Шопена, Шумана, Чайковского (вслед за Айседорой поставил его Шестую симфонию), Скрябина[393]. Его идеалы – «вернуть танцу душу», «танцевать не движение, а мысль, чувство, переживание»[394] – тоже оставались дункановскими. В конечном счете жизнь примирила «изломы и изыски» Лукина и «свободную классику» Дункан.
Московская школа Айседоры Дункан
История школы, которую Дункан при поддержке советского правительства открыла в Москве в 1921 году, хорошо известна – к ней не раз обращались и ее непосредственные участники, и историки[395]. Пожалуй, менее знаком «дружеский шарж» Юрия Анненкова – художник часто бывал в особняке на Пречистенке, где размещалась школа:
В зале, завешанной серыми сукнами и устланной бобриком, ждут Айседору ее ученицы: в косичках и стриженные под гребенку, в драненьких платьицах, в мятых тряпочках – восьмилетние дети рабочей Москвы, – с веснушками на переносице, с пугливым удивлением в глазах. Прикрытая легким плащом, сверкая пунцовым лаком ногтей на ногах, Дункан раскрывает объятия, как бы говоря: придите ко мне все труждающиеся и обремененные! Голова едва наклонена к плечу, легкая улыбка светится материнской нежностью. Тихим голосом Дункан говорит по-английски:
– Дети, я не собираюсь учить вас танцам: вы будете танцевать, когда захотите, те танцы, которые подскажет вам ваше желание, мои маленькие. Я просто хочу научить вас летать, как птицы, гнуться, как юные деревца под ветром, радоваться, как радуется майское утро, бабочка, лягушонок в росе, дышать свободно, как облака, прыгать легко и бесшумно, как серая кошка… Переведите, – обращается Дункан к переводчику и политруку школы товарищу Грудскому.
– Детки, – переводит Грудский, – товарищ Изадора вовсе не собирается обучать вас танцам, потому что танцульки являются достоянием гниющей Европы. Товарищ Изадора научит вас махать руками, как птицы, ластиться вроде кошки, прыгать по-лягушиному, то есть, в общем и целом, подражать жестикуляции зверей…[396]
Открытие школы во время Гражданской войны, разрухи и голода кажется почти невероятным. Нужно было, чтобы Айседора, не испугавшись рассказов о каннибализме и зверствах большевиков, приехала в Россию. Нужно было, чтобы советские начальники захотели ей помочь и дали помещение для школы в пораженной жилищным кризисом Москве. Нужно было кормить, обогревать и учить детей. Проще всего оказалось увлечь их танцем – для тех, кто занимался в школе в течение испытательного периода, но не был отобран, это стало настоящей трагедией. «Дунканята» жили, учились и плясали вместе, летом выезжали за город – чтобы «дышать, вибрировать, чувствовать» в гармонии с природой, но еще и чтобы запастись картошкой и выступлениями подработать на школу. Поддержка правительства ограничивалась помещением, все же остальное – еду, электричество, отопление – школа должна была оплачивать сама; она стала одной из первых «государственных студий на хозрасчете»[397].
Не об этом мечтала Айседора. Ей хотелось создать «великолепный социальный центр», хотелось «искусства для масс»[398]. Но из‐за нехватки средств школа вырождалась в театральную труппу, гастролируя по всей России. Чтобы дать детям возможность учиться, летом 1924 года Айседора отправилась в утомительное турне по Поволжью и Средней Азии. По возвращении в Москву ее ждал сюрприз – вместо нескольких десятков девочек ее встречала «масса одетых в красные туники детей, всего более пятисот». В ее отсутствие ученицы школы стали по приглашению Подвойского заниматься с другими детьми на площадке строящегося Красного стадиона. Теперь, собравшись под балконом особняка на Пречистенке, они кричали Айседоре «ура», танцевали и подымали руки в товарищеском приветствии. Оркестр играл «Интернационал»; Айседора с балкона улыбалась детям и махала красным шарфом[399]. Слегка утешенная этим приемом, она отправилась за границу, чтобы заработать денег для школы. В Россию Дункан больше не вернулась. Оставшаяся без средств и вынужденная добывать себе пропитание, школа из питомника чистых душ скоро превратилась в концертный ансамбль.
После отъезда Айседоры школу возглавила ее ученица и приемная дочь Ирма, администратором был женившейся на ней секретарь Дункан Илья Шнейдер. Как и Айседора, Ирма выступала с сольными концертами. Критика отмечала выразительность, простоту и благородство движений. Правда, на фоне «электрифицированной повседневности» ее танцы казались пройденным этапом, но признавались «здоровыми и ценными» – да и как же иначе, если школу благословили Подвойский, Луначарский и сам Ленин[400]. В концертном репертуаре были «танцы красной туники», которые поставила еще Айседора на песни: «Интернационал», «Смело, товарищи, в ногу», «Дубинушка», «Варшавянка». В некоторых из них девушки и танцевали, и пели. Школа много гастролировала, добравшись до Китая. Специально для этого турне были поставлены танцы «Памяти доктора Сун Ятсена», «В борьбе за народное дело ты голову честно сложил», «Гимн Гоминьдана» и «Танец китайских девушек». К десятилетию революции Шнейдер отчитывался о предложенных школой «стандартах» новых праздников – Октябрин и гражданской панихиды. Тогда же, в 1927 году, обсуждалось будущее студии. Медики придирались к нарушениям норм гигиены – дети поют, лежа на полу. В ответ Ирма отрезала: «Дети должны глотать пыль, как глотают угольную пыль рабочие Донбасса». Было решено, что школа-студия останется в качестве «лаборатории героических мотивов»[401]. В 1929 году, после отъезды Ирмы, школа стала называться «Концертной студией Дункан». В таком виде она просуществовала еще два десятилетия и закрылась – отчасти в результате ареста Шнейдера, отчасти потому, что первые ученицы выросли и покинули труппу. Более же всего из‐за того, что – по словам самой Дункан – ее искусство «было цветом эпохи, но эпоха эта умерла»[402].
«Остров танца» Николая Познякова
Как Вера Майя и Лев Лукин, Николай Степанович Позняков (1878–1942[?]) готовился стать концертирующим пианистом. Но в год, когда он заканчивал консерваторию, в Россию приехала Дункан. Николай увлекся движением – занимался балетом в школе Мордкина, шведской и сокольской гимнастикой, изучал пластику по античной скульптуре, живописи Ренессанса и по изображениям на иконах. Его самого писал Константин Сомов. Танцевал он в салонах и на литературных вечерах, восхищая зрителей пластикой, музыкальностью и красотой: его «красивое тело было прикрыто только замотанным на бедрах муслином»[403]. Первое выступление для широкой публики состоялось в 1910 году в петербургском Доме интермедии. После революции Позняков оказался в провинции: зарабатывал уроками музыки, в 1921 году организовал студию ритмопластики в Харькове, где поставил свои первые групповые композиции на музыку Бетховена, Шумана и Шопена. Перебравшись в Москву, он вел занятия в Институте ритмического воспитания и вновь организовал студию – выступать она начала весной 1923 года, а уже в августе 1924 года была закрыта вместе с другими частными школами танца[404]. Познякова приютила Хореологическая лаборатория РАХН, ставшая на время центром современного танца: здесь собрались танцовщики всех направлений – от «классической» дунканистки Наталии Тиан до ритмистки Нины Александровой. Учитывая его серьезную музыкальную подготовку, Познякова пригласили изучать «координацию пластических движений и музыкальных форм»[405]. Но когда появилась идея создать хореографический вуз, он предложил вести в нем курс «танец под слово» – изучать метр, ритм и архитектонику не только музыки, но и стиха. Он сам писал стихи, в которых – как и в танце – больше всего ценил ритм и музыкальность.
Идейно Позняков был близок Льву Лукину – они говорили почти одними и теми же словами. На первое место он также ставил музыку и индивидуальность: «Я должен знать учащегося, его вкусы, склонность, психические уклоны, должен видеть его всего, как он есть в движении. Движение скажет больше слова»[406]. Фиксированный тренаж в его системе отсутствовал, обучение строилось на «импровизации побуждающей и вольной». Учащиеся брали маленькие музыкальные отрывки, и постепенно их импровизации обретали форму, превращаясь в законченные танцевальные этюды. Цель – «чистый танец», не признающий никаких штампов, бесконечно разнообразный и пластичный. В этих «полуимпровизационных упражнениях, – писал Позняков, – [человек] может быть некрасив, неуклюж, безобразен, но будучи самодеятельным, цельным, он поможет себе, поможет мне выяснить материал духовный и физический, каким обладает»[407]. Главное в импровизации – связь с музыкой: «Музыка пронизывает тело. Оно звучит, поет, живет в ритме». Такое «ритмизованное выточенное тело… претворит в себе самом краску, поэзию, музыку [и] в лучший час создаст свою гармонию, грядущий стиль»[408].