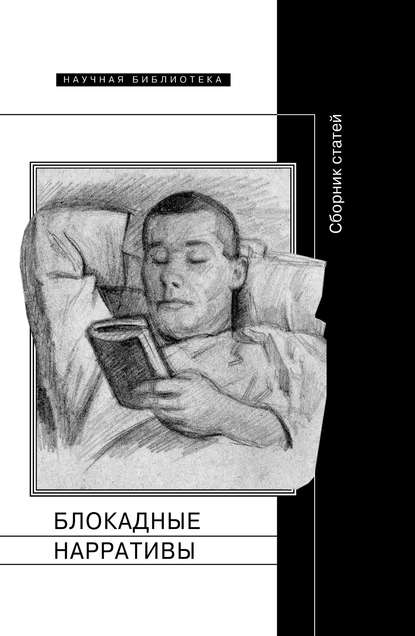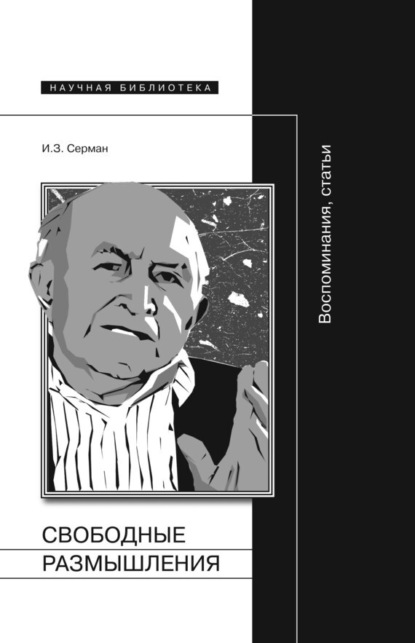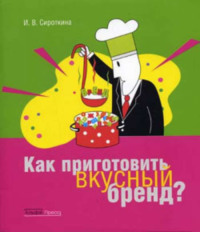Полная версия
Свободный танец в России. История и философия

Ирина Сироткина
Свободный танец в России. История и философия
© И. Сироткина, 2011; 2021
© Ю. Васильков, дизайн обложки, 2021
© OOO «Новое литературное обозрение», 2021
Предисловие
Наверное, все началось с Юлии Борисовны (фамилию не помню), балерины на пенсии. Она руководила кружком хореографии в соседнем доме культуры, куда мама привела семилетнюю меня. Бедная Юлия Борисовна выступила скорее демотиватором. И дело даже не в том, что она держала детей в строгости – преподавая так, как когда-то учили ее саму в хореографическом училище. Как известно, балет требует точных движений по жестко фиксированным позициям и вполне определенного телосложения. Ничего этого у меня не было, и на занятиях я постоянно чувствовала себя хуже и ниже других детей. Позанимавшись год, я с облегчением покинула кружок. Но танцевать хотела всегда – на дискотеках, как только включали музыку, как будто какой-то чертик выскакивал изнутри, заставляя меня плясать. Достигнув возраста, который у балерин считается пенсионным, я занялась, наконец, танцем систематически. Это был не «классический», а «свободный» или «естественный» танец – в той его версии, которая сложилась в нашей стране в начале ХХ века под сильным влиянием Айседоры Дункан. Своя техника и свои критерии к выполнению движения там тоже существуют, но на первое место ставится другое: наслаждение музыкой, удовольствие от импровизации, радость совместного движения. Оказалось, что я попала в живую традицию, которая передавалась из поколения в поколение – как говорят танцовщики, «из ног в ноги», – и о которой окружающий мир знал очень мало. По роду деятельности я историк и с интересом стала изучать историю и философию этого направления. К этому времени я уже защитила диссертацию о советском физиологе движений Н. А. Бернштейне, который лучше всех в научном мире знал, что такое ловкость. Мне оставалось только эту ловкость в танце приобрести. Однако, сколько ни учила я «естественные» движения «свободного» танца, до совершенства было далеко. Встали вопросы: в чем же «свобода» этого танца, почему его движения, считающиеся «естественными», приходится тренировать? – и много других каверзных вопросов. Как попытка на них ответить и появилась эта книга. Она – о свободном, пластическом танце, или раннем танце модерн, о его создателях, эстетических принципах и его судьбе в нашей стране.
О танце много писали как об одном из видов искусства – искусстве сценическом, части театра. Но танец больше, чем сцена, – это особая культура, целый «жизненный мир». В феноменологии под «жизненным миром» понимают «универсум значений, всеохватывающий горизонт чувственных, волевых и теоретических актов»[1]. То, что танец представляет собой такой универсум, со своим набором практик и эстетик, своими ценностями и задачами – иногда почти мессианскими, стало ясно в начале ХХ столетия. Амбиции его создателей не ограничивались сценой: эти люди чувствовали себя не просто танцовщиками и хореографами, а – визионерами, философами, культуртрегерами. Из «выставки хорошеньких ножек» и «послеобеденной помощи пищеварению»[2] они хотели превратить танец в высокое искусство, сделать, по словам балетмейстера Федора Лопухова, «шагом Бога»[3]. В новом танце им виделся росток культуры будущего – культуры нового человечества. Наверное, поэтому в реформаторы танца попали в том числе изначально не театральные люди – такие, как швейцарский композитор и педагог Эмиль Жак-Далькроз или создатель антропософии Рудольф Штайнер. Далькроз основал свой Институт ритмики с «религиозным трепетом»; имея уже полтысячи учеников, он мечтал, что ритмика станет искусством универсальным и завоюет весь мир. Штайнер создавал свою «эвритмию» как молитву в танце, как часть антропософии – религии нового человека.
С помощью танца Айседора Дункан хотела приблизить приход свободного и счастливого человечества; она обращалась не только к эстетическим чувствам своих современников, но и к их евгеническим помыслам, говорила о «красоте и здоровье женского тела», «возврате к первобытной силе и естественным движениям», о «развитии совершенных матерей и рождении здоровых детей». В танце, говоря языком Мишеля Фуко, она видела «новую человеческую технологию», которая поможет пересоздать личность. Ее программная статья «Танец будущего» (1903) – парафраза артистического манифеста Рихарда Вагнера – вдохновила не меньше сердец, чем ее знаменитый предшественник[4]. Танец Айседоры вкупе с ее философией привлекли меценатов, давших деньги на создание школ танца в Германии, России и Франции – школ, из которых должны были выйти первые представители нового, танцующего человечества.
В вагнерианской утопии о новом, артистическом человечестве танцу принадлежала ведущая роль, и даже ницшеанская «воля к власти» вполне могла трактоваться как «воля к танцу». Айседора представляла себя «полем боя, которое оспаривают Аполлон, Дионис, Христос, Ницше и Рихард Вагнер»[5]. С легкой руки Ницше пляска стала для его читателей символом бунта против репрессивной культуры, пространством индивидуальной свободы, где возможны творчество и творение самого себя, где раскрывается – а, может быть, впервые создается – человеческое я, личность. «Танцующий философ» признавался, что поверит «только в такого Бога, который умел бы танцевать», и считал потерянным «день, когда ни разу не плясали мы!»[6] Он имел в виду – комментировала Айседора – не пируэты и антраша, а «выражение жизненного экстаза в движении». Создавая свой танец – глубоко эмоциональный и личный, Дункан претендовала на то, чтобы переживать на сцене экстазы и упиваться собственной «волей к танцу». Этим же она привлекала зрителей, любовавшихся «восторгом радости у плясуньи» и считавшими, что ее нужно видеть «хотя бы только из‐за этой ее радости танцевать»[7].
Пляска-экстаз, пляска-импровизация стала самой характерной утопией Серебряного века. Человеку – писала одна из последовательниц Дункан – надо, прежде всего, пробудить свою «волю к импровизации». Плясовая импровизация – это «проявление и осуществление своего высшего духовного и физического я в движении, претворение плоти и крови в мысль и дух, и наоборот»[8]. В «импровизации побуждающей и вольной» человек, по словам танцовщика Николая Познякова, становится «самодеятельным и цельным»[9]. Современники Дункан видели в свободном танце средство вернуть некогда утраченную целостность, преодолеть разрыв между разумом и эмоциями, душой и телом.
С самого момента своего рождения свободный танец был прочно связан с музыкой. Дункан, к вящему ужасу меломанов, стала использовать произведения Бетховена, Шопена, Скрябина. Но ее вряд ли можно было упрекнуть в профанации – к музыке она относилась более чем серьезно. Ее концерты, наряду с танцевальными номерами, включали исполнение инструментальных произведений, а уроки в ее школе начинались со слушания игры на фортепиано. Музыка переносила зрителя-слушателя в другой мир, навевала настроение, вызывала нужные для восприятия танца ассоциации. Эксперимент Дункан завершился тем, что танец стали ценить за его способность быть верным музыке, выразить заключенные в ней чувства. Соединение их стало частью эстетической программы свободного танца и критерием его оценки: «Ритм человеческих движений целиком слился с музыкой. Движение стало музыкальным»[10]. И танцовщики, и педагоги стремились к наиболее полному их соответствию: Эмиль Жак-Далькроз создал свою «ритмику», «Гептахор» – метод, который так и назывался – «музыкальное движение». Пересмотрев отношения музыки и хореографии, Михаил Фокин, Федор Лопухов и Джордж Баланчин смогли реформировать классический балет и создать новые жанры бессюжетного балета, построенного по законам музыки или отношений абстрактных элементов. Даже те танцовщики-экспериментаторы, кто предпочитал выступать без аккомпанемента, обращались к ней как источнику метафор, говоря, например, о «музыке тела». Кстати, от соединения движения с музыкой выигрывали не только профессиональные танцовщики, но и любители. К тому удовольствию, которые они получали от занятий танцем или гимнастикой, прибавлялось еще и «символическое удовольствие», связанное с совершенно особой деятельностью – музыкально-двигательной импровизацией[11].
В России Дункан произвела культурную сенсацию[12]. Грезившие о «дионисийстве» и «вольной пляске» символисты увидели в ней современную вакханку. Ее рисовали художники, воспевали поэты, у нее появилась масса подражателей и последователей, – одним из первых и самых верных почитателей стал К. С. Станиславский, не пропускавший ни одного ее концерта. Станиславскому пляска Айседоры казалась чем-то вроде «молитвы в театре», о которой мечтал он сам. В ней он нашел союзницу по реформированию театра – одну из тех «чистых артистических душ», которым предстоит возвести новые храмы искусства. Художественный театр предоставил танцовщице помещение для утренних спектаклей и завел «Дункан-класс»[13].
С легкой руки Дункан в России появились и стали множиться школы и студии «свободного» или «пластического» танца. Дочь владельца кондитерских Элла Бартельс (будущая танцовщица Элла Рабенек) увидела Дункан во время ее первого приезда в Москву. Под впечатлением концерта она надела тунику, сандалии и сама стала танцевать, и четыре года спустя уже преподавала «пластику» в Художественном театре[14]. Увидев Айседору, не могла успокоиться и юная Стефанида Руднева; придя домой и задрапировавшись в восточные ткани, она попыталась повторить эту казавшуюся столь же экзотической, сколь и привлекательной пляску[15]. Если раньше Стеня собиралась стать учительницей словесности, то после увиденного переменила решение и поступила на античное отделение Бестужевских курсов. Там ее профессором стал филолог-античник, переводчик Софокла и ницшеанец Фаддей Францевич Зелинский. В самый канун ХХ века он провозгласил в России новый Ренессанс – третье возрождение античности, а значит, и возрождение древнегреческой хореи – пляски[16].
Для Маргариты Сабашниковой (ставшей позже женой поэта Максимилиана Волошина) выступление Дункан тоже было «одним из самых захватывающих впечатлений»[17]. А семилетний Саша Зякин (впоследствии танцовщик Александр Румнев) загорелся идеей танца, даже не видев самой Дункан, а лишь услышав рассказы вернувшихся с концерта родителей. Тем не менее мальчик «разделся догола, завернулся в простыню и пытался перед зеркалом воспроизвести ее танец»[18]. Еще неожиданней подобная реакция изменила жизнь взрослого мужчины – скромного чиновника Николая Барабанова. Попав на выступление Дункан, он был столь поражен, что решил сам овладеть ее «пластическим каноном». На досуге, запершись у себя в комнате, Барабанов упражнялся перед зеркалом, а потом и вовсе «сбрил свои щегольские усики, выбрал себе женский парик, заказал хитон в стиле Дункан»[19]. Кончил он тем, что под псевдонимом Икар с танцевальными пародиями выступал в кабаре «Кривое зеркало».
Российские последователи Дункан усвоили сполна и ее философию танца, и мессианский пафос. Стефанида Руднева, Людмила Алексеева и другие, как их тогда называли, «босоножки» или «пластички», занимались движением не столько для сцены, сколько – по выражению первой – для воспитания «особого мироощущения» или – по словам второй – с «оздоровляющими и евгеническими целями»[20]. Направление студии «Гептахор», названное ими «музыкальным движением», было адресовано как взрослым, так и детям, а «художественное движение» Алексеевой – всем женщинам.
На какое-то – пусть краткое – время движение стало экспериментальной площадкой не только в искусстве, но и в науке. В 1920‐е годы в Российской академии художественных наук (РАХН) возник проект создания единой науки о движении – кинемологии, куда, кроме танца, должны были войти разнообразные предметы исследования, от трудовых операций до способов передачи движения в кинематографе. Хотя этот замысел, как и проект Высших мастерских художественного движения, не был осуществлен, он вызвал к жизни несколько интереснейших начинаний. В частности, в РАХН образовалась Хореологическая лаборатория, которая устроила ряд выставок по «искусству движения». Исследователи утверждали, что движения актера в театре и рабочего на заводе подчиняются одним законам.
Для отработки движения практичного и экспрессивного Всеволод Мейерхольд создал свою биомеханику, Николай Фореггер – «танцы машин» и «танцевально-физкультурный тренаж», Ипполит Соколов – «Тейлор-театр», Евгений Яворский – «физкульт-танец», а Мария Улицкая – «индустриальный танец». Так появился новый танец, в отличие от «классического» (читай: старого) балета назвавший себя «современным», или «танцем модерн»[21]. В 1920‐е годы в России его развитие шло параллельно с другими странами Запада, где новый танец сложился в целое направление со своими стилями и ответвлениями: Ausdruckstanz (экспрессивный танец) в Центральной Европе, natural dance (естественный танец) в Англии, modern dance (модерн) в США. Там он продолжался и совершенствовался и в 1930‐е годы, и дальше. В нашей стране, к сожалению, развитие нового танца было затруднено, а потом вообще прекратилось. После «Великого перелома» конца 1920‐х годов ему лишь чудом удалось уцелеть. Но за годы своего существования студии пластики, курсы ритмики и школы художественного движения успели принести свои плоды. А сам танец прошел путь от стилизованного под античность – босиком и в туниках – к физкультурному и конструктивистскому.
Конечно, эта книга не появилась бы без помощи множества людей. Я благодарю за предоставленные материалы Татьяну Акимову, Инну Быстрову, Сергея Пронина, Наталью Тамручи, Алексея Ткаченко-Гастева, Татьяну Трифонову, Марию Туторскую и Российский музей медицины ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко», ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, Музей МХАТ, Отдел рукописей Российской государственной библиотеки. За науку и искусство танца я признательна Аиде Айламазьян, Мег Брукер, Валентине Рязановой, Татьяне Трифоновой и участникам студии-лаборатории музыкального движения «Терпсихора», а также своему партнеру по танцу Роджеру Смиту.
Часть I. Воля к танцу
Глава 1
Современные вакханты
«Культура танца» – так озаглавил свою статью о Дункан и ее российских последовательницах Волошин. Он первым у нас отозвался на выступления Айседоры, первым понял и поддержал ее миссию – утвердить танец как традицию, идущую из античности[22]. Одним из первых слово «культура» в значении «cultura animi» – «культивирование», «возделывание души» – применил Цицерон. Он писал об этом в тяжелый период жизни, потеряв жену и любимую дочь. Вкладывая в свой текст ностальгический смысл, он назвал «культурой» любовь к мысли и философствованию – то, что было у греков и чего он не находил у римлян. Таким образом, культура в изначальном смысле – нечто ушедшее, ностальгический, далекий идеал, который можно описывать и о котором можно мечтать, но невозможно реализовать, как нельзя вернуться в Золотой век Эллады. В таком понимании культура – это регулятивная идея, недостижимая цель, указывающая и освещающая нам путь[23].
Айседора Дункан стремилась поставить свободный танец, «дионисийскую пляску» над балетом – который к тому времени находился, как считали многие, не в лучшем состоянии. «Может ли кто подумать, что наш балет отражает в себе высший цвет современной культуры?» – риторически вопрошала Айседора. Связав танец с античностью, она хотела вызвать серьезное к нему отношение, надеясь, что «будущий танец действительно станет высокорелигиозным искусством, каким он был у греков»[24]. Речь шла не о том, чтобы реконструировать подлинные танцы древних греков, а о том, чтобы передать дух Эллады, о которой грезили, как о своей духовной родине, европейские интеллектуалы той эпохи. Дункан понимала, что это – единственный путь, на котором танец может из развлечения стать высоким искусством и частью Bildung’a (это популярное в то время немецкое понятие означало прочное и всестороннее образование, которое приобретается на протяжении всей жизни и без которого никто не может считать себя культурным).
Первые выступления Дункан в России, проходившие в самых престижных концертных залах, рекламировались как «утренники античного танца». Необычно дорогие билеты словно обещали дать публике нечто большее, чем просто увеселение. Родители дарили эти билеты своим детям-подросткам наряду с книгами или образовательными поездками в Европу. Большинство поклонников Дункан получили добротное образование в объеме классической гимназии, а дома зачитывались древнегреческими мифами. Они восприняли ее танец как античную цитату: в ней видели вакханку, амазонку, нимфу, ожившую древнегреческую статую, называли «редким цветком Древней Эллады»[25]. Художник Матвей Добров, делавший с нее наброски, писал: «Она так танцует, как будто сбежала с греческой вазы»[26]. «В ее искусстве действительно воскресала Греция», – считала Маргарита Сабашникова, а у Алисы Коонен ее «движения и позы невольно вызывали в памяти образы античных богинь»[27].
Ясно, что на такое восприятие Айседоры повлияло классическое образование ее зрителей. «Если бы я пришел в театр, не столько ознакомленный с античностью и бытом простых античных людей, я и половины выступления не понял бы»[28], – признавался Александр Пастернак, брат поэта. Это зрелище он прочитывал как иллюстрацию к античным мифам. В его глазах «скульптуры оживали и продолжали свое, прерванное окаменением движение после двухтысячелетнего глубокого сна»[29]. Однако публика на концерте разделилась: «Вероятно, по собственному невежеству и непониманию самой идеи, почти половина зрителей в зале оказалась раздраженной, во гневе свистевшей, шумевшей, шокированной и шикающей»[30]. Лишенные классического образования люди просто ничего не понимали.
Однажды Дункан выступала в США, в провинциальном Кливленде. Видевшему ее молодому поэту Харту Крейну показалось, что «волна жизни, пламенный вихрь пролетел над головами девятитысячной аудитории»[31]. Подавляющее большинство зрителей, однако, оставались безучастными, и по окончании концерта Айседора посоветовала им, вернувшись домой, почитать Уолта Уитмена – иными словами, усвоить литературные критерии для оценки ее танца. Образованная же молодежь в США приняла ее восторженно. Ее выступление поразило до слез дочь американского дирижера Вальтера Дамроша. «Видимо, я прилежно изучала мифологию, – вспоминала она, – ибо Айседора показалась мне Дафной, танцующей на античной полянке!»[32] После концертов она и другие юные жительницы Нью-Йорка спешили в магазин и накупали кисеи на костюмы. А ее российская сверстница, дочь философа Василия Розанова Надежда в ее танце увидела «мир, который… считала невозвратно потерянным и о котором так страстно, безнадежно мечтала»: «И как же затрепетала душа моя!»[33]
Дункан далеко не первой обратилась к античным образцам. Ее соотечественница Лои Фуллер видела свой пластический идеал в античной скульптуре – в частности, статуэтках из Танагры. Небольшие по размеру изящные фигурки изображали задрапированных женщин в грациозных позах. Наиболее известные из них Фуллер копировала в своих танцевальных композициях, где большую роль также играли драпировки. Она и сама послужила сюжетом множества изображений – скульптурных, живописных и фотографических. Фуллер начинала свою карьеру как актриса, и ее танец был хорошо продуман с точки зрения зрелищных, театральных эффектов. Она драпировалась в тончайшие шелка, которые при движении развевались, удлиняла руки специально придуманными палками и использовала цветную подсветку собственного изобретения. В Париже у нее была целая лаборатория, где Фуллер экспериментировала с цветными подсветками и другими световыми эффектами. Идеи своих костюмов и сценического оформления она патентовала. Самым популярным ее танцем стал «Серпантин» со спиральными движениями вуали; создавала она и танцы бабочки, орхидеи, лилии, огня[34].
В 1901 году Фуллер набрала труппу молодых танцовщиц, в которую ангажировала и начинающую Дункан. Но во время турне по Австрии та, заключив несколько личных контрактов, покинула труппу. Айседора никогда не исполняла запатентованные танцы Фуллер, но с успехом использовала тему танагрских статуэток. В одном из танцев она соединила несколько скульптурных поз плавными переходами. Смена их, непрерывные, текучие движения танцовщицы, которая при этом почти не сходила с места, создавали подобный кинематографическому эффект ожившей статуи. Сравнение с танагрскими фигурками стало синонимом грациозности. Такой комплимент получила, например, жившая во Франции балерина и манекенщица Наталья Труханова[35].
Если Фуллер только дополняла свой репертуар античными цитатами, то Дункан позиционировала себя почти исключительно как танцовщицу, возрождавшую античность – вернее, ее дух. Костюмы и сценография Фуллер были выполнены в модном стиле ар нуво, а движения повторяли излюбленные в модерне закругленные линии, подражая формам цветка, движению крыльев, колыханию пламени. Она любила иллюзионистскую сценографию и костюмы, скрывавшие тело. Напротив, культивируя грациозную простоту движений, Дункан почти отказалась от внешних эффектов. Для оформления сцены она выбрала нейтральный фон – завесы из серо-голубого сукна, а в качестве сценического костюма – скромную тунику. Благодаря использованию глубокой по содержанию музыки контакт со зрителями стал более интимным. Поначалу она избегала танцевать в больших концертных залах и, когда театральный импресарио предложил ей ангажемент на профессиональной сцене, собиралась отказаться. Одна мысль появиться на Бродвее повергала ее в ужас: «Мое искусство, – заявляла она, – нельзя подвергать такому риску, как театральный спектакль»[36]. Айседора была права – ее танец требовал интимности и избранного круга.
Подобно ее зрителям-эстетам из европейских салонов, Дункан боготворила Вагнера и Ницше. Вагнер ждал эстетическую революцию как богиню, «приближающуюся на крыльях бурь»[37]. Статуя крылатой Нике стала любимым образом Айседоры. Знакомство с Козимой Вагнер, дочерью Листа и женой Рихарда Вагнера, открыло перед ней двери Байрейтского театра. Себя она позиционировала как первую ласточку «артистического человечества», о котором мечтал автор этой идеи. Благодаря этому, успех «современной вакханки» у европейских интеллектуалов был шумным. Говоря о современности, историк танца Курт Сакс называет только одно имя – Дункан, отмечая, что «новый стиль всегда создают не великие исполнители, а люди с идеями»[38]. Айседора ответила на ожидания интеллектуалов, мечтавших воплотить эстетическую утопию Вагнера и Ницше, центральное место в которой принадлежало пляске. Она умело утверждала свой танец в качестве высокого искусства, пользуясь весьма эффективными стратегиями. Связав танец с античностью, классической музыкой и философией, освятив его религиозным, молитвенным отношением, она возвысила его, подняла его статус. Кроме того, из легкого, не всегда приличного развлечения танец превратился в семейное зрелище, признак хорошего вкуса. В облагороженном виде он нашел дорогу туда, где раньше ему не было места, – в салоны знати и артистические кружки[39].
Популярность Дункан была столь велика, что уже в 1910‐х годах в Европе и Америке танцмейстеры предлагали своим клиентам занятия «естественным» (natural dancing) или «эстетическим» танцем, имея в виду стиль Дункан[40]. Существовали школы, где «античный танец» изучали углубленно: в Лондоне «восстановлением древнегреческого танца» занимались в школе актрисы Руби Джиннер[41]. В Москве А. А. Бобринский открыл студию-школу, где также реконструировали древние обряды – граф относился к этому настолько серьезно, что, однажды тяжело заболев, попросил одну из своих учениц, актрису Лидию Рындину, совершить у его одра античный погребальный обряд.[42]
С началом Первой мировой войны Дункан, как и другие, стала меньше апеллировать к античности[43]. Но дело было сделано: интеллектуалы Серебряного века увидели в ней первую ласточку нового Ренессанса. Встреча с античной культурой, утверждал антиковед Фаддей Зелинский, уже много раз содействовала «пробуждению личной совести и личного свободного творчества»[44]. Предтечей современного ему возрождения Зелинский считал Ницше, а первым «славянским возрожденцем» – Вячеслава Ивановича Иванова. В статье 1905 года Иванов подхватил мысль Зелинского о том, что становление культуры происходит всякий раз при обращении к эллинским истокам, – что и составляет суть Возрождения, противопоставив эллинство неэллинству, культуру – цивилизации[45]. Возрождение античности, которое должно начаться в славянских странах, по словам исследователя, это замысел Серебряного века о себе самом[46]. Из учеников Зелинского образовалась группа, называвшая себя «Союз Третьего Возрождения», в которую в том числе вошли братья Н. М. и М. М. Бахтины и Л. В. Пумпянский[47]. Что же касается его учениц (Зелинский преподавал на высших женских курсах, Бестужевских и «Рáевских»[48]), то им уготовлялась, в частности, роль, которую с успехом играла на мировой сцене Дункан – возрождать античность через танец. Профессор приветствовал Айседору как «свою вдохновенную союзницу в деле воскрешения античности»[49].