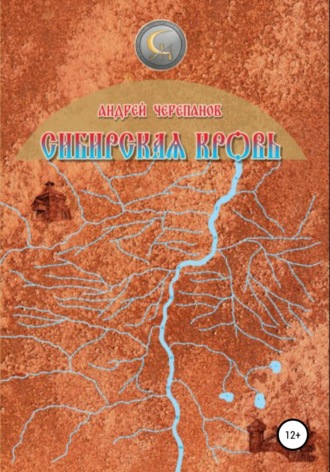 полная версия
полная версияСибирская кровь
То, что по Кутурхаю, вымершему как после применения отравляющих снарядов, пролегает улица Совдеповская, выглядит символичным, но и служит надругательством над светлой памятью некогда живших здесь поколений трудолюбивых сибирских крестьян, включая тех, кто носил фамилию Черепановых. Улицы в Качуге и в сельских поселениях района под названиями Советская, Ленина и прочих государственных деятелей эпохи социализма представляются ровно таким же надругательством.
Прославленные Черепановы
Вторая мировая война, немалая вина за горькие последствия которой лежит на кровавом диктаторе Сталине, сильно покосила мужское население Верхнеленья. Из призванных в армию по одному только Качугу почти двух с половиной тысяч человек погибло семьсот восемьдесят. Всего же я нашел сведения о тридцати двух погибших в той войне Черепановых, призванных из Качугского района, что образован на части территории бывшего Верхоленского уезда. Это – Тарас Михайлович из Бутаково; Иннокентий Филатович из Верхоленска; Зиновий Моисеевич и Максим Владимирович из Житово; Петр Михайлович из Качуга; Василий Архипович, Василий Философович, Георгий Георгиевич, Георгий Григорьевич, Михаил Игнатьевич, Николай Философович, Федор Трофимович и Яков Устинович из Костромитино и Шейны; Платон Николаевич и Тихон Андреевич из Куржумово; Александр Васильевич, Александр Николаевич, Андриан (Адриан) Игнатьевич, Василий Матвеевич, Даниил Минович, Дмитрий Васильевич, Ефим Никифорович, Клеонид Кузьмич, Мин Павлович, Павел Васильевич, Петр Яковлевич, Прокопий Никифорович и Прокопий Павлович из Кутурхая; Алексей Семенович и Иван Семенович из Ремезово; Иннокентий Константинович из Шишкино; Егор Сергеевич из Щапово. Но эти сведения вряд ли полные.
А самым прославленным из выживших в той войне местных призывников, чьим именем названы улицы нескольких поселений, в том числе отдаленных от верховья Лены, стал Корнилий Черепанов (пятижды правнук Ивана Федоровича Черепанова, представитель линии Иван малой – Кузьма – Кондратий)[324], родившийся 13 сентября 1905 года в Бутаково[325], – первенец крестьянина Георгия Варлаамова и его шестнадцатилетней жены Александры Кирилловны.
Боевые навыки Корнилий Георгиевич Черепанов получил еще в 1929 году в вооруженном конфликте на Китайско-Восточной железной дороге и в 1938 году на озере Хасан. Во Второй мировой войне он командовал дивизиями в боях с Германией и Японией, в том числе освобождал Старую Руссу, Холм, Новоржев, участвовал в штурме Кенигсберга. В битве за Маньчжурию получил тяжелое ранение, потерял руку. Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 11 июля 1945 № 1683 Черепанову Корнилию Георгиевичу было присвоено воинское звание генерал-майора, а указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года – звание Героя Советского Союза «за умелое командование стрелковой дивизией, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм».
После окончания войны и до ухода в запас в 1953 году Корнилий Черепанов возглавлял военный комиссариат Московской области, после – работал в центральном опытно-конструкторском бюро Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. Умер он 30 января 1999 года в возрасте девяноста трех лет, похоронен в Москве.
Есть и верхнеленские Черепановы, ставшие широко известными своими мирными профессиями. Самый старший из тех, о ком есть сведения в интернете, – Алексей Игнатьевич Черепанов, рожденный 14 марта 1913 года в Кутурхае (он пятижды правнук Ивана Федоровича Черепанова, представитель линии Иван малой – Василий – Иван)[326]. Алексей Игнатьевич – участник войны, получивший в 1943 году тяжелое ранение на Северо-Западном фронте, а в послевоенное время – доктор биологических наук, профессор, занимающийся колеоптерологией (наука о жуках), автор множества монографий. В 1955–1978 годы он руководил новосибирским Институтом систематики и экологии животных Сибирского отделения Академии наук СССР, затем заведовал Сибирским зоологическим музеем при институте. Умер он в Новосибирске 4 декабря 1985 года.
Лев Степанович Черепанов (наверняка он сын Степана Гаврииловича, который перебрался в якутские Белькачи, и шестижды правнук Ивана Федоровича Черепанова, представитель линии Иван малой – Василий – Иван)[327] родился 7 ноября 1929 года в Кутурхае, в начале 1950-х годов в период службы в частях Военно-воздушных сил повоевал за Северную Корею. Затем работал корреспондентом в иркутских и красноярских газетах, сотрудничал с московским издательством «Современник», стал ярким репортером эпохи «оттепели», писателем, автором романов «Тишина на двоих» и «Горбатые мили». Именно он открыл широкой общественности в 1978 году семью саянских отшельников-староверов Лыковых и помогал ей. В конце жизни Лев Степанович Черепанов переехал в Москву[328].
Александр Павлович Черепанов, рожденный в Качуге 30 марта 1920 года (он шестижды правнук Ивана Федоровича Черепанова, внук Василия Николаевича – внебрачного сына Марфы Афанасьевны Черепановой, представитель линии Григорий – Зиновий – Михаил)[329], воевал на Халкин-Голе и в Маньчжурии, стал полковником, в 1962–1976 годах возглавлял штаб гражданской обороны Челябинской области, был депутатом Челябинского областного совета народных депутатов двух созывов. Умер в 2010 году.
Значительно сложнее оказалось найти потомков верхнеленских Черепановых, родившихся уже вдалеке от Верхоленска (назову их внуками Верхнеленья). И вовсе не потому, что среди них нет широко известных, а потому, что места рождения этих потомков разбросаны по всей стране, ведь «внутренняя эмиграция» была географически обширной. И сейчас их отношение к «моим» Черепановым устанавливается лишь по биографиям со ссылками на места рождения отцов или матерей. Но, надеюсь, после выхода настоящей книги те, кому интересно упоминание имен своих близких в ее новых изданиях, проявят себя и поделятся со мною такими именами. Пока же в дополнение к далее приводимым сведениям о моем отце Владимире Георгиевиче Черепанове вынужденно ограничусь здесь представлением двух внуков Верхнеленья, о жизни которых я узнал в ходе работы над книгой.
Первый из них – Виктор Алексеевич Черепанов, рожденный 22 октября 1948 года в Новосибирске (он шестижды правнук Ивана Федоровича Черепанова, сын колеоптеролога Алексея Игнатьевича, о котором сказано выше, и поэтому также представляет линию Иван малой – Василий – Иван)[330]. Виктор Алексеевич – доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор Ставропольского государственного аграрного университета. А прежде он возглавлял отдел главного управления кадров и учебных заведений МВД СССР и Ставропольские высшие курсы милиции, являлся подполковником внутренней службы. После ухода из органов внутренних дел был избран депутатом Ставропольской краевой думы, где занимал должность председателя контрольно-счетной палаты. В 1997–1999 годах работал в Администрации Президента Российской Федерации заместителем полномочного представителя Президента в республиках Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и в Ставропольском крае, в 2000–2011 годах – заместитель, первый заместитель главы Ставрополя, советник председателя Думы Ставропольского края, в ней же – заместитель представителя губернатора и правительства края, действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса.
Второй – Анатолий Петрович Черепанов (семижды правнук Ивана Федоровича Черепанова, представитель линии Иван малой – Кузьма – Филипп)[331], рожденный 12 мая 1951 года в деревне Шейна Ангинского района Иркутской области. Он – доктор технических наук, изобретатель, автор методических пособий и многих десятков научных работ, профессор Ангарского государственного технического института.
А еще об одном верхнеленском Черепанове, славном, ярком, но оклеветанном молвой, – особая глава.
Глава 8
Кому – бандит, кому – освободитель
Я заметил, что в Верхоленске, когда разговор заходит об истории поселения, моя фамилия всякий раз ассоциируется с Адрианом, или Андрианом Черепановым. И такая ассоциация негативна. Мол, в первые послереволюционные годы был такой главарь вооруженной антисоветской банды, лютовал, расстреливал и убивал обухом топора местных коммунистов и даже замучил до смерти невинного молодого учителя из села Келора. В общем, свирепый бандит. Точно также он характеризуется во множестве публикаций. К примеру, в августе 2017 года в журнале «Загадки истории» под рубрикой «Злодеи» опубликована статья Виктора Волынского «Тени исчезают в полдень» об Адриане Черепанове и его жене Анне как главарях «банды матерых убийц»[332]. Полагаю, что настала пора принципиально изменить отношение к этому человеку. Потому, что его стремления были справедливы и он – истинный герой.
Адриан[333] Григорьевич родился 6 августа 1867 года и был старшим сыном в семье крестьянина Кутурхайской деревни Григория Яковлевича Черепанова и его жены Евгении Иннокентьевны, также урожденной Черепановой (они являлись друг другу пятиюродными братом и сестрой). Бабушка Адриана по материнской линии Евдокия происходила из семьи оседлого инородца Никиты Житова, и поэтому в жилах ее внука текла и русская, и «туземная» кровь[334]. Та же бабушка оказалась крестной матерью (восприемницей) Адриана, а его крестным отцом – русский крестьянин Василий Богатырев[335]. И, по иронии судьбы, Адриан стал русско-бурятским крестьянином-богатырем.
Дед Адриана Григорьевича по отцовской линии Яков Иванович Черепанов приходился и дедом моей прабабушки Любови Адриановны, и, значит, Адриан Григорьевич – мой троюродный прадед. И еще четырехюродный, ведь общий предок, но уже по линии его матери, – прадед Николай Иванович Черепанов – у него имелся с моим прадедом Матвеем Данииловичем[336]. Адриан и Матвей, будучи родственниками и земляками-одногодками, оказывались сопоручителями на свадьбах и наверняка приятельствовали. Поэтому верю, что, окажись Матвей Даниилович Черепанов к большевистскому перевороту жив, он присоединился бы к восстанию Адриана Григорьевича против губительной советской власти.
Когда Адриан достиг девятнадцати с половиной лет, умерла «от родов» его сорокалетняя мать Евгения Иннокентьевна, не выжил и рожденный ею младенец, а до того поумирали еще семеро братьев и сестер Адриана, и у его отца осталось в живых четверо детей – вышедшая к тому времени замуж за верхоленца Якова Зуева первенец Наталья, сам Адриан, Георгий в возрасте четырнадцати лет и Гавриил, двенадцати. Конечно же, забота о младших братьях досталась и Адриану.
Адриана Григорьевича и его второй жены Анны, появившейся на свет 16 января 1892 года в семье крестьянина Качугского села Прокопия Григорьевича Чемякина. А названы их дети были, как и последние российские императоры, Александром и Николаем.
В первый раз он женился восемнадцатилетним, еще до ухода из жизни своей матери, на ровеснице Анне, дочери крестьянина Тальминского селения Якова Ивановича Шеметова, и с тех пор навсегда стал окружен Аннами: с таким именем были и две его дочери, и вторая жена, приведенная в дом в 1912 году через четыре месяца после смерти первой от гангрены. Всего же известно о рождении от Адриана Григорьевича двенадцати детей – точно по примеру его отца. Но трое из них умерли младенцами, еще трое – в два, семь и двенадцать лет. В числе невыживших младенцев оказались и оба ребенка Адриана Григорьевича и его второй жены Анны, появившейся на свет 16 января 1892 года в семье крестьянина Качугского села Прокопия Григорьевича Чемякина. А названы их дети были, как и последние российские императоры, Александром и Николаем.

Черепанов Адриан Григорьевич

Кутурхай. Дом купца А.Г. Черепанова
Завели семьи адриановские сыновья Василий и Гавриил, и к концу 1920 года у них было уже шестеро собственных сыновей – продолжателей фамилии. Вероятно, вышла замуж старшая дочь Адриана Мария. По крайней мере, ее в исповедной росписи семейства за 1916 год нет. А трое дочек – родившиеся в 1893 и 1895 годах две Анны и самая младшая Варвара, 1901 года рождения, – тогда еще ждали своей очереди на замужество.
Адриан Григорьевич Черепанов имел в Кутурхае вместе с сыновьями крупный крестьянский надел и, как утверждается, являлся совладельцем пристани в Качуге, занимался торговлей, купечеством[337]. Он характеризовался своими земляками с добротой – как настоящий крепкий хозяин, который трудился не покладая рук. Еще его называли человеком справедливым191.
Повстанцы-антибольшевики
Когда в январе 1918 года верхоленские большевики по примеру своих старших товарищей из Петрограда и Иркутска силой разогнали законно избранное Земское собрание и назначенный им исполком, а в марте того же года провели собственный съезд, создали исполком теперь уже Верхоленского уездного совета рабочих и крестьянских депутатов и узурпировали в уезде власть, Адриан Григорьевич Черепанов наотрез отказался ее принимать. Наверняка он прекрасно понимал, что это за власть. Знал о подлом предательстве в Первую мировую войну, продаже высшим руководством большевиков Отечества врагу, повсеместно чинимом произволе, полном пренебрежении ради достижения своих целей чужими жизнями. Знал он и о том, что октябрьский государственный переворот в центре России организован промышлявшими в прежние годы кровавыми грабежами «эксовцами» и поддержан потомками крепостных с рабской психологией. Знал, что мощь большевиков зиждется на лживых лозунгах, потакании низменному желанию завистливых бездельников отобрать у трудоспособных и успешных соседей их имущество и привычном беспредельном терроре. Значит, семена этой заразы надо было уничтожать, ростки выкорчевывать, пока они глубоко не проросли и широко не распространились, освобождать от них родную землю. Что он и делал, когда многие другие только роптали.
Бойцы возглавляемого Адрианом Григорьевичем повстанческого кавалеристского отряда из крестьян, купцов и бежавших из иркутских тюрем офицеров арестовали 5 июля 1918 года в Верхоленске самозванных совдеповцев и передали их военно-полевому суду. Под него попали также несколько большевиков, арестованных позднее. После проведенного расследования многих из взятых под стражу освободили, а нескольких из-за тяжести совершенных ими преступлений приговорили к расстрелу. По официальной версии, в отношении четырнадцати приговор приведен в исполнение 21 июля 1918 года вызванным из Иркутска отрядом Ивана Красильникова, впоследствии генерала-майора армии Колчака. Один совдеповец был убит чуть раньше при попытке к бегству, еще один бежал.
В том же месяце отряд Черепанова взял в плен на Приленском тракте вблизи Верхоленска большую группу большевиков. Среди них оказался даже «местный Дзержинский» – первый председатель Сибирской чрезвычайной комиссии, комиссар иркутской милиции Иван Постоловский, под чьим руководством за несколько недель до того события были посажены за решетку участники антибольшевистского восстания в Иркутске, часть из которых – расстреляна по приговору большевистского военно-полевого суда. Черепановцы передали захваченных коммунаров новой иркутской власти, и через несколько дней чехами и белыми офицерами был повешен у берега Ангары теперь уже и сам Постоловский[338]. Прошу обратить внимание: в период, когда еще была возможность вручения судеб плененных безоружных врагов белогвардейскому правительству, Адриан Григорьевич самосуда не чинил.
Вероятно, в тот же год он вернулся к мирной жизни. Но когда в марте 1920 года большевики вновь захватили власть в Иркутской губернии, он был вынужден скрываться в лесах и повторно собирать вместе с офицерами Даниилом Ивановичем Шелковниковым[339], Поповым (прибыл из Самары, имя и отчество не выяснены) и Иваном Александровичем Яковлевым (он же – полковник Осипов) вооруженный кавалеристский отряд из местных сподвижников. К нему присоединились десятки офицеров-каппелевцев, участников «ледового похода», не успевших уйти в Забайкалье, бурятов. В этом отряде Анна Прокопьевна, жена Адриана Черепанова, стала кемто вроде атаманши, и называли ее Черепанихой. В нем был как минимум еще один Черепанов – двадцатисемилетний племянник Адриана Григорьевича и бывший офицер Василий Егорович, бежавший из верхоленской тюрьмы в октябре 1920 года. Но его весной 1921 года убили верхоленские чоновцы[340].
Согласно подготовленному в конце 1920 года обзору Иркутской ГубЧК о повстанческом движении в Иркутской губернии, первое открытое выступление черепановцев состоялось 29 октября 1920 года, когда «белая банда численностью в 50 с небольшим всадников под командою известного в уезде бандита из промышленников, старого контрреволюционера Черепанова появилась в Харбатово и увела с собой двух коммунистов (впоследствии были убиты) – председателя Ленского хошуна Сотникова и продагента Рожкова… В первых числах ноября банда оперировала в пределах Эхирит-Булагатского аймака. 11 ноября имела удачное для себя столкновение с разведкой красного отряда из Верхоленска, причем со стороны отряда красных погибло 7 чел. и в руки банды попало 17 лошадей»192.
Повстанцы несколько раз угрожали Верхоленску новым захватом, освобождали от большевиков деревни и долго нагоняли на красноармейцев ужас. Еще одну местную группу антибольшевистских повстанцев, иногда соединяющуюся с отрядом Адриана Черепанова, иногда действующую самостоятельно, возглавлял тогда Николай Прокопьевич Большедворский. Он – эсер, бывший комиссар Временного правительства, последний председатель законного исполнительного комитета Верхоленского уезда. В 1921 году погиб.
Сохранилось множество свидетельств об истинных мотивах восстания Адриана Григорьевича Черепанова со товарищи против советской власти. Одно из них – «живописный» доклад секретаря Верхоленского уездного комитета РКП(б) Дмитрия Федоровича Зинковского, предоставленный в Иркутский губернский комитет большевистской партии 20 января 1921 года. В нем сообщалось, что кадровый состав отряда, – а Зинковский называет его не иначе, как шайкой и бандой, – «составился из бывших офицеров-карателей, закоренелых контрреволюционеров и разной сволочи, бежавшей из тюрем и боявшейся расправы советского правосудия. Далее банда пополнялась дезертирами, которые не явились на мобилизацию… Ясно, что главным образом дезертирами являлись кулацкие сынки, вслед за которыми в банду пошли и некоторые кулаки, недовольные разверсткой… Особенно больно ударила разверстка по кулакам-бурятам, которым нужно было в значительной степени поделиться своим богатством; буряты-кулаки потекли в ряды белобанды, а за ними поплелись робкие, забитые, темные буряты-бедняки и середняки, всецело находящиеся под влиянием своих кулаков… К концу октября банда возросла до 70–80 чел. и к концу ноября до 200 беляков…
База шайки находилась в окрестностях улуса Талай, что в 18 верстах от г. Верхоленска и приблизительно в таком же расстоянии от Качуга… Главным источником питания банды являлись бурятские улусы и с. Кутурхай – родина местной контрреволюции… Хотя следствие еще не выяснило полный план организации этих темных отбросов трудового общества, уже теперь с определенностью можно сказать, что первым шагом банды было устройство кулацких подпольных, постоянно действующих организаций, которые в период мирной жизни вели контрреволюционную, главным образом провокационную работу, вводя крестьян в заблуждение об истинном положении советов России и Сибири, внося в сознание крестьян мысль о недолговечности и непрочности советвласти, о походе японцев, о легендарном «буфере», играя на слабых струнках собственничества крестьян, подбивая их на срыв, на сопротивление разверсткам, прятание, утаивание хлеба и посевной площади… Первое, что является бесспорным, это то, что данное движение не является случайным, стихийным взрывом кулацкого возмущения кулацких элементов деревни против разверсток или каких-либо других мероприятий советской власти. Лоном, из которого вышло это чудовищное белогвардейское детище, является Иркутск: Черепанов Адриан, получив определенные задания, заявился в уезд и стал здесь работать. Работа его была успешна…
Банда идет под флагом свержения советвласти, не высказываясь определенно, какую власть они установят после свержения существующей. Они стыдливо прячутся за занавеску «буфера». Пленные крестьяне на вопрос, чего они добиваются, отвечали, что хотят «установить власть буфера». Тогда не будет разверстки, а будет свободная торговля, не будет пайка, а жри сколько хочешь – вот политическая платформа повстанцев. На вопрос, почему же крестьяне именуют себя белыми, пленный отвечал, что они пока не придумали, как себя можно было бы иначе назвать. Как ни сумбурны эти лозунги, они могут привлечь крестьянство, которое в силу своего экономического положения не может не быть во враждебном отношении к экономической политике РКП и советвласти, и, создайся неустойчивое положение, банда может вырасти до громадных размеров и играть решающую роль. Борьба с ней не может ограничиться лишь военными действиями. Нужны другие меры, и центр должен подумать о них»193.
Из доклада Зинковского хорошо видно, что сами же противники повстанцев понимали естественную природу сопротивления крестьян советской власти с ее продразверсткой, разорявшей сибирские деревни. Но большевики подготовились к безжалостному подавлению недовольства. Одновременно с фактическим провоцированием в Сибири множества вооруженных восстаний наподобие восстания Адриана Черепанова, сюда направлялось подкрепление в виде регулярных частей Красной Армии и проводились кровавые репрессии против самих повстанцев и их сторонников. Вскоре силы оказались далеко не равными.
И вот когда к концу 1921 года открытая борьба была уже невозможна, ждать справедливого суда над захваченными большевиками стало нелепо, отряд под руководством Черепанова перешел к отдельным актам уничтожения и устрашения. Так, в ночь на 7 ноября 1921 года группа во главе с Анной Черепановой ворвалась в село Заплескино, и она лично зарубила шашкой трех коммунистов, после чего выцарапала ножом на двери совдепа: «Пусть встречают свой праздник на том свете!».
Но только вот приписываемые черепановцам смертельные мучения в Келоре местного молодого учителя (подозреваю, что и убийство в Караме коммунистов обухом топора) были на самом деле причинены не ими, а повстанческим карательным отрядом под руководством Валентина Дуганова. И о нем обязательно надо рассказать.
Этот отряд, называемый «Золотыми зубами» (у Дуганова были золотые коронки на зубах), хоть и объединился с черепановцами в октябре 1921 года на реке Илге, но ненадолго. Сам же к тому времени двадцатидевятилетний уроженец Саратова Валентин Леонидович Дуганов – прежде музыкант, Георгиевский кавалер и помощник начальника штаба бригады в корпусе Каппеля – отличался среди белогвардейских командиров «исключительными зверствами». Попал он в Иркутскую губернию в результате его ареста большевиками в марте 1921 года на территории Монголии, и в июне того же года Иркутская ГубЧК приговорила его по обвинению в совершении контрреволюционного преступления к расстрелу. Однако 20 июня 1921 года Валентин Дуганов сумел бежать. Вот что об этом говорится в «Фрагментах воспоминаний» Анны Васильевны Тимиревой-Книпер, которая находилась в момент побега в той же тюрьме после казни ее возлюбленного адмирала Колчака: «Гражданская война кончилась. Многие заключенные получали сроки – максимальный был тогда 5 лет. И вдруг начались расстрелы – по 40, 80, 120 человек. Люди, примирившиеся с приговором, поняли, что терять им нечего: среди бела дня человек десять бросились на вышку с часовым, перемахнули через забор и бросились бежать». А по свидетельству другого заключенного – Горбунова, непосредственным поводом к побегу был вывод на расстрел «не только приговоренных, но также срочных и следственных, ни разу не допрошенных в 50, 70 человек»194. Получается, что окрепшая в Иркутской губернии советская власть казнила лишенных свободы и поэтому не представлявших опасности для нее противников десятками даже без следствия и суда.
Часть бежавших арестантов были убиты, а троица во главе с Дугановым, отсидевшись в бурятских улусах до установления на реках ледяного покрова и набрав сторонников, главным образом – тех же бурятов, как раз и объединились в октябре 1921 года с отрядом Адриана Черепанова. Но уже в следующем месяце более полсотни повстанцев во главе с Дугановым двинулись на Байкал, продолжая по дороге расправу над большевиками и их сторонниками. Судя по исследовательской работе Владимира Баранчука «Памятник на берегу Байкала» с подробными цитатами ежедневных сводок Иркутского ГубЧК, дугановский отряд «при входе в какой-либо населенный пункт выдавал себя то за красных, то за банду Черепанихи, в зависимости от обстановки»195. И наверняка не Адриан или Анна Черепановы, которые еще 22 ноября 1921 года находились вблизи Киренска (по сводке: «от Киренска в расстоянии однодневного перехода»), т. е. примерно в отдалении четырех-пяти сотен верст от села Келора, а бойцы «Золотых зубов» совершили 23 ноября 1921 года нашумевшую изуверскую казнь сельского учителя Иосифа Аксаментова. Тот же Баранчук так и пишет, что в Келору ворвалась банда «Золотые зубы». Впрочем, казненный не просто учительствовал, а «вел среди населения и особенно молодежи пропаганду идей В.И. Ленина», являлся первым комсомольцем Жигаловского района. И, по тем понятиям, был деятельным врагом, заслужившим лютую смерть.

