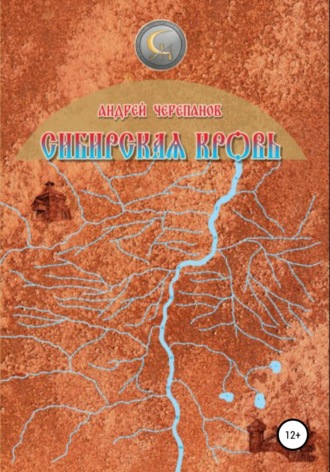 полная версия
полная версияСибирская кровь
Спустя полтора десятилетия советская власть по-своему ответила на гибель ленинского пропагандиста: ею в 1937–1938 годах были казнены по политическим мотивам восемь Аксаментовых из того же Жигаловского района. Ни в чем не повинных.
Вдоволь полютовав у Байкала, отряд Дуганова в самом начале 1922 года направился трассой нынешней Байкало-Амурской магистрали к Витиму, а затем – в якутскую Чурапчу на помощь местным повстанцам. По воспоминаниям полного Георгиевского кавалера, большевика латышско-польских кровей, активного участника Гражданской войны в Якутии и Иркутской области Ивана Строда196, именно дугановцы с местными белогвардейцами устроили в марте 1922 года вблизи Якутска засаду на красноармейский отряд бывшего иркутского анархиста, главы Верхоленской группы советских войск, затем – командующего войсками Якутской области и Северного края, коммуниста Нестора Каландарашвили и убили его[341].
Думаю, не лишним будет рассказать, что после гибели Каландарашвили его отряд возглавил Иван Строд и ровно через год вошел в историю как руководитель беспримерной по героизму и стойкости обороны аласа Сасыл-Сысыы (Лисья поляна) у якутского села Амга[342] от войска белого генерала Анатолия Пепеляева[343]. Победив в том противостоянии, Строд фактически предотвратил захват Якутска белогвардейцами, освобождение его от советской власти. За ту победу он был награжден персонально для него изготовленным золотым нагрудным знаком Центрального исполнительного комитета ЯАССР и серебряной шашкой с золотой надписью «Герою Якутии»[344].
Но большевики сами загубили своего героя: в августе 1937 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Ивана Яковлевича Строда к высшей мере наказания за «участие в антисоветской террористической организации». По заведенному порядку тех времен, его сразу расстреляли. По иронии судьбы, в том же августе за «создание контрреволюционной организации» был арестован и Анатолий Николаевич Пепеляев, а в январе 1938 года, по приговору новосибирской Тройки НКВД, – тоже расстрелян. Впоследствии амгинские противники были реабилитированы – красный в 1957 году, белый – в 1989-м.
Что же до Валентина Дуганова, то, когда красноармейцы в конце концов оттеснили повстанцев к Охотскому морю, он, вероятнее всего, отбыл на корабле во Владивосток, затем повоевал в Забайкалье в районе Нерчинска и ушел в китайскую Маньчжурию. Оттуда – вновь в Забайкалье, где в сентябре 1924 года погиб в бою.
Под чужой фамилией
О дальнейшей судьбе Адриана Черепанова имеется несколько противоречивых версий. По одной из них, опубликованной редактором якутской газеты «Ленский водник» Александром Павловым в путеводителе «Лена – от истока до устья», Адриан Григорьевич погиб в октябре 1921 года в бою с чекистами в тот же день, когда он с остатками своей «банды» устроил выше Верхоленска засаду и разгромил группу надоедливо преследовавших его красноармейцев. Будто бы Адриан Григорьевич вырвал из груди раненого командира той группы Александра Мишарина[345] сердце и повесил его на дерево. А оставшаяся без мужа Анна Черепанова якобы «до 1928 года держала в тревоге жителей местных деревень. Живя в тайге, она время от времени приезжала помыться в бане, запастись провизией, а также для устройства своих пяти (или даже более) свадеб».
Однако эта версия не «бьется» как с воспоминаниями Василия Рудых, сослуживца Мишарина по верхоленской роте, так и с вышеприведенным докладом Зинковского, по которым Мишарин еще за год до того, 10 ноября 1920 года, у селения Талай вместе с пятью другими коммунистами попал в засаду и погиб от ружейных залпов по команде Адриана Черепанова «Рота, пли!». Кроме того, не вполне понятно, что за тревога была у местных жителей от помывки еще довольно молодой женщины в бане и якобы устраиваемых ею свадеб, а также почему столь долго ее не могли обезвредить и прекратить «тревожные мучения» населения. Конечно же, все это в путеводителе – нагромождение лжи. Полагаю, что и утверждение о вырванном сердце – мифическая выдумка, ведь тело Мишарина обнаружено не было и обстоятельства его гибели неизвестны.
Согласно же статье Игоря Подшивалова «Жанна Д’Арк сибирской контрреволюции»197, к 1922 году многие бойцы отряда Адриана Черепанова погибли или были расстреляны при поимке, но сами супруги Черепановы как в воду канули. Вскоре их поиски были прекращены. И только через пятьдесят лет выяснилось, что, осознавая бессмысленность дальнейшей борьбы, Адриан и Анна Черепановы распустили свой отряд и поселились в селе Манзурка под фамилией Корепановы[346]. Благо, переделать в документах пришлось всего-то две первые буквы. В конце 1920-х, опасаясь опознания, они уехали на север и поселились в отдаленной фактории эвенкийского кооператива «Нюкша». Адриан Черепанов вскоре стал заведующим этой фактории, а Анна – снабженцем. В 1936 году Анна привезла тяжелобольного Адриана в Читу, где он умер в возрасте семидесяти лет. В факторию Анна не вернулась, работала счетоводом на курорте Дарасун в 140 км южнее Читы, потом заведующей столовой, а перед самой войной переехала в Красноярск. Здесь она начала с продавца и дошла до директора магазина и даже заведующей торгом. В начале 1970-х Анну Черепанову опознал житель Приленья, приехавший в Красноярск навестить сына. Четырнадцатилетним пацаном он видел атаманшу, когда она у него на глазах зарубила его родителей, и запомнил ее на всю жизнь. Следствие подтвердило, что пенсионерка Анна Корепанова и атаманша Анна Черепанова – одно и то же лицо. По фотографии ее опознали другие старожилы. Выдали ее и прихрамывание на правую ногу, и ранившая ее пуля от берданки, которую она всегда носила на шее на черном шелковом шнурке. Но Анну Черепанову не смогли ни казнить, ни судить – вышли все сроки давности.
Эта версия выглядит вполне правдоподобной во всем, кроме одного (срок давности пока оставлю в стороне) – жизни «черепановских» Корепановых в Манзурке. Они – Адриан и Анна – могли поменять что угодно, вплоть до цвета собственной кожи, но реальное происхождение вновь заселившейся семьи в том же районе, где происходили громкие повстанческие события, было бы «вычислено» советскими властями мгновенно.
Еще более сомнительный вариант развития событий в первый период после прекращения Адрианом и Анной Черепановыми вооруженного сопротивления большевикам приведен у Владимира Баранчука в его «Памятнике на берегу Байкала»198. Автор направляет скрывающуюся от обнаружения чету даже не в относительно отдаленную Манзурку, а в самый эпицентр риска – в Качуг и Кутурхай, где их вообще каждая собака знает. И приведенный мотив такого безумства у Баранчука прост: Адриан и Анна «все чаще стали подумывать о том, как там, на родине, живут их дети, чем занимаются, не потревожили ли их большевики». Автор, по-видимому, не в курсе, что «их» дети умерли еще младенцами, а традиционно хорошо налаженное оповещение повстанцев о событиях в поселениях не оставляло шансов на незнание «как там». И он пишет далее: «Прикинувшись обычными гражданами, возвращающимися из поездки к родным в гости, они стали короткими отрезками пути пробираться к Иркутску. Где они ехали поездом, где на попутных подводах, даже местами шли пешком. И вот наконец Иркутск. Решено в Иркутске не останавливаться, хотя здесь у них был дом, по ул. Кузнечной, 15. Но их тянуло туда, где дети, где усадьба, где хозяйство. Оставаться в Иркутске – значит, подвергнуть себя риску быть опознанными и арестованными. Уличив подходящий момент, они договорились с ямщиком обоза, который двигался на Качуг. Доехали до Качуга, теперь предстояло добраться до д. Картухай. Это уже не так далеко. Вот-вот – и они предстанут пред своими родными. Решено сделать небольшой крюк, сначала побывать у своих идейных покровителей, разузнать, что о них слышно в округе: по деревням и селам, и быть готовыми ко всяким расспросам и допросам. По дороге в с. Бирюлька, куда ехали Черепановы, их подвода вдруг была остановлена. Случилось то, чего они боялись. Сотрудник ГПУ Скворцов, проверив документы у проезжающих, опознал их и арестовал 28 ноября 1922 г. Арестованных этапировали в Иркутск».
Затем, как гласят приведенные в «Памятнике…» официальные документы, Адриан и Анна были помещены в Иркутский губернский дом заключения, с ними проводились следственные действия, 17 июля 1923 года было издано постановление старшего следователя при Иркутской губернском суде Мамаева о принятии дела к своему производству, 24 октября того же года в тюрьму поступило обвинительное заключение уголовного отдела Иркутского верховного суда по статьям 58, 64 и 76 Уголовного кодекса для вручения его Адриану и Анне Черепановым, Прокопию Шеметову, Ивану Яковлеву и Даниилу Шелковникову.
Но, как утверждает Владимир Баранчук, «Выполняя принудительные работы внутри тюрьмы, Черепановы с большим усердием трудились и тем самым снискали у тюремной охраны уважительное отношение. Пользуясь репутацией относительно “надежных” арестованных, чета Черепановых совершает побег. Организованная поимка беглецов была неудачной. Они как сквозь землю провалились. Дело было приостановлено. В официальных документах было написано, что супруги Черепановы до суда были выпущены под подписку о невыезде и уехали на Дальний Восток».
И, наконец, приводятся уже известные обстоятельства о подделке супругами Черепановыми «изрядно потрепанных за долгие годы скитаний» документов на Корепановых, появлении их «далеко на севере в Забайкальской области в эвенкийском кооперативе Нюкша фактории Калокан», смерти Адриана Григорьевича в Чите и опознании его вдовы жителем Качугского района. И, как оказывается, опознал прихрамывающую на правую ногу Анну Черепанову в очереди у прилавка на базаре г. Тайгинска Егор Житов.
С выяснением его фамилии сразу же рушится миф о «четырнадцатилетнем пацане», что «видел атаманшу, когда она у него на глазах зарубила его родителей». Дело в том, что известен лишь один случай совершенной повстанцами казни в Житовской деревне, где обитали верхнеленцы с такой фамилией. Согласно сделанным 19 ноября и 11 декабря 1920 года докладам начальника милиции Верхоленского уезда199, совершила его в ночь с 17 на 18 ноября 1920 года «банда белых под предводительством бывшего офицера (ближайшего участника Верхоленского расстрела в 1918 году) Николая Большедворского». «Банда» состояла из бурят и житовских крестьян, к которым относился и сам Большедворский. Убит ею был лишь председатель Куленгского волостного исполкома Григорий Корнилович Житов. Причем, его не зарубили, а расстреляли, и одного, без жены. Еще шесть взятых в плен коммунистов вскоре оказались на свободе.
К тому же, как я узнал из метрических книг, в период с 1901 по 1919 год у «приленских» Житовых родилось всего четыре Георгия (Егора) – в семьях Николая Евстафьевича, Георгия Исидоровича, Николая Корнильевича и Григория Федоровича соответственно в 1904, 1910, 1914 и 1915 годах. Ни одному из тех Егоров в 1920 или 1921 году не было четырнадцати лет, и ни одного из их отцов не убивали повстанцы. Предвидя же довод о том, что в рассказе Белоусова и Гудкова «Разыскана через пятьдесят лет (Черепаниха)»200 опознавший Анну Черепанову житель Верхоленья назван не Егором, а Иннокентием Георгиевичем (Егоровичем) Житовым, сразу на него отвечу: не было человека и с таким именем, имевшим в начале 1920-х годов возраст, близкий к четырнадцати годам[347].
Мало того, официальные источники ни об одном убийстве отрядом Черепановых жен большевиков, либо каких-либо Житовых из каких-либо поселений вообще не сообщали. Зато, к глубочайшему сожалению, семьи Житовых из Качугского района вскоре сильно проредила окрепшая Советская власть. Она в 1937–1938 годах незаконно репрессировала целых пятнадцать их глав, в том числе восемь расстреляла.
Далее Владимир Баранчук утверждает, что к делу Анны Черепановой «были приложены сотни страниц и десятки фотографий, запечатлевших ее “художества”. После предъявленных ей обвинительных статей Уголовного кодекса РФ, согласно которым она заслуживает высшей меры наказания, сердце 80-летней старухи не выдержало». Из чего следует вывод: Анна Прокопьевна, многолетняя верная спутница Адриана Григорьевича Черепанова, избежала судебного приговора вовсе не благодаря истечению срока давности, а из-за случившейся с ней смерти.
В вышеизложенных событиях есть еще несостыковки. Во-первых, Адриан и Анна не могли в Иркутск добираться поездом, ведь в те времена приленская тайга поездов еще не видела, их движение открылось только в 1950 году. Во-вторых, в 1922 году в Бирюльке, как и в других верхнеленских поселениях, властвовали большевики и никаких «идейных вдохновителей» типа «вашингтонского обкома» там быть не могло. В-третьих, вряд ли повстанцы, имеющие уникальный партизанский опыт и боевые навыки, позволили себе вот так просто нарваться на ГПУшника[348], а нарвавшись, не суметь от него отбиться. В-четвертых, как-то уж нереально либеральным оказался режим нахождения под стражей опаснейших «бандитов», который позволил им бежать, причем семьей. В-пятых, якобы имеющаяся подписка о невыезде не могла послужить официальным оправданием для тюремщиков побега арестантов. Наверняка отпустивший на волю под такую подписку случайно пойманных врагов сам попал бы, да еще вместе со всем начальством тюрьмы, под арест. И, наконец, в-шестых, крайне сомнительно наличие на руках у беглецов из-под стражи собственных документов.
Все объясняет другая, действительно добротная работа – диссертация Павла Новикова «Вооруженная борьба в Иркутской губернии и Забайкальской области». По ней, «28 декабря 1922 г., воспользовавшись объявленной амнистией, отряд А.Г. Черепанова в с. Бирюлька сдался, в т. ч. офицеры Д.И. Шелковников, П.Н. Шеметов, И.А. Яковлев. Всех перечисленных доставили в Иркутск и 30 декабря заключили в тюрьму. Почти через год, 24 ноября 1923 года, супруги Черепановы до суда были выпущены под подписку о невыезде. Оба уехали на Дальний Восток, где проживали в Колокане»201.
Так, значит, в конце декабря 1922 года, когда дальнейшее сопротивление окрепшей советской власти в Верхнеленье стало бесполезным, оставшиеся в живых бойцы отряда Адриана Черепанова сложили оружие и добровольно сдались. Вероятно, они поверили в объявленную амнистию и ждали мягкого приговора. Однако, вскоре поняли, что полагаться на обещания Советской власти нельзя, и она в конце концов их расстреляет. Вероятно, воспользовались передышкой и нахождением в тюрьме для восстановления сил, свиданий со своими близкими, выбора надежного варианта сокрытия после выхода из тюрьмы под подписку о невыезде. А изменить меру пресечения на такую подписку им вполне могли. Мол, зачем бежать тем, кто сам же сдался?
Что бы там ни было, но Адриан и Анна Черепановы обхитрили надзирателей и скрылись. Как знать, может они еще успели помочь забайкальским повстанцам, к примеру, тому же Валентину Дуганову.
И, судя по всему, место их жительства после выхода из заключения было выбрано отнюдь не случайно. Я с удивлением обнаружил, что забайкальский поселок Калакан находится на реке Витим в Тунгокоченском районе (прежде – Витимо-Олекминский национальный округ с центром в Усть-Муе, затем – в Калакане). А, согласно «Книге памяти Восточного Забайкалья», в том же районе заведовал товарной базой райпотребсоюза Андриан Гавриилович Черепанов. Он – еще один племянник Адриана Григорьевича, рожденный 2 августе 1894 года в Кутурхае, но живший со своей семьей – женой Натальей Васильевной (она урожденная Черепанова, его пятиюродная тетя) и сыном Михаилом – в Нерчинске. Может, он помог своему дяди с обустройством на новой месте.
К тому же, очень недалеко – в ста километрах от Нерчинска и в двухстах от Канакана – располагается село под названием Утан, граничащее с Тунгокоченским Чернышевского района Забайкалья. И в том селе жили сотни крестьян Черепановых, вполне вероятно, потомки верхоленского купца Ивана Федоровича Черепанова или его однофамильца илимского крестьянина Михаила Захаровича. Некоторые из них принимали участие в антибольшевистских восстаниях.
Не знаю, связано ли это было как-то с Адрианом Григорьевичем, но его племянника Андриана Гаврииловича Черепанова 26 мая 1938 года арестовали, через неделю приговорили Тройкой УНКВД по Читинской области по статьям 58-2, 58–10, 58–11 УК РСФСР к высшей мере наказания и 24 июня 1938 года расстреляли. Он был реабилитирован 30 мая 1958 года военным трибуналом Забайкальского военного округа. Под советские репрессии 1930-х годов попали, а впоследствии реабилитированы и более ста утанских Черепановых, главным образом крестьяне-единоличники, из них приговорены к расстрелу не менее десяти.
Зло против зла
Я уже рассказал о ряде публикаций с сюжетами о зверских злодеяниях «банды» Черепанова, и многие из них элементарно выдуманы. Но у меня вовсе нет повода утверждать, что зверств не было. Были: Адриан Григорьевич и его жена Анна Прокопьевна находились в условиях, отнюдь не отличавшихся мягкой средой. Напомню только некоторые из деяний большевиков в начальный период Советской власти.
5 декабря 1917 года революционные матросы эсминцев «Гаджибей» и «Фидониси» расстреляли в Севастополе на Малаховом кургане весь офицерский состав своих эсминцев202. К вечеру того же дня резня офицеров шла уже по всему Севастополю. В Евпатории большевики утопили в море всех схваченных членов офицерской дружины на глазах у их родственников, арестовано свыше восьмисот «контрреволюционеров» и «буржуев», степень виновности которых определяла организованная из местных и севастопольских революционеров судебная комиссия. Многих арестованных тут же казнили и сбросили в море. В январе 1918 года краснофлотцы и красногвардейцы устроили смертоубийство сотен офицеров и случайных прохожих на улицах Симферополя, Феодосии и Ялты. В следующем месяце в крупнейших городах Крыма ими устроена очередная вспышка безнаказанных массовых убийств.
5 января 1918 года в Петрограде по приказу руководства большевиков расстреляна из пулеметов мирная демонстрация в поддержку Учредительного собрания, десятки граждан были убиты, сотни ранены.
Ровно через полгода председатель Всероссийского ЦИК (формальный глава высшей законодательной и распорядительной власти в РСФСР) Яков Свердлов на съезде Советов открыто призвал к «массовому террору», который необходимо проводить против «контрреволюции» и «врагов советской власти». Главарь большевиков Владимир Ленин 9 августа 1918 года дал указание одному из губисполкомов: «Необходимо произвести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города». Ему вторил руководитель вооруженных сил советской республики Лев Троцкий: «следует знать, что не позднее чем через месяц террор примет очень сильные формы по примеру великих французских революционеров. Врагов наших будет ждать гильотина, а не только тюрьма». В том же августе большевики потопили в Финском заливе баржи, наполненные офицерами, многие из которых были связаны по двое и трое колючей проволокой.
Примерно тогда же появилась совместная инструкция ЦК РКП(б) и ВЧК для своих питерских сообщников следующего содержания: «Расстреливать всех контрреволюционеров. Предоставить районам право самостоятельно расстреливать… Взять заложников… устроить в районах мелкие концентрационные лагери… Принять меры, чтобы трупы не попадали в нежелательные руки…»[349].
31 августа 1918 года к массовому террору призвала центральная большевистская газета «Правда»: «Наши города должны быть беспощадно очищены от буржуазной гнили. Все эти господа будут поставлены на учет и те из них, кто представляет опасность для революционного класса, уничтожены».
Принимались и официальные документы. Так, согласно постановлению СНК РСФСР от 2 сентября 1918 года, «обеспечение тыла путем террора является прямой необходимостью», республика освобождается от «классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях», «подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам». И уже на следующее утро в газете «Известия» появилось сообщение о расстреле Петроградской ЧК свыше пятисот безвинных заложников.
5 сентября 1918 года вышел декрет «О красном терроре» с узаконением большевиками убийств и насилия, возведения террора в ранг государственной политики. Феликс Дзержинский, председатель ВЧК при Совете народных комиссаров РСФСР, призвал рассматривать его как закон, который наконец-то наделил чекистов «законными правами на то, против чего возражали до сих пор некоторые товарищи по партии, на то, чтобы кончать немедленно, не испрашивая ничьего разрешения, с контрреволюционной сволочью». Другой руководитель ВЧК, глава подразделения по борьбе с контрреволюцией Мартын Лацис так определил перед своими подчиненными «смысл и сущность красного террора»: «Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого».
Член ЦК РКП(б) Григорий Зиновьев тогда же открыто потребовал: «Нужно уподобиться военному лагерю, из которого могут быть кинуты отряды в деревню. Если мы не увеличим нашу армию, нас вырежет наша буржуазия. Ведь у них второго пути нет. Нам с ними не жить на одной планете. Нам нужен собственный социалистический милитаризм для преодоления своих врагов. Мы должны увлечь за собой девяносто миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить – их надо уничтожать».
И вот уже 20 сентября 1918 года после пыток сотрудниками ВЧК был расстрелян на берегу Валдайского озера на глазах его шестерых детей русский мыслитель, публицист и общественный деятель Михаил Осипович Меньшиков. Нередко бессудные расстрелы сопровождались средневековыми издевательствами. Ходили даже слухи, что харьковские чекисты «снимали перчатки с кистей рук» арестованных, воронежские катали их голыми в бочке, утыканной гвоздями. В Царицыне и Камышине «пилили кости», в Полтаве и Кременчуге сажали на кол, в Одессе привязывали цепями к доскам и бросали в печи, опускали в котел с кипятком, либо разрывали пополам колесами лебедок, в Орле широко применяли замораживание людей, обливая их в зимние морозы холодной водой.
Не успокоились большевики и во времена, когда исчез риск потери ими власти над страной. К примеру, в том же Севастополе, когда в него 15 ноября 1920 года вошли части под командованием Василия Блюхера и Семена Буденного, прошли массовые аресты и казни. Были буквально увешаны трупами фонари, столбы, деревья и даже памятники Исторического, Приморского бульваров, Нахимовского проспекта, Большой Морской и Екатерининской улиц города русской славы. Но этого показалось мало, и через несколько дней, 6 декабря 1920 года, Владимир Ленин заявил: «Сейчас в Крыму триста тысяч буржуазии. Это источник будущей спекуляции, шпионства, всякой помощи капиталистам. Но мы их не боимся. Мы говорим, что возьмем их, распределим, подчиним, переварим». Уже 25 декабря того же года был издан приказ Крымревкома за № 167, которых обязал во всех уездах и городах полуострова в десятидневный срок произвести регистрацию бывших офицеров и военных чиновников, полицейских, государственных служащих, занимавших при прежней власти ответственные посты, духовенства и крупных собственников. По составленным спискам решалась поставленная Политбюро ЦК РКП(б) и СНК РСФСР задача тотального уничтожения в кратчайшие сроки отдельных социальных групп населения по ленинскому завету, «никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты».
Всего под наблюдением центральной власти крымские большевики к 1922 году «переварили» до ста пятидесяти тысяч человек, население многих сел исчезло полностью. Причем исследователи тех событий особо выделяют массовые расправы советских войск и карательных органов над врачами, всем медицинским персоналом госпиталей, с ранеными военными и сотрудниками Красного Креста. Многие жители Крыма прошли еще и через организованные большевиками на его территории концлагеря, в которых заключенные подвергались систематическим издевательствам тюремщиков, унизительным процедурам и пыткам.
При подавлении крестьянского восстания в Тамбовской губернии под руководством Александра Степановича Антонова большевики расстреляли в июне 1921 года в старинном селе Паревка Кирсановского уезда до ста двадцати шести заложников – женщин, стариков и детей. Впоследствии это преступление, как и множество других, советская власть приписала «бандитам». В борьбе с повстанцами и их сторонниками применялось химическое оружие[350], уничтожение огнем целых деревень. Согласно приказу Полномочной комиссии ВЦИК от 11 июня 1921 года, в случае укрывательства оружия или «бандитов» следовало расстреливать на месте без суда «старших работников в семье». Под такой же расстрел подпадали и граждане, отказывающиеся называть свое имя.

