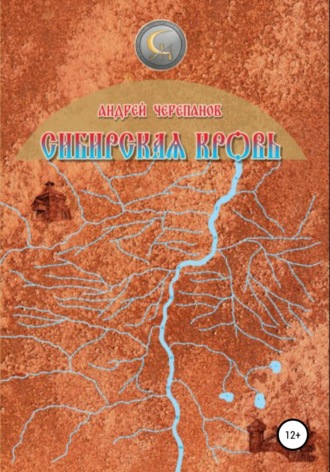 полная версия
полная версияСибирская кровь
В 1886 году у Алексея Кирилловича родилась дочь Стефанида, и я увидел ее имя в списке тех, кто не был на исповеди и Святом причастии два года и более по Белоусовской Иннокентиевской церкви за 1899 год. Она там числится среди крестьян Алексеевской деревни вместе со своей матерью и братом Николаем (ему шестнадцать лет и не понятно, рожден ли он от первого брака Варвары Иннокентиевны или уже после него)[294]. В столбце, предназначенном для пометок о том, какие были сделаны внушения, сказано, что Варвара Иннокентьевна не исповедовалась и не причащалась «по нерадению», хотя была «убеждаема 4 марта и 15 июня», а ее дети – «по безпечности и нерадению родителей»165.
В 1910 году Алексей Кириллович Черепанов умер. Что сталось с его вдовой, Степанидой, а также Николаем, не выяснено. А вот Дмитрий Кириллович прожил в деревне Алексеевская до своей смерти в 1927 году.
Ангинские
В Ангинской слободе родилась и из нее была отдана взамужество в 1875 году в семнадцатилетнем возрасте Мария Евграфовна Арефьева, первая жена костромитинского крестьянина Григория Еремеевича Черепанова – одного из четырех заведших свои семьи внуков Кондратия Кузьмича. Трое детей у молодоженов появились на свет в Костромитинской деревне, включая последнего рожденного в июне 1878 года Петра, но две его старшие сестры умерли младенцами. Сохранившиеся метрические записи больше никаких событий в семье не зафиксировали вплоть до смерти в марте 1894 года уже в Ангинской слободе Марии Евграфовны Черепановой. Через два месяца ангинский крестьянин Григорий Еремеевич Черепанов вступил в свой второй брак, выбрав в жены соседку по слободе Марфу Семеновну Елизарову. И у них рождались только девочки.
Григорий умер в 1916 году, но к 1920 году, за который нашлась последняя метрическая книга Ангинской Ильинской церкви, из семьи Григория наверняка была в живых не достигшая пятидесяти лет вдова Марфа Семеновна и еще не успевшая выйти замуж ее дочь Наталия. А что к тому времени сталось с родившимся более сорока лет до того ее пасынком Петром Григорьевичем – неизвестно.
Бутаковские
Из первых пяти детей Варлаама Еремеевича Черепанова – старшего внука Кондратия Кузьмича – четверо умерли еще младенцами, а один сын – двухлетним. Зато все последующие четверо – две дочери и два сына – выжили. И как раз, отдавая взамужество старшую из дочек в октябре 1897 года, а младшую – в январе 1899 года, Варлаам был назван сначала костромитинским, а затем – бутаковским крестьянином. Значит, и обосноваться он со своей семьей в Бутаковской слободе мог в период между этими двумя событиями. Однако, вероятнее всего, переезд состоялся еще раньше – до июля 1892 года, когда у «Бутаковской деревни крестьянина Варлаама Йеремиева Черепанова» и его второй жены Марфы Васильевны родился сын Илья.
К сожалению, метрика о венчании Варлаама и Марфы, наверняка состоявшемся в 1891 году, не сохранилась, и поэтому мне не пришлось узнать происхождение невесты, но интересная деталь: у их единственного ставшего в ходе моего исследования известным ребенка – Ильи – крестными были дворянин Иоанн Владимирович Ястржембский и его дочь Евдокия. Впоследствии Илья Варлаамович Черепанов стал учителем в Бутаковской министерской школе (одноклассном училище). И таковым он впервые назван в ноябре 1912 году, когда все остальные ангинско-бутаковские Черепановы крестьянствовали. Да и сам Илья еще в апреле того же года числился крестьянином (в том месяце он венчался, а в ноябре хоронил первую жену, умершую «от отравления»).
Исходя из данных метрических книг, к концу 1921 года в Бутаковской слободе из Черепановых проживали Варлаам Еремеевич со своей второй женой, два его сына с женами и девять внуков и внучек. Всего пятнадцать человек.
Пихтинские
В период между 1898 и 1900 годами в Пихтинскую деревню из Кутурхая перебирался Феофилакт Яковлевич Черепанов[295] (он – внук Никифора Ивановича, дважды правнука Ивана Федоровича по линии его сына Ивана малого). Задержался он там ненадолго и обосновался в период между 1901 и 1904 годами в Верхоленске[296].
Куницынские
В деревне Куницынской, располагавшейся примерно в шести верстах от Верхоленска ниже по течению Лены, согласно исповедной росписи Верхоленского Воскресенского собора, в 1916 году жил со своей второй женой шестидесятилетний Иннокентий Петрович Черепанов (он – внук Якова Ивановича – правнука Ивана Федоровича по линии его сына Григория). Еще с ними в доме во главе с бывшим свекром жены находилась семья пасынка Иннокентия Петровича и холостой внук главы домовладения. Всего же тогда в Куницыно проживал триста пятьдесят один крестьянин166.
Иннокентий Петрович переехал туда (если вообще переезжал, а не просто числился), вероятно, в 1911 году, когда отдал замуж свою самую младшую дочь, почему-то названную в метрике «крестьянской девицей» Усть-Тальминской деревни. Две другие его дочери были отданы взамужество раньше и из Кутурхая. Самая же старшая утонула вскоре после второго брака отца, чуть не успев достигнуть девятнадцати лет. А до того он потерял в малолетнем возрасте еще пятерых своих детей, включая всех троих сыновей.
Между тем Иннокентий Петрович в росписи 1916 года приведен ошибочно: имеется запись соседней Белоусовской Иннокентиевской церкви о его смерти еще в 1913 году в Кутурхае.
Усть-тальминские
В разделе «Верхоленские» уже сказано об умершем в 1903 году крестьянине Тутурского села Сергее Петровиче Черепанове, который, по всей видимости, был трижды правнуком Зиновия Григорьевича – внука Ивана Федоровича Черепанова по линии его старшего сына Григория. Его вдова Евгения Клеониковна и дочь Людмила не позднее 1912 года поселились в Усть-Тальминской деревне, что располагалась на правом берегу реки Куленги напротив Белоусово. В начале 1915 года из той деревни Евгения Клеониковна Черепанова в указанном в метрике возрасте тридцати шести лет (примерно 1878 года рождения) повторно вышла замуж за крестьянина города Верхоленска Николая Шеметова. И сама она по девичьей фамилии наверняка тоже была Шеметовой, ведь в 1877 году у усть-тальминского крестьянина Клеоника Степановича Шеметова рождалась дочь Евгения, а в 1912 году поручителями на венчании в Белоусовской Иннокентиевской церкви Семена, младшего брата Сергея Петровича, были усть-тальминцы Алексей и Григорий Клеониковичи Шеметовы. Да еще Людмила, дочь Сергея Петровича, в том же году стала восприемницей дочери Ивана Клеониковича Шеметова. Стоит полагать, что все эти Клеониковичи – родные сестра и братья, а Евгения Клеониковна оказалась в Усть-Тальминской деревне отнюдь не случайно: она перебралась после смерти первого мужа на свою малую Родину, к собственным братьям.
Шеметовские
В метриках Белоусовской Иннокентиевской церкви имеется запись о рождении в 1915 году у учителя Шеметовского двухклассного министерского училища Михаила Петровича Черепанова и его законной жены Екатерины Николаевны сына Леонида. О таком учителе известно еще и как об одном из организаторов антиземского собрания бедноты, батраков и части бывших фронтовиков в Верхоленске в декабре 1917 года167. Поэтому в ту метрическую запись вряд ли вкралась ошибка, и такой персонаж действительно был. Однако больше о нем ни в сохранившихся метриках, ни в исповедных росписях я упоминаний не нашел.
Между тем Шеметовское селение находилось рядом с Усть-Тальминской деревней (напротив ее и буквально примыкая выше по течению Куленги к Белоусовскому селу), то есть с местом жительства вдовы и дочери Сергея Петровича Черепанова, о которых говорилось в разделе «Усть-тальминские». Значит, с некоторой натяжкой, но можно предполагать, что Михаил Петрович был родным братом Сергея Петровича, перебравшимся вместе с его семьей из-под Тутуры на берега Куленги. Такая версия становится надежнее со знанием того, что из Шеметовской деревни происходила Татьяна Митрофановна Вагина, ставшая в 1912 году женой еще одного Черепанова из Тутурского села – Семена, а он также с отчеством Петрович и потому наверняка брат Михаилу и Сергею.
Согласно похозяйственным книгам Белоусовского сельсовета168, в начале 1940-х годов в деревне Шеметова жило лишь одно семейство Черепановых – во главе с Анной Ивановной. Было у нее несколько сыновей и дочь под отчеством Афанасьевичи, появившиеся на свет в 1916–1936 годах. По всей вероятности, они – дети рожденного в 1887 году «Житовской деревни оседлого инородца Афанасия Михайлова Черепанова». Если только у вышеуказанного учителя Михаила Петровича Черепанова не было еще и брата или племянника Афанасия.
Хабардинские
К сожалению, метрические книги белоусовской церкви за 1920–1924 годы в архивах найти не удалось, но зато обнаружены такие книги за последующие шесть лет. И в них есть запись о рождении в 1927 году в деревне Хабардинская, что примерно в километре от Белоусово вниз по течению Куленги, дочери Марии в семье Ефима Филипповича и Пелагеи Федоровны Черепановых. Этот Ефим появился на свет в Кутурхае в 1898 году. Он – потомок (дважды правнук) Якова Ивановича, внука старшего сына Ивана Федоровича Григория.
Улусные инородцы
Я не встретил в сохранившихся исповедных росписях верхнеленских церквей ни одного имени представителей фамилии Черепановых, проживавших в улусах. Но метрические записи об оседлых (ясашных) инородцах Черепановых из нескольких улусов появились с 1879 года в Ангинской Ильинской церкви, а с началом регистрации метрик Бутаковской Казанской церковью – уже и только в ней. Значит, они оказались исключительно в бутаковском ведении.
В моей таблице я условно «привязал» всех Черепановых-инородцев к новокрещенному из Верхоленского острога Андрею Черепанову, повенчанному в 1778 году с новокрещенной Евдокией Незговоровой. И предполагаю, что в ангинских и бутаковских метриках конца XIX – начала XX века фигурируют правнуки, дважды и трижды правнуки тех новокрещенных по линии умершего в 1913 году в возрасте восьмидесяти пяти лет их внука Ивана Ивановича Черепанова из Хартуховского улуса.
Если исходить из такого построения родства, то к 1920 году в улусах прихода Белоусовской Казанской церкви, вероятно, проживало под фамилией Черепановых шестнадцать потомков Ивана Ивановича, по одной вдове и жене его сыновей, пять жен его внуков. Всего двадцать три человека.
Надо заметить, что по крайней мере один потомок моего семижды прадеда Ивана Федоровича Черепанова – правнук Козьмы крестьянин Иннокентий Иванович Черепанов – приятельствовал со своими однофамильцами инородческого происхождения. Он стал крестным отцом внебрачного сына ясашной вдовы Агриппины Егоровны Черепановой из Эцыкакского улуса. А всего известно о рождении у нее четырех детей, когда она была женой, и столько же – вдовой[297].
Ошибочно указанные
В метрической книге Манзурской Введенской церкви 1866 года говорится о венчании крестьянской дочери из Самодуровской деревни Евдокии Яковлевны Черепановой, около 1842 года рождения. Однако из исповедной росписи 1843 года видно, что в той деревне жил не Черепанов, а Серебренников Яков Михайлович и у него была дочь Евдокия как раз 1842 года рождения169.
В исповедную роспись 1872 года по Верхоленской слободе были включены в составе военных тридцатишестилетний Митрофан Афанасьевич Черепанов, а среди крестьян – сорокашестилетний Гавриил Иванович Черепанов с женой и четырьмя детьми170. Но я не обнаружил ни одной метрической записи о них – ни до, ни после 1872 года, не оказалось их и в росписи 1916 года. Все они не понятно как пришли и не понятно как ушли. Вероятнее всего, составители той росписи в указании фамилий просто ошиблись. Уж в отношении Митрофана Афанасьевича – наверняка, ведь они перечислили в доме, где он якобы жил (но на исповеди не был), еще и Митрофана Афанасьевича Винокурова с тем же возрастом (а он на исповеди был).
Семья в составе Григория Степановича Черепанова, его жены Ирины Тимофеевны и троих детей Анны, Селиверста и Якова приведена в исповедной росписи 1916 года по деревне Толмачевой171. На самом деле, они – Челпановы, что следует из записей о бракосочетании в январе 1899 года крестьянина Григория Степановича Челпанова с незаконнорожденной девицей Ириной и о рождении у них в декабре того же года сына Селиверста.
Тысяча от одного
Я долго продумывал и оттачивал системный метод отображения линий общего фамильного древа Черепановых в табличном варианте, чтобы он был удобен для восприятия, включал все наиболее значимые сведения, наглядно демонстрировал степень родства, но при этом был максимально компактен. И это, вроде, удалось. В приложении к настоящей книге содержатся таблицы по ветвям потомков Ивана Федоровича и Мавры Тимофеевны Черепановых, по верхнеленским Черепановым неустановленного мною и инородческого происхождения, а также найденышам.
При заполнении таблиц я брал сведения не только из ревизских сказок, сохранившихся метрических записей о рожденных, бракосочетавшихся и умерших Черепановых, перечней их семей в исповедных росписях и похозяйственных книгах, но и использовал записи, где они были указаны как восприемники детей с иными фамилиями. В тех же редких случаях, когда доступные архивные документы не позволяли сделать однозначного вывода о родственных отношениях или установить точные даты событий, приведены их самые правдоподобные, на мой взгляд, версии.
Наибольшую сложность доставило мне определение происхождения детей, рожденных до 1831 года, из-за отсутствия в метриках того времени указания матерей и отчеств отцов. Особенно трудно было правильно распределить происхождение по фамильным ветвям сорок пять детей нескольких Василиев Ивановичей Черепановых. К примеру, требовалось понять, какой конкретно из мещан с таким именем-отчеством был отцом умершей в апреле 1798 года в четырехмесячном возрасте Наталии, запись о рождении которой найти не удалось. Для этого я выяснил по прежде составленной таблице метрических записей верхнеленских церквей о Черепановых, отцами каких еще детей в 1797–1798 годах были Василии. Их оказалось трое: в мае 1797 года и декабре 1798 года родились две дочери Василия – сына Ивана малого, а в августе 1797 года – дочь Василия большого – сына Ивана большого. Значит, рождение от них Наталии в период с января 1797 года по апрель 1798 года не «умещается». Еще один Василий – малой, сын Ивана большого, к тому времени отцом стать не мог, ведь он женился лишь через шесть лет, в 1803 году. Вот и остался Василий, сын Ивана Григорьевича. И в подтверждение сделанного вывода: у него и его жены Екатерины первенец родился в 1796 году, следующий ребенок – в 1800-м. Между ними довольно большой перерыв по рождениям, не характерный для молодоженов того времени. Значит, наверняка, Наталия – их дочь.
Но, повторю, более надежным средством решения задач с «определением отцовства» в случаях неоднозначности метрических записей всегда было изучение имен восприемников и ссылок на их родственное отношение к новорожденным.
Всего в ходе моего исследования стали известными по состоянию на окончание 1843 года имена трехсот семидесяти одного потомка моего семижды прадеда Ивана Федоровича Черепанова, носящих его фамилию по праву отцовской крови, и имена их шестидесяти четырех жен[298]. Из них в исповедные росписи верхнеленских церквей 1843 года было верно включено одновременно живущих соответственно сто восемь и тридцать шесть, то есть всего сто сорок четыре носителя фамилии Черепановых[299]. Вместе же с родившимися в 1835–1843 годах, выжившими, но по ошибке, малолетству или рождению после составления росписей не включенными в роспись еще десятью детьми[300], их было сто пятьдесят четыре на восемнадцать семейных домовладений.
Таким образом, в Верхоленске и рядом с ним на сто пятьдесят второй – сто пятьдесят третий год после рождения Ивана Федоровича жили под фамилией Черепановых сто пятьдесят четыре его потомка и их жен (вдов). Значит, всех одновременно живущих прямых потомков у него уже тогда было не менее двух с половиной сотен[301], а то и существенно больше с учетом представителей тех ветвей фамильного древа Черепановых, что до 1843 года переехали за пределы верхнеленских православных приходов, и их судьбы остались неизвестными.
Достойный результат! Окажись у каждого из еще неженатых и незамужних в 1843 году верхнеленских Черепановых (а таковых я насчитал восемьдесят три) аналогичное достижение, то тогда еще через полторы сотни лет, к концу XX века, число их одновременно живущих потомков превысило бы двадцать тысяч. Это больше, чем достигнутая к первой декаде XXI века численность населения всего Качугского района.
Из тех верхнеленцев, кто к концу 1843 года носил фамилию Черепановых, пятьдесят два относились к ветви Григория, тридцать три – Ивана большого и шестьдесят восемь – Ивана малого[302]. Всего же, по установленным данным, у Григория – старшего сына Ивана Федоровича – с его женой Анисией Ивановной, урожденной Нечаевской, было шесть выживших к 1773 году детей (по три сына и дочери). Все сыновья Григория и Анисии имели жен, и, как было уже показано, их потомки в 1843 году жили в Верхоленской слободе (линия Зиновия), Кутурхае (основная линия Ивана) и Куржумово (линия Никифора и часть линии того же Ивана). Дочери Григория и Анисии – Анастасия, Анна и Татьяна – тоже завели свои семьи: они были выданы замуж за иркутского цехового Федора Летосторонцева, канцеляриста Верхоленского комиссарства Василия Петрова и купца Балаганского острога Андрея Колмогорова.
У Ивана большого – среднего сына Ивана Федоровича – известно двенадцать детей (по шесть сыновей и дочерей), из которых трое умерли в возрасте от двух до четырех лет[303], судьбы дочерей Анастасии и Марфы остались неустановленными[304]. Из тех детей Ивана большого, что дожили до создания собственных семей, дочь Евдокия, вышедшая замуж за верхоленского мещанина Ивана Уваровского, и старший Василий были рождены в 1755 и 1762 годах его первой женой Марфой Ивановной, имевшей девичью фамилию Кистенева, а остальные – в 1770–1789 годах второй женой Евдокией Яковлевной[305], которая наверняка имела родственную связь с иркутским дворянином Яковом Кобяшевым, иначе с чего бы он стал в 1776 году восприемником ее сына Федора.
Я нашел список семьи этого дворянина в исповедной росписи Прокопьевской церкви г. Иркутска за 1761 год172. Там он и его жена Анна Родионовна указаны в возрасте тридцати пяти лет. В том же домовладении – его дети Василий и Татьяна и еще отец Борис Дмитриевич173 (он, по всей вероятности, – сын рядового пешего казака Дмитрия Ивановича Кобяшева, о котором говорится в окладных книгах Иркутска 1708 и 1712 годов)174 – с женой и сестрой, «да при них живущие брацкой породы девица Стефанида Яковлева дочь, девица Евдокия Стефанова дочь». Каждой из тех девиц в 1761 году было по шестнадцать лет (они около 1745 года рождения), что вполне корреспондирует с восьмидесятилетним возрастом Евдокии Яковлевны в метрике 1822 года о ее смерти. Вот только не вполне понятно, какая из этих девиц могла стать второй женой Ивана большого под именем Евдокии Яковлевны – та, кто «брацкой породы» Стефанида Яковлевна, или та, кто Евдокия Стефановна. Вероятнее, конечно, вторая, и она, согласно более ранней исповедной росписи той же церкви за 1752 год, была вскромленницей семьи Якова Кобышева, сына боярского175.
Дочери Ивана большого от второго брака Анна и Пелагея[306] вышли замуж за верхоленских крестьян Гордея Тюменцова и Тимофея Лагирева. А потомки его женившихся сыновей в 1843 году жили в Ремезово (линия Василия большого), Верхоленской слободе (линия Петра и Федора) и Макарово (линия Василия малого).
В семье младшего сына Ивана Федоровича Ивана малого и его жены Матроны Яковлевны, урожденной Силиной, было девять детей (шесть сыновей и три дочери)[307], из которых двое умерли малышами. Остались неизвестными судьбы рожденных от них четверых детей, включая сына Алексея после его бракосочетания с Параскевой, дочерью крестьянина Верхоленского острога Прокопия Шеметова, и появления у них первенца Елены[308]. Наверняка они совместно куда-то переехали, к примеру, в Иркутск. Может, это подтверждается метрической книгой градоиркутской Богородско-Владимирской церкви за 1828 год, в которой я нашел запись о смерти иркутского мещанина Алексея Черепанова в возрасте пятидесяти лет176, что близко к 1774 году рождения сына Ивана малого с тем же именем.
В 1843 году потомки оставшихся на верхнеленской земле сыновей Ивана малого обосновались в Малой Анге (линия Кузьмы), Кутурхае (вся линия Ивана и основная линия Василия) и Верхоленской слободе (оставшаяся линия Василия).
Составленные на основании сохранившихся метрических записей расчеты показывают, что за следующие семьдесят семь – семьдесят восемь лет, в начале 1920-х годов, численность одновременно живущих верхнеленских Черепановых по ветвям сыновей Ивана Федоровича возросла как минимум на четыреста представителей и превысила пять с половиной сотен человек, включая более четырехсот пятидесяти потомков Ивана Федоровича Черепанова и добрую сотню их жен (вдов). При этом численность представителей линии Ивана малого была выше, чем у представителей линий его старших братьев вместе взятых. Общее же число одновременно живших тогда в Верхнеленье и за его пределами потомков Ивана Федоровича Черепанова под разными фамилиями, без сомнения, перевалило далеко за тысячу человек.
Ветви инородцев и тех, чье происхождение в ходе моего исследования не установлено, добавили к совместной команде верхнеленских Черепановых на начало 1920-х годов еще более шестидесяти носителей такой фамилии.
Я предпринял попытку пойти дальше и установить индивидуальные и обобщенные данные о Черепановых на период до начала Великой Отечественной войны и опубликовать родословные таблицы с учетом таких данных. Достижение этой цели, не нарушая семидесятипятилетний режим защиты конфиденциальности персональных данных, позволило бы охватить сведения за период длиною ровно в два с половиной столетия с рождения Ивана Федоровича Черепанова. Однако, к сожалению, на мой запрос в Качугский районный отдел ЗАГСа об ознакомлении с составленными до 1941 года записями актов гражданского состояния по проживавшим в Качугском районе семействам Черепановых я получил отказ. И любезную просьбу «сообщить информацию в отношении запрашиваемых: фамилия, имя, отчество, дата, место рождения и смерти», то есть как раз ровно то, что я и хотел по архивам ЗАГСа узнать.
Поэтому мне пришлось довольствоваться обнаруженными похозяйственными книгами Верхоленска и ближайших к нему поселений за 1938–1942 годы177, архивами качугской судоверфи и «Лензолотофлота», материалами об участниках Великой Отечественной войны и незаконно репрессированных гражданах, разрозненными интернет-источниками информации о верхнеленских Черепановых, теми данными, что размещены на портале новосибирского «Древа Жизни» и предоставлены моими родственниками. Все это позволило дополнить фамильные линии сведениями за период после начала 1920-х годов. Но такая информация имеет довольно эпизодический характер и делать на ее основе обобщающие выводы о составе верхнеленских семейств Черепановых на более «свежий», чем начало 1920-х годов, отрезок времени категорически противопоказано.
Что же до хотя бы примерной оценки числа потомков Ивана Федоровича Черепанова на сегодняшний день, я за нее даже не берусь, и вряд ли можно такое число более-менее точно рассчитать, ведь не известно, как сложились судьбы тех, кто оказались разбросанными по всей стране. А в самих верховьях Лены Черепановых осталось совсем немного. Почему так произошло, во многом объясняет следующая глава.
Глава 7
Из истории Верхнеленья в советский период и после
Понятно, что, как и прежде, политические события в Верхоленске диктовались в 1917 году и далее происходящим в губернской столице Иркутске. А в марте того года, по распоряжению законного органа власти – Исполнительного комитета общественных организаций, был отстранен от должности последний иркутский губернатор Александр Югон, арестованы военный генерал-губернатор Александр Пильц[309] и высшие чины полиции, выпущены политические заключенные.
После октябрьского переворота, устроенного в Петрограде большевиками, повсеместно в России прошли выборы Учредительного собрания, и на них в Сибири большевиков поддержала лишь десятая часть избирателей. Тогда они пошли на захват власти силой. Сформированный ими Объединенный комитет рабочего и солдатского советов объявил 30 ноября 1917 года о создании временного Военно-революционного комитета (ВРК), Красной гвардии и обыскной комиссии для изъятия продовольствия с предприятий и частных квартир. Состоявшееся через три дня заседание Советов под председательством большевика Якова Янсона[310] постановило впредь до организации советской власти подчинить себе все силы Иркутского гарнизона и органы управления ВРК. Это, конечно, не устроило широко поддерживаемую населением Партию социалистов-революционеров[311], и ее сторонники отказались следовать тому постановлению. И тогда большевики устроили ожесточенные бои с защищавшими иркутский Белый дом юнкерами, в которых погибло свыше трехсот человек, около семисот было ранено. Те декабрьские бои 1917 года стали крупнейшими по количеству жертв после аналогичных событий в Москве, и именно они послужили прологом братоубийственной гражданской войны в Восточной Сибири.

