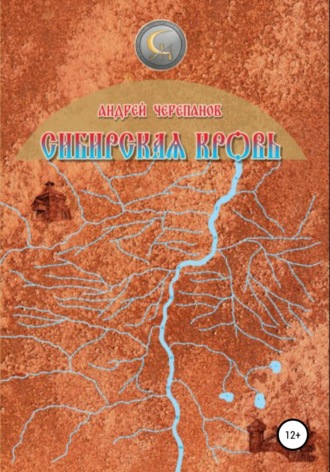 полная версия
полная версияСибирская кровь
В росписи не указано место жительства семейства, но, исходя из метрической записи о бракосочетании в 1842 году Татьяны и смерти в 1843 году еще одной дочери Анания Феодосии, это была Степновская деревня[270]. Такое поселение и сейчас расположено на правом берегу Лены, немного выше Верхоленска и непосредственно перед Картухаем. И даже улица с безобразным названием Совдеповская у них одна на двоих. А основано Степново было, по всей вероятности, верхоленским конным казаком Антипом Григорьевичем Сорокиным до 1686 года145.
Уже в 1845 году Ананий Ананьевич женился как крестьянин Сорокинского села (не второе ли это название Степново?) и, вероятно, тут же перебрался на малую родину жены, в Шеметовскую деревню, где с 1846 года рождались и последовательно умирали все их дети. В 1854 году умер сам Ананий, а через три года его бывшая жена Надежда повторно вышла замуж как вдова крестьянина из инородцев. И больше Черепановых по линии Анания Михайловича не осталось, его фамильная ветвь обломилась.
В разделе «Двадцать пять верхоленских фамилий» главы 4 уже написано о том, что он не имел кровного родства с «моими» Черепановыми, а был в 1790 году подкинут к дому купца Зиновия Григорьевича и принял отчество по своему крестному отцу Михаилу Зиновьевичу. Ровно пять лет до того, в 1785 году, Зиновию же подкинули девочку, названную Анной, и ее крестным стал другой его сын – Петр. Но, вероятно, именно она, не выйдя замуж, умерла в 1819 году в приведенном в метрике возрасте тридцати семи лет.
У верхнеленских Черепановых был еще один подкидыш – Алексей, появившийся в 1783 году в доме моего пятижды прадеда Ивана Григорьевича. Его крестным отцом стал Василий Зубаков. Но дальнейшая судьба Алексея Васильевича осталась неизвестной.
В сохранившихся метриках Верхоленской Воскресенской церкви за XVIII век приведены всего девять крещений подкидышей[271], и, как видно, трое из них достались проживавшим в Верхоленске сыновьям Григория Черепанова, которые были купцами либо мещанами. Приемными отцами всех остальных стали крестьяне других фамилий, жившие, вероятно, в близлежащих деревнях. Интересно, это объясняется тем, что мои родственники были в те времена самыми зажиточными и жалостливыми в Верхоленском остроге, или тем, что их дома находились ближе других к окраине?
Надо заметить, что в Степновской деревне селились и крестьяне Черепановы – потомки Ивана Федоровича. Правда, ненадолго. И первым был Иван Иванович – внук Ивана Федоровича по линии Ивана Григорьевича: из Степново еще в феврале 1815 года выходила замуж его дочь. Но то семейство не попало в исповедную роспись 1843 года по Степново из-за переезда за много лет до ее составления в Кутурхай.
В ту роспись не попало и другое «степновское» семейство Черепановых – Петра Васильевича (он внук Ивана малого), однако по иной причине – оно переехало в Степновскую деревню из Верхоленской слободы не до, а после 1843 года, точнее в период между 1846 и 1851 годами[272]. Но одна часть тех Петровичей – его старший сын Иван с женой Агафией[273] и дочкой Анной – уже в июле 1852 году оказалась намного дальше, на реке Мая[274], в составе вольных переселенцев для организации работы Аимской дистанции Якутско-Аянского грузового и почтового тракта147. Младший же сын Петра Филипп задержался в Степново вплоть до своей смерти в 1871 году, а его вдова и четверо детей «отметились» в ней в исповедной росписи 1872 года148. Однако к 1884 году все они переехали в Кутурхай[275], и в Степновской деревне Черепановых больше не осталось.
Малоангинские (костромитинские и шейнские)
Третьей и последней исповедной росписью верхнеленских церквей 1843 года, в которую включены Черепановы, была роспись Ангинской Ильинской церкви. Всего в ней числилось пятнадцать Черепановых, и они – крестьяне Малоангинской деревни, располагавшейся, если я не ошибаюсь, вблизи Бутаково, примерно в шести десятках верст по сухопутной дороге от Верхоленска, в тридцати – от Качуга и в пятнадцати – от места соединения рек Малая и Большая Анга в единую Ангу, впадающую в Лену. Общее же число приведенных в росписи малоангинских православных крестьян – семьдесят один149.
Вероятно, по присущей той росписи неаккуратной нумерации, три брата – Абрам, Гавриил и Кондратий Кузьмичи Черепановы с их женами и детьми – числятся в ней в одном доме с Яковом Архиповичем Костроминым. В соседнем доме – семья Филиппа Кузьмича Черепанова. Ясно, что общий отец Кузьмичей – рожденный в 1762 году Козьма, первенец Ивана малого.
Известны имена девяти детей (четырех сыновей и пяти дочерей) Козьмы, или Кузьмы, и его первой жены Агафии – дочери Прокопия Тюменцова[276], ушедшей в мир иной в 1801 году. Один из их сыновей прожил лишь шесть лет, две дочери – умерли младенцами, судьба еще одной – Марфы – не установлена (она была в 1800 году восприемницей своего брата Кондратия и, вероятно, в 1802 году выдана замуж). Другие их дочери – Елизавета, Параскева и Устинья – стали женами крестьян соответственно Петра Хабардина из Хабардинской деревни, Федора Татаринова из Малой Манзурки и Анисима Куницына из Верхоленского комиссарства.
Второе бракосочетание Козьмы наверняка пришлось на 1802 год, за который метрики Верхоленской Воскресенской церкви не найдены, а может, и состоялось вдали от Верхоленска. Не нашлось и записей об участии его новой жены в крестинах младенцев и ее смерти. Поэтому в ходе исследования не удалось даже выяснить, какое она носила имя. Но у Козьмы после ухода из жизни первой жены была дочь Варвара (она родилась в декабре 1806 года и через месяц умерла), и, по всей вероятности, его сын Филипп тоже был рожден во втором браке и несколько раньше его сестры, в 1802 году.
Отцовство сыновей Козьмы из исповедной росписи 1843 года подпало под четко выраженную закономерность: чем младше был сын, тем больше он оставил своих потомков. Самый старший из них – Гавриил, имевший рано умершего брата-близнеца Прокопия, был женат на Дарье Ждановой из Бутаковской деревни, но, вероятно, все шестеро их детей не пережили младенчество[277], и поэтому у Гавриила не было внуков. У следующего по очереди – Абрама – и его жены Матрены Толмачевой из Верхоленской слободы было восемь детей, и выжили лишь двое – сын Ермил (в исповедной росписи ошибочно назван Ефимом) и дочь Зиновия. Но ничего не известно о рождении детей в первом браке Ермила, а единственный ребенок от второго брака умер в четырехмесячном возрасте. Что же до Зиновии, то она до своей смерти в возрасте пятидесяти трех лет оставалась «старой девой». Таким образом, линии Гавриила и Абрама Кузьмичей Черепановых, судя по всему, прервались.
А вот хотя у Кондратия, третьего по старшинству из перечисленных в исповедной росписи 1843 года сыновей Козьмы, и его жены Софьи – дочери бутаковского крестьянина Федора Панкрашина, родились только двое детей, эти дети благополучно дожили до создания собственных семей. Их дочь Дарья вышла замуж за ангинского ясашного Дмитрия Воробьева, а Еремей был женат дважды, имел и сыновей, и внуков, и правнуков, один из которых – Корнилий Георгиевич Черепанов – стал успешным боевым полководцем, генералом и Героем Советского Союза.
У Филиппа, самого младшего сына Козьмы, и его жены Елены, урожденной Бутаковой, к 1843 году было рождено восемь детей. Их первенец умер, судьбы двух дочерей с одинаковым именем Агафия остались неустановленными, а Терентий, Анфиса, Зиновия и Тимофей вошли в исповедную роспись. Еще одного их сына – пятилетнего Андрея – в нее не включили явно по ошибке. С его учетом количество Черепановых и общее число православных крестьян Малоангинской деревни в 1843 году было на одного больше – соответственно шестнадцать и семьдесят два.
Вероятно, переезд этой ветви Черепановых из Верхоленска состоялся в период между январем 1811 года, когда вышла замуж Параскева, дочь еще верхоленского крестьянина Козьмы Черепанова, и январем 1817 года, когда венчался Кондратий Черепанов из Бутаковской деревни[278]. Далее, по 1836 год, в метриках обо всех потомках Козьмы говорилось как о бутаковских крестьянах[279], а с 1837 по 1862 год – чаще как о малоангинцах. Но уже в 1848 году при бракосочетании дочери Филиппа Черепанова Анфисы ее отец назван крестьянином Костромитинской деревни, и в исповедной росписи 1872 года все местные православные прихожане Черепановы численностью в тридцать четыре человека на шесть семейных домовладений – среди ста тридцати крестьян Костромитино150. Но это вовсе не означало их прежний переезд из Малоангинской деревни. Я уверен, что Малая Анга во второй половине 1840-х годов была административно разделена на две части. В той ее части, что сохранила прежнее название, жили ясашные, в другой – крестьяне. Этот вывод хорошо подтверждается исповедными росписями: в 1872 году Малая Анга упоминается исключительно как место жительства ясашных, а фамилии крестьян Костромитинской деревни повторяют те же фамилии из Малой Анги за 1843 год. Кроме того, в 1850-х и 1860-х годах в метриках периодически чередовалось указание одних и тех же семей – то как малоангинских, то как костромитинских.
Надо сказать, что в метрической книге 1852 года есть записи о рождении в Костромитинской деревне двоих Черепановых – Мавры и Елены, не вошедших в исповедную роспись 1872 года семейств Черепановых. И в тех метриках церковниками допущены очередные ошибки. На самом деле, родителями девочек были Никанор Ермилович, Мария Якимовна, Илья Ермилович и Анастасия Кирилловна, но не Черепановы, а Савиновы, как следует из предыдущей исповедной росписи151.
К сожалению, мне не удалось найти росписи после 1872 года ни по Ангинской Ильинской церкви, ни по Бутаковской Казанской церкви, в ведение которой с 1899 года перешли все бутаковские поселения, поэтому точный состав костромитинской династии Черепановых на более «свежие» даты установить невозможно. Но если обосновываться сохранившимися записями церковных метрических книг за период 1872–1921 годов[280], то к концу того периода в Костромитино жило не менее ста сорока четырех крестьян под фамилией Черепановых, включая пятерых членов семьи Филимона Еремеевича – последнего оставшегося в той деревне внука Кондратия Кузьмича (это – он сам, его жена, сын, невестка и внук). А по линии Филиппа Кузьмича там было сорок девять потомков Терентия[281], жены трех сыновей Терентия и одиннадцати внуков; одиннадцать потомков Тимофея, жена одного его сына и одного внука; двадцать пять потомков Андрея, вдова сына, жены двух его сыновей и трех внуков; двадцать шесть потомков Ивана, жены троих его сыновей и стольких же внуков.
Требуется уточнить, что в вышеприведенный расчет вошли как те из Черепановых, кто жил в самом Костромитино, так и в расположенном, судя по всему, в его административных границах или в непосредственной близости, Шейнском выселке, позднее ставшем поселком Шейна. Разделить же Черепановых по двум этим поселениям оказалось неблагодарным занятием, ведь в метрических записях представители одних и тех же семейств показывались периодически то как обитатели Костромитинской деревни, то как Шейнского выселка. Впервые же жителем Шейны из носителей фамилии Черепановых был назван Трофим Осипович – внук Терентия Филипповича Черепанова – при крещении в последний день 1903 года его дочери Синклитикии.
Еще до окончания XIX века покинула Костромитино часть потомков Кондратия Кузьмича Черепанова: его внук Григорий Еремеевич обосновался в период между 1878 и 1894 годами со своими детьми в Ангинской слободе, а другой его внук Варлаам Еремеевич – в 1891 году в Бутаково[282].
Качугские
Первое по хронологии событий верхнеленское поселение, в которое перебрались Черепановы уже после 1843 года, – Качугская слобода. Но основоположником местной фамильной династии оказался тот, кто не владел фамилией Черепановых по праву передачи ее от отца к сыну. И был им Василий – сын Марфы Афанасьевны Черепановой, правнучки Зиновия Григорьевича, той, что входила в 1843 году в состав семейства из Верхоленской слободы во главе со вдовой Анастасией, ее бабушкой.
Василий рожден Марфой в Верхоленске вне брака в самом конце 1846 года в ее девятнадцать лет, и фамилию ему присвоили по матери, а отчество – по крестному отцу – священнику Николаю Пономареву. Через семь с небольшим лет у Марфы появился еще один внебрачный ребенок – Алексей, но он через неделю умер. А спустя восемь месяцев, в октябре 1854 года «девка Марфа Афанасьева Черепанова» повенчалась с качугским поселенцем вдовцом Емельяном Клименко. Наверняка она взяла с собой в мужнин дом и Василия.
В 1872 году незаконнорожденный Василий Черепанов был включен в исповедный список семейства поселенца Емельяна Антоновича Клименко вместе с матерью и своими братьями – неполнородным Георгием и сводным Петром. Всего же в том году в Качугской слободе числилось шестьдесят восемь православных поселенцев152.
По совпадению, дочь Василия Николаевича Черепанова, названная, как и ее бабушка, Марфой, тоже родила вне брака и тоже в девятнадцать лет. Но она замуж так и не вышла, а в первый день лета 1910 года, за четыре недели до собственного тридцатилетия, утонула. Сам же Василий Николаевич умер в возрасте тридцати шести лет, его вдова повторно вышла замуж, и в исповедную роспись 1915 года по Качугскому селу вошла лишь семья его сына-крестьянина Петра Васильевича с женой и собственным сыном153, а к концу 1921 года в Качуге жили под фамилией Черепановых не менее пяти потомков Василия Николаевича[283] и его невестка.
Шишкинские
Шишкинская заимка располагалась примерно в десяти верстах от Верхоленска и в пяти от Кутурхая вверх по течению реки Лены и была основана, вероятнее всего, верхоленским конным казаком Максимом Белым до 1686 года154. Сейчас там деревня Шишкина. В исповедной росписи 1872 года в ней в числе девяноста семи крестьян приведено пятеро Черепановых155. Они – семья вдовца Кирилла Яковлевича (он – средний сын Якова Ивановича[284], правнука Ивана Федоровича по линии Григория) с детьми Алексеем, Дмитрием, Петром и Татьяной.
По всей вероятности, переезд Кирилла из Кутурхая в Шишкинскую деревню состоялся в 1855 году[285], и последовал он туда вослед своей сестре Марии, вышедшей в 1850 году замуж за жителя той деревни Матвея Нечаева. Однако в начале 1873 года старший сын Кирилла Яковлевича Алексей женился на вдове Марфе Поповой и обосновался у нее в Куржумово. Видимо, после того, как в 1883 году вышла замуж Кириллова дочь Татьяна, ее отец покинул Шишкино и вернулся в Кутурхай, где в 1893 году умер. Переехали и его младшие сыновья, и в исповедную роспись 1916 года по Шишкинскому селению никого из представителей ветви Кирилла Яковлевича Черепанова уже не включили[286].
Зато в том же году и в том же селении156 среди двухсот восьмидесяти его крестьян было шестеро Черепановых из семейства Иосифа Филипповича[287] (он – младший сын Петра Васильевича, правнука Ивана Федоровича по линии Ивана малого). Переезд этого семейства в Шишкино из Степновского селения состоялся в период между 1905 и 1907 годами[288] еще при живой матери Иосифа Екатерине Ильиничне, в девичестве – Непомнящей. А она – уроженка Шишкинской деревни.
К концу 1920 года по сравнению с 1916-м число шишкинских Черепановых не изменилось, и оно состояло из пять потомков Петра Васильевича и жены его правнука.
Черепановские из-под Манзурки
Когда я добрался до метрических книг Манзурской Введенской церкви второй половины XIX века, был сильно удивлен множеством ее записей 1855–1872 годов о прихожанах нескольких фамилий из Черепановского селения, именуемого также деревней Черепанова. И удивлен даже не столько самому названию поселения, сколько тому, что его почему-то вообще не было в исповедной росписи церкви за 1872 год. И лишь потом открыл для себя, что ни в одной из двух частей той росписи нет также манзурских православных приходов Кокоринской, Кокуйской и Самодуровской деревень. Не иначе как два священнослужителя, составлявших каждый свою часть росписи, долго спорили, кому заниматься списками прихожан тех поселений, да так и не пришли к согласию.
Наверняка Черепановское селение образовалось из части Самодуровской деревни, основанной очень давно пашенными крестьянами Самодуровыми в десятке верст к югу от села Манзурка, и новое образование появилось в XIX веке, но его название имело неустоявшийся характер. Такой вывод сделан на следующих основаниях: стартовая метрическая запись о Черепановской деревне датирована 3 марта 1855 года, когда крестили Алексея, сына крестьянина Даниила Петрова. То же селение названо 4 ноября 1856 года при крещении дочери крестьянина Ивана Григорьевича Серебренникова и его жены Марии Дмитриевны, а при венчании этих родителей 30 января того же года жених считался еще крестьянином Самодурово. Кстати, имя пятнадцатилетнего Иоанна Серебренникова нашлось в исповедной росписи Манзурской Введенской церкви за 1843 год в семье во главе с крестьянином Григорием Лаврентьевичем Серебренниковым из той же Самодуровской деревни, и в ней было немало других персонажей, которые после 1856 года периодически записывались жителями теперь уже другой, Черепановской деревни. Таковым был, к примеру, Дионисий Петрович Серебренников, женившийся в январе 1849 года и крестивший в 1860 году сына Василия157.
Интересно, что ближайшая к Самодуровской деревне Седовская Богородице-Казанская церковь, в отличие от Манзурской Введенской, не признавала до 1875 года деление Самодурово на две части: при переписывании сведений о крещениях жителей той деревни в свои метрические книги 1866–1885 годов она вместо Черепановской деревни приводила Самодуровскую[289].
Но какое отношение имеет Черепановское селение 1850-х годов собственно к Черепановым и конкретно к кому из них? Полагаю, что все дело в появлении там Герасима Ильича Черепанова – мещанина из пермского города Кунгура[290]. Правда, в церковных метриках он «всплывает» только в 1868, 1869, 1870 и 1871 годах, когда сначала хоронит свою жену Агриппину Ивановну, умершую «от горячки», затем заключает в тридцатипятилетнем возрасте второй брак с Варварой Клюкиной из Борисоглебской слободы Ярославской губернии и приносит на крещение двоих дочерей. Причем восприемником первой из них стал кунгурский мещанин Михаил Герасимович Черепанов – наверняка сын Герасима Ильича. А его близким родственником вполне мог быть уроженец Кунгура 1881 года рождения профессиональный революционер-большевик Сергей Александрович Черепанов[291].
К сожалению, ни разу место жительства семейства Герасима Черепанова под Манзуркой не называется. Поэтому стоит только предполагать, что он поселился именно в Самодурово и именно в 1855 году либо накануне, когда ему было двадцать с небольшим лет, завел там хозяйство, привлекал к работе местных крестьян, и его имя получила либо часть деревни, либо у нее появилось двойное название. И вполне может быть, что главой семейства Черепановых был тогда Илья Черепанов – отец Герасима Ильича.
Впервые же Черепановы поселились под Манзуркой намного раньше 1855 года, о чем свидетельствует найденное упоминание «Манзурского ведения Черепановской деревни» еще в метрике Качугской Вознесенской церкви за 1818 год, когда венчалась дочь умершего крестьянина той деревни Никиты Серебренникова Акулина. А в 1839 году там же выходила замуж «девица Агафия Лукина Шергина дочь волости Манзурской деревни Черепановской крестьянина Луки Шергина». Имя Черепановской деревни я заметил в метрике самой манзурской церкви тоже за 1839 год, и она о крещении новорожденной Анны, дочери крестьянина Якова Серебренникова. В исповедную же роспись Манзурской Введенской церкви 1843 года и Лука Парфенович Шергин, и Яков Михайлович Серебренников, и его дочь Анна включены как жители Самодуровской деревни159. В несколько последующих с 1839 года лет имелись единичные случаи упоминания Черепановской деревни под Манзуркой, а в 1845 и 1846 годах отмечается их всплеск – по десятку таких упоминаний. С 1849 года они прекратились и вот с 1855 года появились вновь.
Последняя метрическая запись о манзурских Черепановых датирована ноябрем 1871 года, и, по всей вероятности, вскоре они куда-то переехали. В конце 1870-х – начале 1880-х годов записи о Черепановской деревне встречались совсем уж редко, и они наверняка давались по привычке, а потом почти совсем исчезли[292]. Но официально у деревни имелось два имени – Самодурова и Черепанова – вплоть до конца XIX века, а может, и дольше. По предложению ветерана Великой Отечественной войны Прокопия Ивановича Ельникова, в середине 1950-х годов Самодурово было переименовано для благозвучия в Заречное160, ведь находится оно на стороне реки, противоположной селу Манзурка.
Черепановские из-под Бутаково
Упоминания Черепановской деревни содержатся в метриках ангинской и бутаковской церквей. Но наверняка так иногда неофициально именовалась часть Костромитино, ведь все четыре обнаруженных мною случая причисления Черепановых к одноименному селению пришлись на костромитинцев: в 1879 и 1916 годах Ангинская Ильинская церковь зарегистрировала рождение у «Черепановской деревни крестьянина» Василия Терентьевича Черепанова дочери Анисии, а у такого же крестьянина Арсения Григорьевича Черепанова – дочери Елены; в 1921 году Бутаковская Казанская церковь зарегистрировала у той же деревни гражданина Василия Ильича Черепанова рождение дочери Ефросиньи, а прежде, в 1903 году, – венчание вышеуказанной Анисии как «Черепановской деревни крестьянской девицы».
Между тем все прочие дети Василия Терентьевича и Арсения Григорьевича Черепановых (они – потомки Филиппа Кузьмича) рождались и умирали как до, так и после дат перечисленных метрических записей в Костромитинской деревне.
Малотарельские
В исповедной росписи Бирюльской Покровской церкви за 1872 год в числе двадцати пяти поселенцев Малотарельской деревни (она располагалась в шести верстах от Бирюльки, выше по течению Лены, на ее противоположном берегу) приведена семейная чета Сергея Карповича Черепанова, около 1836 года рождения, и Варвары Борисовны161. И как раз с середины 1872 года появляются метрические записи о детях поселенца Сергея Карповича и его жены Варвары, но под отчеством Федотовна. Из таких записей можно заключить, что у них было восемь сыновей, из которых трое умерли в малолетнем возрасте, как и все три их дочери. Точно выжили Иван с Михаилом и, вероятно, Василий, Петр и Яков.
Сам Сергей Карпович Черепанов ушел в мир иной в первой половине 1890-х годов, ведь имеется метрическая запись 1895 года о смерти его трехлетней дочери с пометкой об ее отце как «ныне умершем».
Еще один сын Сергея Карповича – Степан, около 1876 года рождения, «обнаружен» вместе со вдовой Варварой Борисовной Черепановой в документе под названием «Список лиц не бывших у исповеди и Святаго причастия более 3 лет по приходу Бирюльской Покровской церкви за 1899 год»162. Значит, фамильную линию поселенца могли продолжить не пять, а шесть его сыновей, и у троих из них – Ивана, Михаила и Степана – точно имелись семьи. Судя по всему, к началу 1920-х годов в Малой Тарели было не менее семи Черепановых, и числились они там уже не поселенцами, а крестьянами.
В связи с полным отсутствием каких-либо данных о потомках Ивана Федоровича Черепанова с именем Карп, происхождение Сергея Карповича в ходе моего исследования не определено.
Надо заметить, что имелись еще случаи, когда Черепановы неустановленного мною происхождения появились, но, правда, потом навсегда исчезли из бирюльских метрик, и были ими крестьянине Макар и Марк. Первый из них в январе 1797 года принес своего сына Иоанна на крещение, а второй в феврале того же года – своего сына с тем же именем – на отпевание. В феврале 1813 года вновь Макар Черепанов крестил теперь уже Василия в Верхоленской Воскресенской церкви. И больше о них свидетельств нет. В каком поселении жили крестьяне Макар и Марк, состояли ли в родственной связи с Карпом Черепановым и, главное, верно ли были записаны в метриках их имена и фамилия, осталось загадкой.
Селивановские
Согласно исповедной росписи, в 1872 году в Селивановском селении среди пятнадцати поселенцев проживал рожденный около 1815 года Венедикт Андреевич Черепанов с женой Татьяной Ивановной163. Но ни примерный период его переезда туда, ни происхождение мне выяснить не удалось, и, судя по всему, он не был потомком Ивана Федоровича Черепанова. В августе 1879 года Венедикт Андреевич утонул, а через шесть с небольшим лет умерла «от старости» его вдова.
Что же до самого Селиваново, оно, насколько мне удалось узнать, находилось в непосредственной близости к Верхоленску и, по местным меркам, было отнюдь не маленьким: в 1916 году в двадцати семи домовладениях Селивановской деревни проживало больше ста шестидесяти крестьян164. Сейчас его уже нет.
Алексеевские
Были верхоленские поселения, в которых Черепановы впервые упомянуты в церковных архивах уже после 1872 года. Самый ранний случай относится к Алексею Кирилловичу Черепанову. Он перебрался в Алексеевскую деревню на реке Куленге из Куржумово или Кутурхая, вероятнее всего, в феврале 1884 года, когда венчался с Варварой Иннокентьевной Шелковниковой, вдовой местного крестьянина[293] (первая жена Алексея Кирилловича тоже была вдовой, и он также переезжал в дом жены, но в Куржумово. Все три сына, рожденные в той семье, умерли малолетними). При переезде в Алексеевскую деревню к Алексею сразу же либо позднее присоединился его брат Дмитрий.

