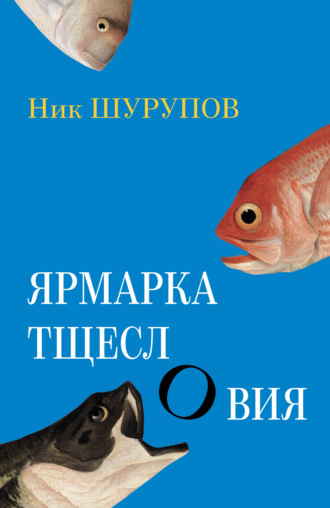
Полная версия
Ярмарка тщеслОвия
– Опять наш Виссарионыч до ушей нахванчкарился! – заметил он напарнику Вольдемару – прежде Вовчику, Вовану, одетому, как и он, в нелепую, салатной расцветки служебную униформу – якобы шёлковый фрак, с цветастым галстуком-бабочкой. – Прикинь, какие у нашего вождя народов уши. Знаешь, что напоминают? Туруханские пельмени.
– А ты их видел, эти пельмени?
– Откуда? Я в Туруханске срок не мотал. У меня, в отличие от Виссарионыча, судимостей нет.
– Тогда что плетёшь?
– А вот такими я эти пельмени и представляю. Серыми, как из непросеянной муки, и крупными, как сибирские валенки.
– Ты что, травки курнул?
– Не гони! – огрызнулся Серж. – Я от его монологов опупел.
– А, теперь врубаюсь, – ухмыльнулся Вольдемар. – Каждый день сиднем тут сидит. Забавный старикан! Дымит и всё время что-то бормочет. Чего – не разобрать. Вот бы послушать! Прикольно, пожалуй…
– А я, бывает, его речуги на мобильник записываю. От нечего делать. Незаметно так оставлю в сторонке свой айфончик – да и включу на запись. Потом, пока клиент не прёт, как лосось на нерест, прокручиваю. Ухохочешься!
Вован оживился, заблестел глазами.
– Сержик, поделись с другом.
– С тебя пузырь.
– А то.
Они обосновались за столом у раздатки, благо народу на веранде почти уже не было. Серж достал телефон и включил записанное. Сначала послышалось бряканье бутылки о стакан, потом, через паузу, раздался глуховатый ворчливый голос:
– Скажи мнэ, таварыш Ягода, как пагыб наш бывший таварыш Троцкий? Надэюсь, гэроически пагыб?.. За-ру-бы-ли?? Нэ можит быть! А чем, топором? Лэдо-ру-бом??! Странные у тыбя кадры в органах. Очэнь странные. Как зовут исполнитэля? Мэркадэр. Тожи странное имя. Вот шьто, таварыш Ягода. Отправь таварыша Мэркадэра в лагэрь. Уже сыдит, гаваришь? Ну, когда отсыдит, отправь. Ка-а-ак в какой лагэрь? Канэшна, в альпынистский!
Вальдемар фыркнул.
– Нич-ч-чего не понял! Какие-то ужастики, что ли? И с акцентом он переборщил.
– Темнота, – буркнул Серж. – Книг не читаешь, так хоть газету купи.
– Какую? Кругом одна реклама. Весь почтовый ящик этой макулатурой забит.
– Ну, например, «Сексомолку», бывшую «Комсомолку». Солидное издание, с орденами. Или «Московский сексомолец». Это – из самых продвинутых. В газетах про всё есть, даже про историю.
– Дальше крути, – отмахнулся Вован.
Мобильник снова зазвучал знакомым приглушённым голосом:
– Слюшай, Лаврэнтий, ты можишь пасадыть таварыша Ленина? Нэ можишь? Пачэму нэ можишь? Пачэму нэ виполняешь решений полытбюро?! Молчишь, Лаврэнтий? Сэрдца у тыбя нэт – вот пачэму! Вэзде на постамэнтах – стоит таварыш Ленин! Стоит, руку дэржит вперёд к каммунизму. Он же – нэ жылезный, панимаешь? Это таварыш Дзэржинский – жылезный, на то он и жылезный Феликс. Он – можит стоять. Хоть сколько – нэ устанет. А таварыш Ленин?.. Пасады его, Лаврэнтий, последний раз гаварю! Пусть пасидыт. Пусть атдохнёт!..
Вован захохотал.
– Ты погляди, какой у нас Виссарионыч заботливый. Ленина посадить он хочет! Ещё бы где-нибудь в Бутырке во дворе или в «Матросской тишине»!.. Про какого-то Лаврэнтия всё время талдычит. А про других есть?
– Навалом, – успокоил Серж и прикоснулся пальцем к экрану мобильника.
– …Скажи мнэ, таварыш Кагановыч, пачэму всэ сапожные фабрики у нас в стране – имэни Шаумяна. Я харашо помню таварыша Шаумяна. Таварыш Шаумян нэ знал сапожного дэла. Вот ты, Лазарь, кэм был до рэволюции? Сапожником? А пачэму молчишь? Пачэму нэ ставишь вопрос на полытбюро? Вот в чэсть кого нам нада сапожные артели называть! Панымаю, скромность украшает балшэвика. Панымаю, ми нацэлили тыбя на жылезную дорогу. Харашо, так и быть. Назовём в чэсть тыбя мэтрополитэн… Всё-таки он, Лазарь, ближе к прэисподней, а? А чэм ближе к прэисподней, тем теплее. Согреешься!..
– Кто такой Каганович? – полюбопытствовал Вован.
– Ну, был один тип. Чуть не сто лет прожил. Я как-то видел его: на Тверском бульваре детям конфеты раздавал. Сидит на скамейке, слюни текут, как у престарелого бульдога, ну, кулёк из газеты, лыбится и конфеты малышам суёт. А те от него шарахаются.
– Ещё есть? Заводи, а то по домам скоро.
– Про Хруща есть. Его-то знаешь?
– А, это который по трибуне ООН кирзовым сапогом стучал, с кукурузиной в зубах?
– Ну что-то вроде того.
Серж ткнул пальцем в экран, и приятели услышали голос Виссарионыча, на этот раз – издевательский, но и одновременно печальный, что ли.
– …Вот ти мэня всё хвалишь, Ныкита, хвалишь. Вэзде, гдэ нада и нэ нада. На съездах хвалишь, на плэнумах хвалишь, на даче хвалишь. Так и пэрэхвалить можно. Культ личности создать таварышу Сталину. А ми, балшэвики, – протыв культа личности. Развэ нэ знаешь?
Развэ нас нэ этому учил таварыш Ленин, этот старый маразматик?.. Я вот шьто скажу тыбе, Ныкита. Ты лучши гопак танцуй. У тыбя гопак лучши палучается. Танцуй лучше, Ныкита!
– Про Никиту прикольно, – заржал Вольдемар. – Всё?
– Вроде ещё что-то есть. Да, вот… про Берию.
Из мобильника неожиданно донёсся совсем другой по тону голос – мягкий, участливый:
– Скажи мнэ, Лаврэнтий, у тыбя есть совэсть? – долгая пауза, будто вопрошающий в самом деле дожидался какого-то ответа. – Если нэт – ми тыбя расстрэляем. А если есть совэсть, тагда, Лаврэнтий, ты сам должен застрэлиться.
Когда Вольдемар, давясь от смеха, поспешил с картой вин и закусок к паре, усевшейся за его столик, Серж в одиночку выслушал последнюю запись неугомонного Виссарионыча. Тот на днях до того раскис за своей «Хванчкарой», что пустился со своим вечным собеседником Лаврентием в какие-то лингвистические абстракции.
– Лаврэнтий, а нэ пора ли нам, балшэвикам, расстрэлять мягкий знак? За соглашатэльство. За слабодушие. За мягкотэлость. Как думаешь? Расстрэлять настояшым образом. Как нас учил тавариш Ленин, этот старый маразматик. Мягкий знак – явно буржуазный элемент. А, Лаврэнтий? Или мэлкобуржуазный, шьто одно и то же. Тавариш Ленин чуял буржуазию за вэрсту. За коломенскую вэрсту. Знаешь, шьто такое коломенская вэрста? Нэ знаешь, Лаврэнтий. Ничэго ты нэ знаешь. Дажи теорией нэ занымаешься. «Капитал» тавариша Карла Маркса кагда паслэдний раз читал, а?.. Только о масквичках думаешь, савсэм слюни распустил. Расстрэлять тебя мало, паршивый шакал. Нэ паможет – павэсить. Есть мнэние, шьто и охолостить тыбя нэ помэшает. Для перэваспитания. Шьтобы нэ сбивался с линии партии. Если полытбюро прымет решение, Кагановыч тыбя быстро охолостит. Он сапожником начинал. У него, гаварыт, сапожные ножницы остались. Кагановыч! Готовь ножницы. Прыгодятся! Хватыт проявлять мягкотэлость в работе с парткадрами!..
«Бред, конечно, но любопытно», – думал Серж. Признаться, он давненько прикидывал, кому бы толкнуть эти записи с мобильника за достойную сумму. Тут на Арбате, среди обычных лохов, бродили ведь и обладатели пухлых бумажников и платиновых карт из разных стран мира. Контингент, вполне достойный для коммерческого внимания. А к Сталину с годами интерес не иссякал: эта фигура оставалась твёрдой валютой местной политической экзотики. Пожалуй, даже самой твёрдой и надёжной. Да и с Лаврентием Берией в ту же сторону закручивалось. Стали раздаваться речи, что он вовсе не шпионил на Японию и отличился не только на женском фронте. Что это был, как теперь говорится, весьма эффективный и креативный менеджер эпохи тоталитаризма. Просто его по достоинству не оценили неблагодарные современники и потомки. «Да уж! Где же ещё креативничать, как не в ГУЛАГе. Ставь себе задачи не хочу! Зэку выбирать не приходится. Не выполнишь – к стенке! Тот ещё креатив!» – ухмылялся Серж про себя. Однако, как бы то ни было, прошлое ушло и забыто. А эта политическая ягодка – Сталин с Берией – не вянет… и, похоже, всё больше к столу. И там у них, и здесь у нас.
Серый когда-то учился на истфаке. Потом бросил, решил деловаром стать. Ушёл с головой и с потрохами в бизнес, да чуть всё это добро там и не оставил. Еле ноги унёс от кредиторов и братвы. Осанка и манеры пригодились: после этого тараканьего бега с препятствиями очутился он на веранде арбатского ресторана. Когда оклемался, захотелось по новой дельце замутить. Движуху какую-никакую устроить. Да не на что пока. Кумекать надо, идеи искать и просчитывать. Вот почему Серж плотно приглядывался к прихотливому мейнстриму общественной мысли и пристрастий. Тогда-то невзначай он и обратил взор на постоянного гостя веранды.
Пожухлый и странный тип, с его медной, под золото, звёздочкой на видавшем виды белом кителе, наверняка происходил из неудачников-актёров, которых теперь дружно забыли и театр, и кино. Что-то в нём всё же было достойное интереса. Ведь не шакалил же он возле Красной площади, подобно куче своих собратьев по переодеванию в бывших вождей, не сэлфился же с кем попало за мятые целковые. Нутром чуял Серж, что в этом вроде бы бессвязном бормотании Виссарионыча есть загадочное содержание, которое на вес – как литая звонкая монета. В бесконечном его монологе наклёвывался ещё неразгаданный смысл, который предстояло извлечь. Так из кучи пустой породы добывают поначалу мутный сырой алмаз, чтобы выточить из него бриллиант.
Скажем, такой простейший пример, рассуждал Серж. Вот попался бы ему какой-нибудь пройдоха-издатель с лощёного Запада, чтобы можно было раскрутить его на бестселлер. Типа «Сталин и Берия: тайные беседы на Ближней даче». А что? После убийства царской семьи вон сколько спасшихся чудом царевен Анастасий по Европе гуляло… и всем тёплое местечко находилось у корыта. Этот Виссарионыч, конечно, окончательно спятил – но какой гений не сумасшедший? Если гений, как правило, сумасшедший, то и сумасшедший вполне может оказаться гением. А гениям – что-то такое открывается в их блаженном или же блажном бреду, что для других навек закрыто.
* * *Тот, кого арбатские официанты панибратски называли Виссарионыч, действительного своего имени давно не помнил. Правда, оно порой откуда-то выплывало в памяти, чаще по бытовой необходимости, но тут же шло на дно. Незачем ему было это имя. Ни на что оно уже не годилось.
«Театр одного актёра», где когда-то он служил, превратился во времена Большого Бардака в театр одного вахтёра. А потом и вовсе перепрофилировался в закрытый ночной клуб, с ограниченным кругом упакованных гостей и благоухающего парфюмом их длинноресничного и долгоногого девичьего эскорта.
Для него, исполнителя эпизодических ролей, работы больше не находилось. Новые режиссёры в нём не нуждались: для эпизодов они искали другую фактуру. А старых постановщиков – тех попросту не стало, вымерли, будто советские мамонты.
Лицом-то зрителю он примелькался, не без этого, но кто бы из театралов или кинозрителей вспомнил его фамилию? Таковых не было. Да и коллеги по сцене и по киностудиям поначалу путали имя, а после и вовсе забыли. «А, это ты, старик? Как делишки? По пивку или на троих?..» – вот и всё, что можно было от них услышать при случайной встрече. Жена, обозвав его лузером, исчезла в непомерном пространстве этого города без границ, расползающегося, как перекисшая квашня, по окрестным лесам и полям и навсегда погребающего под своей многоэтажной массой выморочные деревни. Взрослая дочь – та обособилась в собственной семье, и нищий папаша был ей не нужен.
От прежнего киношно-театрального мира остался ему, словно бы в издёвку, нелепый прикид с последней крошечной, без текста, роли: прокуренная трубка, белый китель с якобы золотой звездой, галифе и потёртые мягкие сапоги. Банальный наряд Сталина, слизанный с известных фотографий и картин. По сценарию он тогда изображал молчаливого тирана: тот ночью, при свете полной луны, символизирующей обострение психической болезни, мрачным идолом стоит в Кремле у раскрытого окна и курит трубку, пуская кольца дыма и явно соображая при этом, как бы посильнее загнать страну в ГУЛАГ. Откровенно говоря, именно за умение пускать дымные кольца его и взяли-то на эту роль. На студии знали, как мастерски он порой фабрикует округлёнными губами в курилке полновесные, картинные, долго не тающие в воздухе кольца, – пожалуй, кто-нибудь и рассказал режиссёру про умельца.
В тот последний игровой день он слегка занемог и, не разгримировавшись, уехал на такси домой. А после попытался было вернуть костюм, да не сумел. На воротах студии вдруг появился пудовый амбарный замок, а телефон в костюмерной перестал отвечать на звонки.
До поры до времени сталинский наряд пылился в кладовке, но однажды ему нашлось применение. как-то, проходя мимо музея Революции, забытый всеми артист увидел, как деловито прохаживаются у Александровского сада Ленин со Сталиным. Ленин был в поношенной тройке и с алым первомайским бантом в нагрудном кармане пиджака, а Сталин в полувоенном кителе, в сапогах и с непременной трубкой в руке. Вожди бойко торговались с туристами, желающими сфотаться в таком знаменитом окружении. Разумеется, первый сильно картавил, а второй чрезмерно нажимал на грузинский акцент. Ребята были незнакомые, скорее всего из самодеятельности, с которой было напрочь покончено. Пожалуй, они тоже душой томились по изменщице Мельпомене, а не только подрабатывали уличным лицедейством. Искусство, возможно, ещё принадлежало народу, но какому-то совершенно иному, чем прежде. Удивительным образом в момент слинял бывший советский народ, устремлениями и нравом круто повернув в противоположную от социализма сторону, но, может быть (кто знает?), это касалось лишь столицы, её центра, сплочённого туго затянутой шёлковой петлёй Садового кольца, а подале, в глубине страны всё осталось по-прежнему. Недаром же говорят, что провинция населена русскими, а столица москвичами. Вот так и он, бывший профи, через некоторое время превратился в уличного Виссарионыча. А уж как вошёл в роль, так и не вышел обратно. Некуда было выходить.
Как-то Виссарионычу не спалось, и он вышел покурить на балкон. Было часа два ночи, если не все три, луна пробилась сквозь облака и светила в небе, как настольная лампа. В своих загадочных пятнах, будто бы рябоватая, она напоминала матово-бледное лицо товарища Сталина, разглядывающего сверху развалины своей былой империи.
Виссарионыч закурил трубку и пустил первое густое и пышное кольцо.
Ему живо вспомнилось прочитанное недавно в старом, изгрызенном мышами журнале, который он обнаружил в кладовке, сказание о вожде. Оно было написано былинным слогом, как бы из уст и от сердца благодарного народа. Сюжет был прост, как правда, или же как передовая в бывшей газете «Правда», которая нынче тоже разлетелась на осколки и выходила под именем не то «Правда-6», не то «Правда-666».
…Глубокая ночь, уставшие от работы люди спят, один Сталин не дремлет в думах о народе. Высоко-высоко, в кремлёвском кабинете, он стоит у окна и закуривает трубку, набитую своим любимым табаком из папирос «Герцеговина Флор». Выдыхает кольцо дыма. Оно поднимается в воздух и летит над страной. Пролетает над Волгой, где на зорьке рыбаки уже плывут на первую тоню. Рыболовы натруженными от сетей руками приветственно машут кольцу: «Сталин не спит, он думает о нас!» Дальше летит кольцо, вот оно уже пролетает над Уралом. А там металлурги спешат к домне на утреннюю смену. Глядь в небо – табачное кольцо! «В Москве-то, должно, ещё ночь, а товарищ Сталин не спит, весь в заботах о народе!» Кольцо тем временем плывёт уже над сибирской тайгой, над Приморьем и Дальним Востоком. И повсюду его видят простые люди, рабочие и крестьяне, трудовая интеллигенция и студенты, и все признательны вождю за его бессонную вахту на благо народа, все машут колечку руками, приветствуют. Надо ли говорить, что далее кольцо, по течению вольного и, несомненно, политически грамотного ветра, поворачивает в сторону Алтая и Средней Азии, где рабочие и пахари, чабаны и хлопкоробы сразу же замечают его в ясном небе и понимают, что любимый вождь помнит о них.
«Наивно, но до чего же трогательно, – думал Виссарионыч. – Советский народ – одна большая семья, а во главе семьи мудрый и заботливый отец!..»
Неожиданно Виссарионыч почувствовал себя немного настоящим Сталиным, ведь и он – в ночных думах о народе. Пусть не в Кремле, а на тесном, заставленном всяким хламом балконе своей однушки, что на десятом этаже, прямо под худым, протекающим в дожди черепичным чердаком, – но ведь и он тоже, как вождь со стальным именем, не спит и думает о судьбе страны. Ох, тяжела ты, шапка Мономаха, точнее, думка, что под этой воображаемой шапкой! Правда, что теперь за народ, что за страна – без бутылки не разберёшь, а и ту купить-то не на что.
Виссарионычу уже давненько претили эти ряженые вожди – коллеги по несчастью, которые с утра до вечера топтались у Красной площади. Самую горячую туристическую точку столицы ежедневно окормляло с дюжину Лениных и Сталиных. Порой среди них можно было увидеть похожего на лысую хрюшку Хрущёва (с непременным початком кукурузы) и осанистого бровеносца Брежнева (в орденах, и с фронта и с тылу). Бывало, захаживал Ельцин, белобрысый разухабистый верзила с бутылкой водки в руке, выкрикивающий: «Шта, перестроились, бродяги?» или «Вон она, какая загогулина вышла!»; но этот мордатый типус с опухшими глазками популярностью у гостей столицы не пользовался, его сторонились (ещё задохнёшься от перегара!) и фотографироваться с ним не желали. Или же разок-другой мелькнул приторно улыбчивый Горбач с пятнами в виде Африки и острова Мадагаскар на лысом лбу и с пиццой-хат в руках, – однако не успел он бодро провозгласить свою коронку «Процесс пошёл, товарищи!», как на него закричали «Сам бы ты пошёл куда подальше!..» и чуть не побили, – хотя артист-то при чём? Андропов с Черненкой – те вовсе не появлялись: кто же их в лицо помнит? Впоследствии наладился заглядывать сюда молодой вежливый Путин. Надо сказать, его многообещающий слоган насчёт плохих парней, которых надо мочить в сортире, недолго пользовался у туристов успехом: приелось, ведь никого же так и не замочили. Попробовал было Путин взять туриста другим – облачением в кимоно на походном, развёрнутом татами, а затем полётом с переносным моторчиком за кремлёвскими воронами, но и это не прокатило: в цирке – и то интереснее. Надо ли говорить, что эпизодические появления чересчур робкого, похожего на неудачливого белогвардейского офицера, последнего императора Николая, с георгиевским крестом на мундире, или же лохматого неряхи Гришки Распутина, с красной рожей, в залитой вином сутане враспояску, никакого успеха у публики не имели. Всё-таки основоположники советского государства были вне конкуренции, особенно Сталин.
Чуткий Виссарионыч быстро уловил некую легкомысленность, легковесность переодетых вождями скоморохов-дилетантов. Как-то всё уж слишком понарошку у них выходило. Загримироваться под вождя – ещё не значит войти в образ. Нужен характер. Он и себя ловил на том, что сталинской харизмы у него кот наплакал. Потому вскоре и слинял с доходного туристического пятачка. Закрылся дома. Думы думал, читал литературу. Наращивал образ.
Со временем он так глубоко погрузился в сталинскую душу, что понял её тайные токи, смысл стратегии и тактики вождя.
Само собой, Виссарионыч догадался, что Сталин не мог не зачистить ленинскую гвардию, так как состояла она целиком из фанатиков идеи мирового господства, под именем перманентная революция. Все эти «гвардейцы» – мутанты Маркса и Энгельса – настолько были заражены мечтами своих кумиров, что подхватили от них и неизлечимую болезнь ненависти к «варварской России». Сталин, в отличие от этой своры болтунов, что в парижских кафе, за пивом и спорами, с утра до вечера просиживала до дыр эмигрантские штаны, был практиком, родину не покидал – и потому куда как лучше знал страну и её народ. Вместо параноидальной мании устроить на Земле мировую коммуну он, когда окреп в кресле, выдвинул реальную идею построения социализма в отдельно взятом государстве. Это было совсем не то, чему важно учили бородатые основоположники марксизма и примкнувший к ним Ленин, – это был разворот на 180 градусов. Авторы «Манифеста коммунистической партии» оказались никудышными пророками: социализм победил отнюдь не в европейских, промышленно развитых странах, а там, где они и предполагать не могли, – в «тёмной, крестьянской, отсталой, варварской России», народ которой Маркс с Энгельсом от души презирали. «Вот, – усмехался Виссарионыч, – поглазели бы эти волосатые пророки, позабытые и никому не нужные у себя в Европе, на бессчётные свои портреты в сельсоветах и в служебных кабинетах Советской России да на гранитные и гипсовые памятники себе любимым, понаставленные после 1917 года по всей нашей стране! Небось от изумления захлебнулись бы пивом и подавились бы своей кислой капустой».
Кадры решают всё, но первым делом решают друг друга. И пауки в банке, пожирающие один другого, и грифы-стервятники, рвущие клювами падаль, – просто невинные, мирные твари в сравнении с кремлёвскими парткадрами. Виссарионыч осознал это после того, как понял суть внутрипартийной борьбы. Тогда-то и появилось у него слово – паршивые шакалы. Вот с кем годы и годы пришлось сосуществовать его персонажу, одолевая одного за другим.
Откуда взялось само это выражение, артист уже не помнил: может, где-то вычитал, а скорее – само пришло на ум. Ведь он всё больше и больше становился самим товарищем Сталиным, будто бы тот вселился к нему в душу, как на жилплощадь с постоянной пропиской.
Даже ближайший ученик Лаврентий, в застольях так душевно подпевавший Кобе «Сулико», – и тот оказался подлецом и предателем. Сталин ещё до своей смерти раскусил его, понял, что его соратник будет, не скрываясь, радоваться кончине вождя, что и случилось потом во время всенародного траура в марте 1953 года. Как ни таился Берия, а не смог обмануть товарища Сталина.
Постепенно Виссарионыч осознал и то, что его кумир, незадолго до смерти или же до таинственной гибели, предугадал не только свою дальнейшую участь в истории, но и судьбу всей страны. А всё потому, что кругом уже начали множиться, словно бы в геометрической или в ещё какой покруче прогрессии, паршивые шакалы всех мастей.
Так, сам не отдавая себе отчёт и не очень понимая произошедшее, никому не известный артист перевоплотился без остатка в своего героя и стал, будто неизвестный воин, носителем сталинского духа.
* * *Виссарионыч возвращался домой.
Москва цвела и пахла, как шалая, размалёванная баба-разведёнка, которая наконец дорвалась до тотального шопинга и оторвалась там по полной программе, а теперь вышла промяться, чтобы нагулять аппетит перед элитным рестораном и последующим загулом. Казалось, каждому в этой пёстрой нарядной толпе, что валила по Арбату, уже вживили под кожу микрочип с неувядающей формулой-установкой Маркса: «Деньги – товар – деньги». «Вот он, основной инстинкт капитала», – думал Виссарионыч, улавливая дух толпы.
Он увидел оторопелую фигуру бронзового Пушкина, стоящего с бронзовой же Натали на обочине, напротив своего дома-музея, где когда-то они поселились после свадьбы. Пушкин безмолвствовал, как народ в его драме «Борис Годунов», глядя на этот девятый туристический вал. А из глубины улицы к поэту взывал шепелявосиплым тенорком лысоватый сгорбленный человек, тоже бронзовый, с гитарой за спиной: «Алексан-Сергеич! Алексан-Сергеич! – звал он. – Разрешите, спою для вас про синий троллейбус?» Натали фыркнула и скосила глаза к переносице. А Пушкин захохотал на слова странного незнакомца – хохотом тяжелозвонким, как скаканье Медного всадника по потрясённой мостовой. Виссарионыч ошарашенно оглянулся: никто из прохожих даже и не заметил этой переклички монументов.
Виссарионычу почудилось, что сейчас он улавливает потаённые бронзовые мысли всех памятников в округе. Понурый Достоевский у бывшей Ленинки, скорбно опустивший глаза… и сгорбленный Гоголь во дворе дома на Никитском бульваре, отворотивший больной свой нос на сторону… да они же просто-напросто не желают смотреть прямо, потому что знают: вокруг бесовский шабаш, мёртвые души нетопырями неслышно снуют в воздухе. А угрюмый Пушкин на площади, названной его именем? Вот уж кому всех раньше примстилась эта бесовская кутерьма в метельной степи. Не её ли своим внутренним взором он созерцает с горечью и презрением? Нынче-то, пожалуй, по стране этой кутерьмы погуще, чем в пушкинские времена, особенно там, где крутятся большие деньги… Неподалёку уже новые монументы появились: Бродский на Новинской набережной, рядом с американским посольством, – в виде цапли, заглотившей лягушку, отвернувшийся от земли и запрокинувший лицо в небо, дескать, вот он я; Высоцкий на краю Страстного бульвара, раскинувший руки в стороны и образующий своей фигурой крест, – что за претенциозно-патетические позы избрали для них скульпторы, а ну как почуяли они нечто… Один Есенин на Тверском бульваре улыбчиво прост, безмятежен и ясен, и понятно почему: он уже послал далеко-далеко всю эту суету и ползучую возню и теперь от неё свободен – как белоснежный мраморный жеребёнок, рязанский Пегас, пасущийся рядом на травке газона.
Новым взором Виссарионыч оглядывал десятилетия, прошедшие после сталинской эпохи, и ему открывался подлинный смысл событий.

