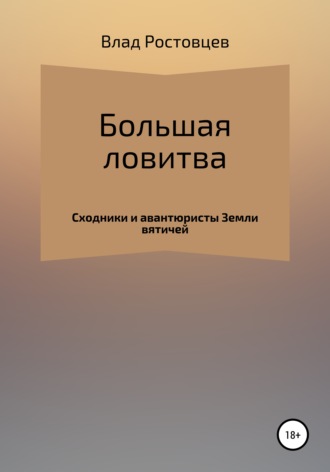 полная версия
полная версияБольшая ловитва
– Мечталось мне: раскупорю его для того, кто самый умелый во всей младшей охоте. Загадал даже: опробовать мед днесь, ежели испытание выдержу!
Не ведал токмо, якоже подступиться. Опасался: отказ получу. Робел. А теперь оказалось: невмочь ему…
– Да кто же сей самый умелый? – буквально вскричал заинтригованный ловчий, напрашиваясь на верный ответ.
И не напрасно надеялся он!
Вслед, снисходительно поблагодарив за ответ тот, однако яро возгордившись в душе, Бахарь перешел к главному. И осведомился, с чего решил испытуемый, что невмочь ему? Отнюдь! Ведь пиршество завершится еще до полуночи, а даде и продолжить не грех…
И подлинно воссиял Хмара!
Аж встрепенулся весь:
– Да я! Да тогда! Да хоть сразу!
– Не поспешай! Погодь! – остудил его младой пыл рассудительный ловчий. – В полночь и присядем.
Скрытно отойдешь от вашей стоянки с кущами шагов на седмьдесят, там и дожидайся. Да прихвати, опричь бочонка, холстину, дабы расстелить на траве. А две чары я с пира прихвачу…
На том и порешили. А в полночь, соответствуя уговору, приступили.
Полевой их лагерь состоял из нескольких бревенчатых строений, где квартировали проверяющие из ловчих и их обслуга, и отстоящих в отдалении шалашей, уязвимых для лесного гнуса и ночной прохлады, где попарно располагались соискатели.
При убывании владельца бочонка меда из шалаша, его крепко спящий сосед, приметный раскатистым храпом, и не услышал, ведь Хмара был обучен ступать совершенно бесшумно.
И отойдя изрядно в сторону, к густым кустам, а был обучен и видеть в темноте, аки филин, он, сноровисто, орудуя ножом длинным и выгребая землю десницей и шуйцей, начал откапывать искомый бочонок. Его скрытно доставил намедни и закопал в месте, загодя указанном Хмарой, посланец от Любослава в час, когда все соискатели мест в младшей княжеской охоте и проверяющие убыли на очередные испытания, а немногая обслуга занята была стряпней. А потом пришлось еще и круг сделать, дабы незамеченным никем добраться до приблизительного места намеченной встречи. Едва успел!
И еще не отдышавшись толком, заметил, что возник, несколько пошатываясь, Бахарь, аналогично умелый в бесшумной ходьбе, не уступая Хмаре и в ночной зоркости.
Первым пригубил ловчий, поймав таковой смак, что тут же налил себе вторично. И Хмара понял: непременно заручится он его доверием, и выполнить сие задание будет намного проще, чем иное.
В том ином ему предписывалось: под видом несчастного случая ликвидировать тайного агента киевского сыска, своего сверстника, внедряемого в младшую княжескую охоту, будто бы на общих основаниях, и проходившего все положенные испытания.
Он уже и обдумал способ осуществления: незаметно подпилить некую ветвь, толстую, у древа, стоящего в третьем ряду от оленьей тропы. Понятно, что при натуральной охоте использовалась бы вышка с лабазом, находившаяся чуть поодаль. Однако, согласно программе испытаний, проверялись выдержка и терпение соискателей, равно и умение замаскировать себя. Ведь олень по природе своей зело чуток, вельми осторожен, и вспугнет его любой шорох чуть ли не за сотню шагов.
Испытание было двуединым. Вначале надлежало проворно и бесшумно взобраться по заре на одно из дерев по соседству с вышкой. При этом, для проверки ловкости испытуемых, воспрещалось использование древолазных шипов, а высота подъема должна была быть не менее двух-трех ростов, не попадая под олений зрак.
Вслед предстояло, высидев, либо выстояв, дождаться утреннего появления оленя таковым образом, чтобы даже не заподозрил он, проходя мимо, о ближнем присутствии наблюдателя.
Соискателям дозволялось самим выбрать древо для последующего сокрытия в его ветвях. Однако все выбирали токмо одно из шести, росших рядом, ибо нижняя ветвь его была самой удобной, дабы ухватиться за нее и подтянуться.
Выход на задание сие для тайного агента киевского сыска ожидался через два дня…
Меж тем, у основательно захмелевшего Бахаря начал заплетаться язык, и Хмара не сразу разобрал, о чем тот начал сокрушаться вдруг. Пришлось, с надлежащими извинениями самой высокой степени почтительности, переспросить.
Оказалось, сомневался ловчий, сможет ли он поутру найти звериную тропу, где очередной испытуемый оборудовал замаскированную ямную ловушку с острыми кольями на дне.
– А сама-то ловушка– тьфу для мя! – высказал он, горделиво. – Плюнуть, и растереть! Не бывало таковой скрытности, кою не углядел бы!
И точно: не бывало! – несколько зим и лет тому… Однако неизбывная тяга к хмельному, открывшаяся в нем позде участия во главе десятка в войсковом походе князя Святослава в Землю вятичей, необратимо доканчивала ноне его ловчие таланты.
Бахарь уже дошел до стадии, когда стал терять память, и то, что было вечор, не всегда помнил наутро. За пристрастие к медовухе, переходящее в запои, его еще когда выперли из войска, и только благодаря ходатайству сотского, поддержанного и тысяцким, пристроили в малую охоту.
Вот и ноне позабыл он, на каковой из трех нахоженных звериных троп, выделенных для испытаний, выкопана ловушка та. А ведь старший ловчий Тихомир дважды сказал ему, где!
И озарило Хмару! Сообразил он, чем выручить Бахаря, на совести коего, ведал он, множество убийств стариков, детей и женщин, когда состоял десятским в карательном отряде. Ибо сам помогал советами по основательной маскировке той ямы соискателю Любиму, справедливо опасавшемуся за итог сего испытания.
Ведь предыдущее – ловлю зайцев петлями – Любим завалил, поелику те, мчась и жизни радуясь, обнаружили петли на обычном пути своем по причине скверной их маскировки. И не поддались на коварство соискателя, нерадивого! Вследствие чего оказался он на грани отсева. Вот и попросил о совете соискателя Хмару, проходившего все испытания с легкостью, будто подсолнухи лузгал.
И успокоил Хмара Бахаря, сказав, что бестолков испытуемый Любим, коему вот-вот укажут вон, а главное, ленив. И наверняка вырыл яму с кольями там, где копать всего удобнее для лодырей. А из трех звериных троп, отведенных под испытания, подходила для такового токмо одна – пересекающая сосновый лес, небольшой. Причем, легче всего копалось на выходе той тропы из малого бора сего, ведь песчаная почва там. По разумению Хмары, озвученному им ловчему, ленивый Любим рыл именно там. Да вроде бы, и сам говорил о сем днесь, вернувшись из леса, хотя, возможно, высказывал еще вечор.
–Тогда, в начале тропы той, когда остановлюсь близ него и спешусь, и высматривать незачем, – рассудил вслух Бахарь, представив, сколь трудно будет нагибаться ему наутро с похмельной-то главы. – Стану напрягать внимание свое не ране, чем с середины, а допрежь – ни к чему мне…
Замаскированная яма с кольями на дне была вырыта между началом и серединой оной звериной тропы. И Хмара даже пожурил за сие Любима, указав, что лучше бы не полениться ему, а взять подальше.
Однако же и Бахарь поленился. А надо бы смотреть ему под ноги от самого начала тропы той!
Лень – мать всех пороков и многих досрочных кончин…
А иные «утраты скорбные», по неясным причинам, среди соискателей и проверявших их ловчих, о коих будто бы вскользь упомянул старший родич?
Все походило на то, что не один Хмара засылался тогда в младшую княжескую охоту. Разве лишь вячичи полагали угрозой для себя прыткий до чужих земель Киев? Отнюдь!
– Уже и греков подозреваю я! – сообразил тут Молчан и улыбнулся, ибо никогда не видывал он их вживую, а токмо слышал от стариков, что единожды на осенний торг приплыла ладья из самого Царьграда с товарами заморскими, однако они и сами не были уже уверены в том.
– Чему возрадовался ни свет, ни заря? – услышал он за спиной и вмиг осознал, что допустил оплошку, не услышав, как подкрался Путята. Хотя и сам умел бесшумно передвигаться в лесу.
И уколол его старший родич, явно раздосадованный досрочным пробуждением своим из-за налета мшицы:
– Невелика цена охотнику, коего скрасть можно!
Молчан ощутил, как поднимается в нем раздражение, аки тесто в квашне. Уже подходит оно, и скоро ему – через край!
Посему и вознамерился врезать Путяте метким глаголом, дабы заерзал он, запинаясь в ответе.
И спросил он:
– Родич, горазд ты был прельщати меня, а собирался ль промышлять тура въявь, не токмо в одних обещаниях?
От резвого наката сего – безо всякого приличествующего вступления, Путята зримо опешил. «Юнец, а сколь попер! Словно на зверя с рогатиной» – оценил он выпад в свой адрес.
И неожиданно почувствовал явное уважение к младшему своему родичу, живо напомнившего ему самого себя – тех же лет: той дерзостью, безоглядной, той прямотой, наотмашь. А потом его приметили старейшины и начали подгонять под свои нормы…
«Вижу: в неких подсказках моих он, мало-помалу, уже разбирается. Приспело время отчасти открыть и остальное. Днесь бой, где у Булгака боле воев, чем у меня. И буде, пришел мой час, кто тогда расскажет Молчану за что я сложил голову? Пора!» – решился он в мыслях.
И молвил вслух, четко проговаривая каждое слово:
– Запомни, и всегда держи в себе: правда у всех разная, и не бывает двух схожих. Хочешь узнать мою? Поведаю, и узнаешь…
XXIII
«А будь у меня двенадесять солидов, золотых, купил бы лошадь! Сие гораздо удобнее, нежели с избитым моим седалищем трястись на осле за три солида. Ведь даже в копчик отдает! – рассудил Молчан, прислонившись спиной, дабы передохнуть, к некоему жилищу, построенному из плоского кирпича. – А допрежь купил бы младую овцу всего за один солид, дабы освежевали ее и поджарили на вертеле, переворачивая над умеренным огнем, а соки капали в него и шипели, испаряясь, и от запахов, сладостных, все трепетало во мне и даже слюну кружило! Истинно уверен: запивая гранатовым из посеребренного кубка, а возможно, и терновым, умял бы в один присест все седло ее, ибо самое смачное оно в том мясе. И обошелся без хлеба и фруктов!»
По ассоциации тут же восстановилось в памяти, что три его безусловно любимые, а четвертая, увы, лишь условная, напрочь пренебрегали хлебом. Иное заказывали они в престижных тавернах с меню, обильным деликатесами!
И потакал им Молчан, далекий от скаредности, неуклонно держась рекомендации Фомы-сводника, искушенного в понятиях ромейских дев блудного промысла относительно щедрых иноземцев, жаждущих отзывчивости: «Убога любовь на пустое чрево!»
Хотя и не собирался предаваться начальному совершенству, ввиду заве- домо завышенной таксы оного. Впрочем, гонорар Фоме за Юлию уже вельми приблизился к ней, составив два солида, семиссий и два милиарисия.
Елико ж доброго вина употребили те чаровницы! И не довольствовались лишь им!
Все они обожали сладости из меда, молока, орехов, фруктов, о коих упоминал Путята, не пренебрегая и крупными сочными ягодами.
И не оставляли своим вниманием, девичьим, дыни, арбузы, инжир, персики, гранаты, абрикосы, мушмулу, клубнику, финики и ранний виноград. Прочий же перекус оказался у них несхожим.
Агата налегала на многие сыры, особливо предпочитая козий. А вслед ее уемистое чрево без остатка вместило и зажаренного молочного поросенка.
Дорофея, умяв принесенную на огромном подносе зайчатину, любимую в столице ромеев многими, запросила на добавку кусище вяленой баранины.
Феодота же потребовала фазана на угольях, фаршированного рыбой. И не соврал Путята, нахваливая пред убытием Молчана в Царьград, вкус сего яства! Вот токмо не предупредил об его цене…
А бесчестная и коварная Юлия обусловила началом предварительных ласк насыщение устрицами живьем да черной икрой, выпотрошенной из лучших рыб Хазарского моря. И обошлось сие куда накладнее даже и фазана!
«Еще и виноградным белым не пренебрегла она», – мысленно подытожил Молчан, обозвав себя словами, пакостными, о коих лучше умолчать.
Тут же основательно чихнулось ему, как бы удостоверяя истинность подсчета. И болезненно отозвалось даже в ребрах…
Вслед вернулся он из романтического в жестокую реальность, где не было виноградного белого, равно и мошны, уже изрядно похудевшей по причине интенсивной сладкой жизни, называемой праздными италийцами «дольче вита», верхних одежд, сафьяновых сапог, решечатого перстня и добытого в честном бою любимого серебряного браслета с драгим камнем.
А за один лишь браслет тот, кабы срочно продать его, пусть и за полцены, можно было переодеться, обуться, испить, перекусить, заказать запряженную мулами повозку и оплатить обращение к лекарю. Еще бы и осталось на скромное пропитание до отплытия! Молчан не сомневался в том, понеже, когда Никетос водил его по престижным ювелирным рядам, неподалеку от Большого императорского дворца, видел в одной из лавок вельми схожий.
«И передвигался бы сейчас на повозке! – подлеченный и насытившийся», – рассудил Молчан, вновь уносясь в мир иллюзий, не подозревая, сколь повезло ему остаться без ромейской медпомощи. Ведь местные лекари признавали панацеей лишь клистиры и кровопускания. Однако куда ему еще и лошадиная доза слабительного?! Сразу бы и помер, очистившись от шлаков!
Тут и вернул его в горестную явь внутренний глас, припершись ажно незваный гость, от коего не отвяжешься, и ехидно вякнувший, что следование пешком и впроголодь зело избавляет от лишних трат, а даже и сто солидов не одарят разумом того, в чьей прохудившейся главе гуляет ветер. Ведь предупреждал же его вещий сон о пагубе знакомств с рыжими! «Быв кузнецом своего барыша, стал ты и его могильщиком!» – едко заключил сей критикан.
И потерпевший был вынужден принять оный сарказм, не оспорив и того, что неразумен был, доверившись Фоме и протежируемой тем зеленоглазой Юлии, представшей пред ним, восхищенным и распалившимся, с огненными распущенными власами, ибо выдавала себя за незамужнюю, в румянах и алой скарлате с длинными рукавами, а по прибытии в нумер любви – и без оной.
Ах, Юлия, Юлия, итоговая по счету из четырех проплаченных им краткосрочных пассий, она же и роковая… Подлинно дева-вамп, пущай и рыжая!
А шпарила на старославянском, лишь ненамного уступая Фоме.
И не отнять: хороша была, чертовка оная, на пригляд! Недаром он столь завелся! А иного, опричь пригляда, и не изведал Молчан, понеже, за мгновения до вкушения итоговых ласк, ворвались те трое! – в черных повязках по самые зенки и банданах, тоже черных, надвинутых на самые чела их. И понеслось…
Что до ромейки, прекрасной, обольстительной, а вяще того, коварной, то ее, словно ураганом выдуло, едва приступили метелить ее платонического, получилось, возлюбленного, застигнутого врасплох в обличье завзятого нудиста!
Была сия, и нет…
– Помираю я! – поставил себе диагноз Молчан, продолжив-таки движение по загаженной улочке. – Вот-вот загнусь от неизбывной жажды, и рухну в смрадные нечистоты!
Отдал бы полбрады за глоток воды!
И оставалось лишь воззвать в остаточную силу голосовых связок к встреченным прохожим:
– Люди добрые, сам я нездешний… Пить хочу!
Однако из последних волевых усилий, помноженных на неизбывную гордость свою, пресек он сие упадническое намерение, постановив в душе: «Ведь вятич я! Довольно, стыдно мне выпрашивать у скаредных ромеев» …
«Возьми себя в ноги, раз уж руце выросли не оттуда, ведь и отбиться ими не смог! Не то завершишься уже днесь, а меня переведут в режим астральной консервации, и не скоро дождусь нового назначения!» – вновь раздался в ушах внутренний глас, исполненный укоризны, переходящей в негодование.
Имей сей собственные конечности, Молчан мог бы и возразить ему на несправедливость оного наката.
Ибо без разницы – в одеждах будь, иль нагишом, а при везении все же случается, пущай и редко, отбиться от двоих напавших, из бывалых, ежели ты и сам имеешь изрядный опыт жестоких уличных драк от первой крови и до последней – не токмо с мордобоями, а и с неумышленным, либо, напротив, преднамеренным, нанесением повреждений любой степени тяжести.
Однако супротив троих – могучих, ловких и с поставленными ударами руками и ногами, остаться относительно целым удается лишь непобедимым киногероям, либо чемпионам по боям без правил в октагоне, взбодрившимся серьезным допингом, а не пустяшным мельдонием. Кто сам прошел чрез оное испытание, неласковое, того и убеждать без надобности!
А не являлся наш вятич киногероем и чемпионом без правил. Касаемо же допинга, вовсе не употреблял! И невозможно было уличить организм его в наличии эритропоетина, анаболических стероидов, диуретиков, переливании крови по потаенным методикам, эфедрина, экстази и амфетаминов.
Молчан, отродясь не лукавя супротив чистоты спорта высших достжений, а бают, что иногда встречается она, даже кокаин не нюхал для повышения выносливости и снижения утомляемости! Тем паче, никто и предлагал ему.
Все же, стерпев напраслину обвинения в отсутствии кулачного мастерства, приступил он к процессу напряженного осмысливания, как выкарабкаться им – ему самому и оному критикану, злостному, из этой зловонной улочки в районе Четвертого холма…
«Четвертого холма? А с чего отложилось во мне сие? Думай, думай, думай! Напрягайся!! Вспоминай!!!» – воззвал он к самому себе, призывав на помощь и все извилины те, кои уже оздоровились опосля ночного экстрима.
И ведь вспомнил…
XXIV
Оставив бивак, они отошли вглубь леса. Здесь Путята остановился, негромко сказав Молчану:
– Не оглядывайся! Рано еще гостям. Спят на дозорной заставе, коя для Булгака – любимое логово, когда выбирается в приграничье.
Ко сну он отходит запоздно, почивает подолгу. И будут они к полудню, не прежде. Посему рассказ мой будет долгим – незачем торопиться.
Вем, досадуешь ты, затаил в душе. Мыслишь: обманул Путята! Позвал на охоту, а оказалось: другого ловим. И вооружена его охрана не рогами, аки тур, а копьями с мечами и луками…
Однако не спеши укорять! Любишь ты Землю вятичей, и дорога она тебе, как отчий дом, как мать и отец твои. А мало лишь любить, когда беда подходит. Аще верный ты сын родине своей и родителям, берись тогда за лук со стрелами, за топор и сулицу! Не прячься за иными спинами!
Ведь вороги наши не сидят, сложа руце. Могуча и беспощадна сила сия, когтистая. Подминает под себя, будто медведь добычу, и клыками рвет. И прожорливей любой саранчи! – есть такая напасть, летучая…
Всегда были алчны киевские правители, вожделея богатств своих от трудов наших. Мало им дани, мало мехов, мало меда и воска. Еще вези, або сами отнимут! Никогда не насытятся, доселе живы!
Не перечесть дев, коих забрали на поругание! – и первым всегда отбирает их князь, блудный. На рогатину б его взять и уд отрезать!
А еще при Святославе угоняли вятичей в рабы, продавая, будто скот, на иноземных торгах.
Ноне же и на веру лютуют нашу! Изничтожить ее хотят, вырвав из нас, словно сердце! А кто из вятичей воспротивится, попав им в руки, предают огню и мечу… И сами отказались, в угоду Царьграду, от веры пращуров, окрестясь по-ромейски! Давно бы закабалили нас навеки, присоединив к себе подневольными. Однако пока опасаются. Не забыл тот князь, что били мы его дружину в первом ее походе на вятичей! Да и войско его нацелено ноне на иное.
Печенеги, кои упокоили его отца Святослава, досаждают ему каждое, считай, лето, набегая на земли его, разоряя их и угоняя невольников.
Было уже и таковое: разбили они Владимира, побежало его войско, а сам князь под мостом спрятался – тем и спасся; не то и его череп стал бы чашей для печенежского питья. Премного жаль, что не свершилось сие!
Допрежь для кочевников сих препоной были хазары, преграждая им путь на Киев. А разбил хазар Святослав, и хлынули печенеги из Великой Степи прямиком на Русь, точно лесная мшица, волна за волной. Ведь и Киев осаждали! И сам Святослав лишился буйной и неразумной главы своей …
Просвещая Молчана, Путята не ведал о внешнеполитических реалиях тысячу лет спустя. Да и незачем было заглядывать ему в оную хронологическую даль. Однако еще тогда уверенно не доверял правителям в Киеве!
… – В прошлом году Владимир заключил перемирие с ними, провоевав девять лет, да так и не победив. Однако, уверен я ненадолго сие, и слаб он отогнать их обратно в Степь. А стало быть, есть у нас передышка для доброй подготовки. К тому же, ромеи для него дороже собственного люда! Ведь поклялся поддерживать их своим войском, аще запросят о помощи. И уже выручал василевса Василия, в подавлении двух мятежей.
– А как отгонит печенегов, на нас пойдет? – не утерпел Молчан.
– Не замедлит! Посему и готовиться надо, не откладывая. Мыслю: будущей весной из каждого рода будут отбирать молодых для обучения ратному делу с лета и до зимы. Дабы, когда понадобится, призвать их в дружину на бой с киевским ворогом!
А для сего потребно доброе оружие и доспехи к нему, не хуже. Спросишь, откуда их взять? Частью самим изготовить, как те же топорики боевые и сулицы. И закупить на иноземных торгах многое иное – с каждого рода должно взимать на дело сие святое! Ведь не обойтись в большой битве без оснащения копьями, боевыми луками, доспехами, щитами, коих нехватка ноне. А много ли у нас коней, пригодных для боя? Почти и нет их!
Вот о чем тревожусь денно и нощно. Можем ведь и не успеть! А у нас даже иные старейшины мнят, будто все обойдется, и незачем напрягать роды. Да и князем пора обзаводиться нам: власть над племенем и дружиной должна быть в одних сильных руках: не то сейчас у вятичей…
«По тону Путяты явно: себя он видит не ниже старейшин, хотя не оглашает открыто. Похоже, и впрямь не ниже. Верно предполагал я» – подумал Молчан.
А вслух осведомился:
– А Булгак твой при чем здесь? Ведь не воевода он, иже с печенегами бьется …
– Будь воеводы киевские столь хитроумны, аки Булгак, они бы уже давно печенегов разбили! И во благо нам, что впал он в опалу у Владимира-князя, чему мы рьяно пособили, и возвращен в Чернигов, откуда и начинал, – живо отреагировал Путята. – А с печенегами воюет, уж уверься и он, токмо по-своему. Доподлинно ведаю: есть у него, рядом с их нынешним ханом, доверенный человек. Вызнать бы, кто сей…
Думаешь, нет у меня иных дел, помимо ловитвы сего василиска? Есть! – ведал бы ты…
Однако во всей Земле вятичей никто не осилит взять его, опричь твоего старшего родича. И ни на кого иного он бы сюда не выехал!
– Выходит, и он за тобой охотится? – начал осознавать Молчан.
– Да наша обоюдная ловитва началась, когда тебя еще и на свете не было! А доселе не удавалось поймать его и за все рассчитаться – ответил Путята с заметной досадой в голосе.
И добавил, чуть погодя:
– Однако и ему не обломилось!
– Расскажи, ежели не тайна, – попросил любознательный младший родич.
– Пожалуй, и не тайна ноне. Внимай! – не возразил Путята.
И приступил:
– Был у меня начальствующий в Киеве. Столько доброго для вятичей сделал – тебе и представить трудно! Одно скажу: когда б не он, Святослав-князь и по сей день творил бы бесчинства на земле нашей. Везде имел доверенных лиц, даже при княжеском дворе, и умело направлял их. И сбился с ног киевский сыск, не в силах постигнуть, кто его главный ворог.
Тогда-то, а я годом ране был принят в старшую княжескую охоту, в Киеве и объявился, с пожалованием во тиуна, Булгак, примеченный тайной службой киевской по Чернигову.
С явными дарованиями выслеживания и выведывания выслужился он там до чина подвойского. И являлось то огромным повышением по службе, случившимся вскоре первой нашей встречи.
Ты, явно, уже и сам догадался, что была она не случайной для нас обоих.
Начальствующих Булгака заинтересовало, кто таков на тамошнем торге бойкий торговец дичью, собственноручно добытой, и корзинами собственного плетения, отчего весел по любой погоде – при том, что в тогдашнем Чернигове нечему было радоваться из-за лихоимства воеводы, а горожане ходили хмурыми, и точно ли северянин он, не похожий обликом на тех, кто происходит из сего племени.
Искали они тогда тайного надзирающего за рынком тем, однако требовался человек с явными талантами и рвением в скрытном пригляде и торговом шельмовстве, готовый служить за умеренную оплату. Понеже при согласии на верную службу получит он сытное место в первом рыночном ряду, где выбирают покупатели, кои побогаче, а их и облапошить не грех.
А мои начальствующие в Чернигове решили присмотреться к одному быстро набиравшему силу нижнему чину из детинца, начинавшему уже досаждать им своей сыскной зоркостью и сообразительностью не по годам, равно и прытью не по чину вкупе с полным отсутствием чести и совести.
Имелась у них некая надежда привлечь столь даровитого челядинца на нашу сторону, дабы иметь при дворе воеводы верного человека. И получил задание я: сблизиться с ним, подружиться, аще будет возможность, и определить, годится ли он за умеренную оплату, понеже еще мелок на службе своей в детинце.
И начали мы надзирать друг за другом, будучи еще незнакомыми.
Долго ли, коротко, а получилось так, что я, с радостью внутренней, изловчился подставить свой лапоть под его сапог, а он, с не меньшей радостью, и тоже не внешней, ступил на него. Сразу же и обрушился, изрыгая хулу: мол, злостная наглость для простолюдина не уступить дорогу слуге самого воеводы! И потупив очи, смиренно выслушивал я, ведь куда тягаться лаптю супротив сапога, пусть и юфтевого!




