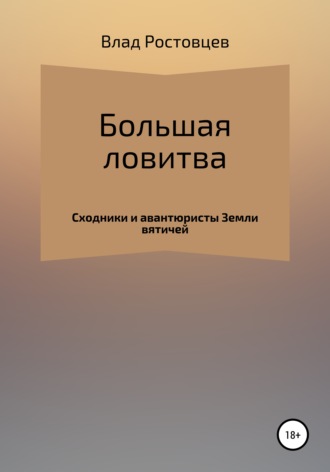 полная версия
полная версияБольшая ловитва
Система же последовательного удвоения изобретена и внедрена им, ибо сызмальства почитает он число «два», ощущая его своим внутренним оберегом.
И дал Молчану совет – бесценный, поелику зело затратный, в чем наш славный, ано доверчивый вятич позде удостоверился на собственном кошеле.
То есть: предваряя ласки, расположить к себе избранницу свою обильным угощением по ее вкусу. Ибо убога любовь на пустое чрево!
Меж тем, испив, откушав и окрепнув плотью, обретет возлюбленная его таковую неистощимость, коя неведома нигде, опричь столицы Ромейской империи! Да и сам он, пылкий, заправится пред стартом; на пользу сие мужам!
А и верно! – когда в меню лишь «ню», вовек никому не насытиться…
Для дебюта на стезе наивысшего чувства махровый сводник предложил Молчану искусницу именем Гликерия, означающим «сладкая».
И не утаил, что есть в ней и некий изъян. Посему и предлагает оную, беря всего два милиарисия за содействие.
– А изъян-то каков? – незамедлительно справился заказчик, заподозрив подвох.
– Глуповата она! – признался Фома. – И ковыряет в носу в самый неподходящий миг – на вершине страсти, когда самый венец ее, а по-нашему, апофеоз. Никак не отучить Гликерию от таковой дурости!
Однако, ежели не отворять свои вежды, приближаясь к запредельному блаженству, невоспитанность сию можно и не заметить.
Молчан – призадумался. Женскую глупость всегда полагал он вполне допустимой, а в чем-то и предпочтительной, супротив женской премудрости. Однако озвученная привычка будущей любимой, предложенной посредником, не вдохновила его, отнюдь! И по ассоциации вспомнив о скверном обычае Афинаиды, уточнил он, на всякий случай, посещает ли оная Гликерия термы.
Мысленно ухмыльнувшись на подобную злопамятность, Фома заверил: посещает! – через каждые, почти, две недели, и в целом не реже, чем три раза за лето. А нижнюю рубашку свою меняет еще чаще!
И даже – время от времени – ополаскивается по месту жительства.
Тем самым проявил он низменное коварство, ибо не сомневался, будто бы неумышленно прибавив в дефектную ведомость Гликерии и малую опрятность, что получит от денежного клиента незамедлительный отказ. И мигом затребует тот иную возлюбленную!
А четыре милиарисия – вдвое от двух!
И восторжествовало коварство бывалого сводника! Неискушенный в подобных каверзах Молчан наотрез отказался вкушать блаженство с невоспитанной и неряшливой!
– Что ж, – изобразил Фома огорчение. – Когда не люба тебе Гликерия, буду уговаривать Агату: допускаю, что снизойдет. Сия наделена достойными манерами, а сморкаясь, вся деликатная, прижимает к носу рукав туники своей, им же и утираясь. Из терм ее и силком не выгонишь! Агату и дурой не назвать!
Все же не утаю: невозможно полное совершенство всего за четыре милиарисия посреднику!
Совершенство начинается – заметь, лишь начинается, с комиссионных в четыре солида, что в двенадесять раз боле…
«Спятил он, что ль? – подумал Молчан, уже протезвев, а вместе с тем и впав в недостойное лукавство пред самим собой. – Зачем мне начальное совершенство за неподъемную цену?! Всего ведь и хочу: ознакомиться с потаенными нравами ромеек, дабы не оплошать с ними впредь, выведав ноне все их повадки, хитрые. Не по ликам одним надлежит знать врагинь из чуждой державы, а и по телам их! Для первого же ознакомления и оная сгодится!»
Вслед огласил, что согласен, ради дружбы с Фомой, на Агату…
XX
В самом деле, экс-резидент в Киеве подкинул подсказок для догадок боле, чем перстов на длани.
Зачиная рассказ свой, упомянул он, что Булгак – то ли намеренно, по злобе, то ли по рассеянности – наступил ему сапогом на лапоть на входе в черниговский детинец. И вроде бы, совершенно ни к чему добавил Путята о себе и Булгаке: «Сверстники мы».
Могло ли статься, что ему, в обличье Хмары, до крайности нужно было свести знакомство с кем-то из нижних по чину обитателей детинца, и удобнее всего – со сверстником?
Вполне! Тогда, в интересах дела, не жалко и лапоть подставить под сапог. И познакомиться дале, не обойдясь вначале без крепкого словца, и не одного, тем самым избежав подозрения в недобром умысле, тайном. Понеже сквернословов, буянов и не просыхающих забулдыг никто и не заподозрит, что лазутчики они иноземные!
Могло ли быть так, что младшему челядинцу Булгаку поручили отследить прибывшего в Чернигов сверстника его – северянина Хмару, дабы наверняка выведать, кто таков?
Даже сомневаться незачем! Тогда, в интересах дела, не грех и изобразить оплошку с лаптем. И аналогично познакомиться, ано не обойдясь вначале без крепкого словца, и не одного…
Допустимо, что задание на подвиг выведывания, скрытого, исходило лишь от начальствующих над Хмарой, а начальствующие над Булгаком хлопали ушами.
Допустимо и прямо противоположное. (Молчан, размышляя о сем, не знал: Хмару в Чернигове именно заподозрили, что не северянин он, за коего себя выдает). Однако, не менее вероятно, что оба сверстника солидарно, пусть и не ведая о том, оправдали высокое доверие руководства!
А череда кончин при наборе во младшую княжескую охоту?
Один скорый труп на ином! – словно, листопад поздней осенью. С чего бы сие?
Меж тем, попадание в оную охоту – с дармовой кормежкой трижды в день, не считая приварка из отборной дичи, неплохим жалованием из княжеской казны и частью от добычи от княжьей ловитвы – рассматривалось тогда, и Молчан ведал о том из рассказов Путяты, как вельми удачный зачин для дальнейшего продвижения по службе.
Основательно отличившись в малой охоте, можно было надеяться на переход в старшую, где куда выше и жалованье, и почет. Порой сам князь похвалит и пожалует от щедрот своих! И те, кто особо зарекомендовали себя и там, заручившись и поддержкой какого-либо важного чина, могли попасть даже в младшую княжескую дружину! – с изрядными возможностями для крайне полезных знакомств и связей, не токмо любострастного свойства.
Особливо успешные в исполнении служебных обязанностей, либо самые удачливые в связях оказывались со временем в старшей княжеской дружине, откуда, при самом благоприятном стечении обстоятельств, открывалась дорога в ближних круг избранных воевод.
А начиналось с попадания в младшую княжескую охоту…
Мудрено ли, что поступающих оказалось тридевять на каждую из немногих вакансий!
Протекцию Хмаре составил, при зачислении его в соискатели, некто с большими связями, имя и чин коего он будто бы запамятовал, что суть явная лжа. И навряд ли сей некто не оставался в неведении, кем доподлинно является Хмара. Очевидно, что и помогал в прохождении испытаний в ловитве – возможно, располагая содействием кого-то из проверяющих ловчих.
Пособлял ли он вятичу, внедряемому, и в устранении конкурентов его? На предварительном умственном следствии, Молчан не усмотрел сего, а касательно составления заключения эмоционально выговорил самому себе: «Не до того сей час! В дозоре я! Время бдеть!»
Вслед укрепился он в непрерывном бдении, четко осознавая особую важность караульной службы в походно-полевых условиях. Гнал прочь все сторонние мысли и не отвлекался, прибегая к огниву! Поелику лишь через семь веков, по инициативе государя Петра Алексеевича, на Руси начнется новомодное курение табака, завезенного Колумбом в Европу, наряду с картофелем, томатами и сифилисом…
Молчан исполнял бы свой дозорный долг до самой зари и позде, бдя и не размениваясь на иное, как вдруг налетела мшица, неисчислимая, обнаружив его сквозь темь.
И вступил он в неравный бой с невидимым ворогом. Руце его не успевали хлопать по собственным челу, вые, зашею и ланитам.
А все ж одолеть лесной гнус не под силу даже былинным богатырям – не поможет и меч-кладенец!
«Досадовать буду, аще мшица, подлая, токмо меня жрет», – безо всякого сердоболия к соратникам эгоистично озаботился Молчан, вовсю отбиваясь, однако начиная уже выдыхаться.
И с явным облегчением в душе услышал, как одесную и ошую раздались и иные хлопки, что непреложно означало: мшица выявила и остальных, и ночные налетчики, пикирующие с разных направлений, разделились на седмь.
Молчан не вел счета, елико продолжалось пиршество крылатых кровопийц. Однако, когда нежданный порыв ветра отчасти развеял их, начинало светлеть.
Никто и не спал уже. Лишь ворочались, почесываясь.
Ночной дозор подходил к концу, отпала потребность в прежнем бдении, и открылась возможность еще раз осмыслить причины злосчастий средь тех, кто вожделел зачисления в младшую княжескую охоту.
Яснее ясного, что было невозможно предъявить коварный умысел вепрю. Не говоря уже о медведе, вконец озверевшем на цепи от каждодневного притравливания на нем злобных псов, каждый из коих мало уступал в холке теленку-переростку. Однако два утопленника, на радость водяному и русалкам, уже вызывали сомнения! Пущай и не обучены были плавать, однако могли же они, держась за дно перевернутой лодки своей, как-то догрести до берега, раз уж веслами умели!
Еще подозрительней выглядело смертоубийство с древа. Допущение, что соискатель, знающий некоторый толк в охоте, не разглядел допрежь повреждения толстой ветви, Молчан отвергал напрочь. Вот ежели подрезали ту ветвь, примерно до половины – снизу и незаметно, тогда понятно сие!
Что до нечаянной, якобы, смерти при выгоне косули, то налицо таковая кривда, что и опровергать смешно!
У Молчана не вызывало сомнений, что лучник, целясь и стреляя с ближней дистанции, может попасть в загонщика лишь тогда, когда сам того захочет. Да и Путята дал явный намек, что был настоящей он целью…
XXI
Когда в побитой главе Молчана окончательно прояснилось, поступил ему сигнал от самой смекалистой в ней извилины: надобно срочно сворачивать-валить в какой-либо проулок, ближний! Иначе – может запросто столкнуться со стражниками дневной виглы, и мало ему не покажется…
«Одно утешно, – сообразил он, – выберись я еще затемно, и попади в лапы ночной стражи, тут бы мне и конец! – взять-то с мя нечего».
Суждение сие он вывел из рассказов словоохотливого Басалая, да и бывалые купцы из соплеменников не советовали ему шастать по ночам. Не то нарвется на татей или ночную виглу; вторая – на чреватую перспективу – бывает еще опасней!
Витязи ночных караулов – и конные, и пешие – считались в Константинополе подвижниками правопорядка с принципами и правильными понятиями насчет неподкупности при исполнении. Понеже откупиться от них не составляло затруднений для всех, кто были осведомлены о типовой таксе освобождения при задержании по мелкому, а нередко и надуманному поводу, и незамедлительно отстегивали. Посему крайне неразумно считать новаторством инициативный рэкет в допустимых пределах со стороны иных служивых наших дней – например, ревнителей современных правил автодорожного движения, способных щипать наличные даже на асфальте.
В ночном Константинополе гарантией подобного освобождения являлись, как сказывали Молчану, либо золотой семиссис, либо эквивалентные ему шесть серебряных милиарисиев. И являлось сие оптимальным решением! Ибо те, кто скупились из скаредности, либо располагали меньшими суммами, либо начинали качать права, что еще опрометчивей, неизбежно оказывались в застенках предварительного заключения, авансом получив в зубы, равно и ниже пояса. Аще находились недовольные, им добавляли по почкам.
Дальнейшая же колея охраны ночного правопорядка запросто могла пролечь в одну из трех городских тюрем: Нумеру – самую страшную из них, с полным мраком в камерах, Преторий или Халку. А выбраться оттуда – было зело накладно, порой и до полного разорения, и далеко не всем удавалось. Ибо планы по наказаниям за правонарушения, спущенные сверху, не подлежали корректировкам! И для исполнителей репрессивных мер не было особой разницы меж теми, кто был уже уличен и теми, кому лишь предстояло быть таковыми: когда задержан некто, остальное – вопрос техники тех, кто «шьет дело».
А стало быть, Молчану, обнуленному по части денежных средств и не имевшему в Константинополе никакой протекции, а к тому ж, иноземцу, не владевшему ромейским, могли предъявить любой «висяк», способный довести и до казни. Тем паче, умерщвления по приговорам были там на любой вкус!
Скажем, предъяви нашему славному вятичу заговор против императора и государства, ждал бы его костер. Ему отсекли бы главу за обвинение в колдовстве, аналогично – и за простое убийство, поелику сжечь его за убийство родственника не представлялось возможным, ввиду отсутствия такового в Константинополе. А за разбой посадили бы на кол.
Имелись и преступления, за кои полагалась лишь петля, однако сие наказание представлялось многим ортодоксам Константинополя, где к уголовной ответственности начинали привлекать, едва виновному исполнялось седмь лет, избыточно мягким. И убежденные противники пресловутой демократии, разлагающей изнутри великую державу, и прочего инакомыслия, кощунственного, явно проплаченного из презренного Рима с его недостойными папами, требовали отменить повешение в пользу плахи, допуская и возвращение к четвертованию, равно и сожжению в полости огромного бронзового быка, практиковавшимися в золотые прежние времена, когда и сильная рука была, и тюрем – в преизбытке, и никому не спускали за политику и коррупцию!
Однако, попади Молчан, в одночасье став нищим и босым, в застенок предварительного заключения – с последующей переадресацией в узилище постоянного содержания, и окажись он на вилах тамошнего правосудия, с ним, возможно, поступили бы жалостливее, подыскав, в трактовках средневекового гуманизма, зело щадящие наказания – без лишения живота. К примеру, ослепление, оскопление, отрезание носа, вырывание языка и усекновение руце.
Высшим же проявлением ромейского правового милосердия считались порка плетьми, заключение в оковы и крупные денежные штрафы.
Вот ведь чем накладно пребывание на ночной улице, да и на дневной, без наличности, потребной для выкупа самого себя в случае форс-мажора…
Перебравшись в проулок, обильный нечистотами, выливавшимися их производителями вовне, Молчан непроизвольно подумал: «Нет, се не улица Меса, се гораздо хуже». А чрево, претерпевшее намедни от нацеленных в него ударов верхними и нижними конечностями ворогов, подсказало, что неплохо бы ему и заправиться! – даже и в антисанитарных условиях.
«Мне бы напиться вначале! Не то обездвижен стану и в нечистоты рухну, – возразил Молчан чреву, отчасти уже галлюцинируя. – Так ведь не на что! А ты – о суетном… Эх, будь у меня хотя бы три фоллиса!»
А будь у него три солида, он, не раздумывая, приобрел бы осла, ибо подошвы его, оголенные, натерлись уже до крайности.
А будь у него еще и три милиарисия, обзавелся бы вполне приличной одеждой, сбросив, как недостойное и шокирующее почтенную ромейскую публику, нынешнее свое облачение, способное обратить внимание правоохранителя, не брезгующего вымогать даже у вконец опустившихся бомжей.
Осознал Молчан и еще одно затруднение. Аще, хоронясь, пока не наступят сумерки, все же доберется до постоялого двора, он заляжет там и прокормится до отплытия, распродав, хотя бы за полцены, подарки ближним. А за какие шиши возвращаться домой? Без предоплаты его и не возьмут на судно!
И к месту вспомнился ему разговор с Шуем – пред самым отплытием в Царьград.
За три дня пред тем Путята, напутствуя в дальний путь и обговаривая детали, уведомил Молчана: когда доберется он до торга, куда и собирался, встретит его Шуй, давний знакомец, а отчасти и побратим. Ведь в ходе поединка с отрядом Булгака Молчану крепко подсобил Шуй, а в жарком бою с киевлянами, где тот остался без малого перста, его выручил уже Молчан.
А в завершение старший родич твердо посулил, что по встрече с Шуем не о чем беспокоиться впредь Молчану. И покривил! – аки не единожды случалось с ним.
Ибо, когда опустошили по второму ковшу, поминая минувшие дни и битвы, где вместе рубились они, старый боец Шуй посочувствовал, невзначай, Молчану, тоже бойцу со стажем, однако моложе, что его плавание, включая, понятно, и полный пансион, оплачено Секретной службой токмо в один конец.
– В один? Что за шутки?! – вскинулся Молчан.
– А ты и не ведал? – поразился Шуй. – Ох, и ловок, начальствующий мой и твой старший родич! Сам – в кусты, а мне отдувайся!
Хотя и то молвить, непростые у нас ноне времена…
Относительно непростых времен Молчан, коего за живое взяла информация, что «токмо в один конец», попросил раскрыть в подробностях.
Шуй изучающе зыркнул взором бывалого оперативника Секретной службы, явно прикидывая, исполнить, аль нет. Все же решился.
– Не в одной передряге побывали мы, и кончины свои обоюдно зрели, считай, в упор, и друг за друга горой стояли. Посему всецело доверяю тебе!
Да и старший родич твой души в тебе не чает. А уж он разбирается в людях, будучи таковым сходником, что равных ему и нет, жаль, что бывает тверд пред старшими над ним. Не раз от него слышал: «Молчана бы к нам!»
А коли так, открою! Быть по сему! Однако сразу и забудь, как услышишь! Чреватое дело – помнить тайное для любого, кто не состоит в секретных рядах, ведь не бывает у нас обратной дороги…
В позапрошлом году, когда по нашей Земле прошли пожарища и выжгло многие леса, вернулись мы со старшим родичем твоим, а я состоял при нем для особливых надобностей, с одного задания, о коем умолчу, ибо не вправе даже обмолвиться. Поведаю лишь, что длилось оно от зимы до лета.
Задание то являлось для твоего родича заведомо унижавшим его, поелику не дело для начальствующего с таковым опытом и изрядными заслугами, исполнять то, с чем справился бы и умелый подчиненный. Однако осерчал на него наш главный за то, что допек Путята Высший совет старейшин, а немало из них уже одряхлели тогда, дальше некуда, мыслями об укреплении нашего войска – с оснащением добрым оружием и справными конями.
И всполошились в оном Совете многие старцы: а вдруг, мол, киевский Владимир-князь проведает о предложениях сих и осерчает! Тем паче, всякое оснащение войска – дело хлопотное, а обленились они, сверх всякой меры. Вот и постановили о твоем старшем родиче: «Не по чину берет! Долой его с очей наших!» И прежний наш главный – явно, не орел, днесь можно и не таить о сем, не рискнул ослушаться. А едва подвернулся повод, отправил Путяту в дальние края, отставив от прежней должности.
Тому бы попробовать возразить, да и он не отважился. При том, что истинный муж никогда не убоится сказать: «Нет! Против я!», аще нельзя иначе.
По возвращении твой родич узнал о великих переменах и, доверяя, довел до мя! Большинство в Высшем совете старейшин отправило на дожитие, вне его, одряхлевшее меньшинство – из тех, кому под сто и боле. Пришла младая смена им! Отставили и главного в нашей Службе, и заступил новый – ему лишь седмьдесять с лишком, и духом юн. А новая метла всегда начинает с расправы над всем, что полагает мусор. И вымел он многих начальствующих.
Зато твой старший родич резко пошел вверх, как пострадавший от прежней власти. И был назначен выше прежней своей должности – совсем рядом с нашим новым главным, сразу же и послушным став, не в пример себе же прежнему – неподатливому. Да и я, не сочти за бахвальство, тоже пошел в рост, а допрежь не продвигали меня без малого осьмь лет.
Однако старое начальство – старые печали, а новое начальство – новые!
И последовало у нас, во внешнем сыске, сокращение кадров, включая и достойных, и даже общих расходов на скрытничество. А высвобожденные средства были, якобы, переданы в Высший совет старейшин – на изыскания железных руд близ речушки Ленивки, ковыляющей меж торфяниками. По сей день не слышно о изысканиях тех, и что о сем квакают окрестные лягушки…
Возразил, было, один из первых подручных нашего главного, и в одночасье был отставлен! Славно, что тут же пригласил его к себе – на таковую же должность, главный по внутреннему сыску, где обошлись без кадровых чисток и сокращения расходов на оперативные нужды…
А Путята не высказался тогда супротив огромного ущерба нашей службе и очевидной кривды, жульнической. Остерегся он, сохраняя себя. Отмолчался!
Вем, что рискую главой своей, открывая тебе сие. Да уж наболело! А выговориться у нас отныне не с кем: тут же и донесут, дабы выслужиться…
Выбрал Путята тебя, не состоящего на секретной службе, а не кого-либо из подчиненных, по той причине, что лучшие из скрытников наших иль на заданиях в дальних пределах, иль изгнаны из рядов, как имевших собственное мнение о порядках ноне. Еще и в потребных средствах стали ограничены мы!
Другой возразить бы мог супротив оплаты в один конец, понеже оскорбительно оное для проверенных и бывалых, и качать права, дабы проплатили и обратное плавание. Ты же привлечен со стороны, отправляешься впервые, и в совершенной секретности, о коей, опричь тебя, ведают лишь трое.
На таковом и сэкономить – милое дело! Ведь можешь и не добраться до Царьграда, ежели кто-то подстережет тебя в пути, либо сгинуть уже на месте. Зачем же проплачивать возвращение, когда неясно, вернешься ли ты?
И нет у тебя права на возражения, ведь сам и согласился, поддавшись! А не хуже меня ведаешь, сколь лукав Путята. Не на кого тебе сетовать!
И нечего было возразить Молчану! Токмо и осведомиться мог:
– Что ж, возвращаться мне, оплачивая из своей же выручки?
– Ждал я сего вопроса! – расплылся в улыбке Шуй. – И уготовлял тебе две радости…
– Да уж порадовал, куда боле! – не сдержался Молчан. – Еще и в покойники записал!
– Се я для бдительности твоей! Дабы осторожнее был в плавании и в самом Царьграде. Неправеден твой укор! – энергично оспорил Шуй. – Оглашаю первую радость: твой старший родич добился от нашего самого главного, что получишь ты, пред отплытием, бочку с перетопленным чистым воском в кругах – для производства свечей, изъятую при задержании киевского сходника, выдававшегося себя за бортника.
Продашь их, вот и оплатишь малую часть обратного плавания с полным пансионом. А затраты твои за иную часть, большую, вернут тебе – надеюсь, по возвращении, однако не поручусь.
Не стану утаивать и вторую радость! Велено мне твоим родичем передать тебе три дирхема, за кои выручишь в Царьграде, аще повезет, лишь три милиарисия, о честном же обменном курсе и не мечтай! – алчны там менялы, дабы нанял ты портовых бродяг для выгрузки товаров и доставки их на торг.
А еще дирхем и резану – в оплату за проживание на постоялом дворе и за ежедневный аристон, означающий, по-нашему, утренний перекус; прочие трапезы, уж не обессудь, оплачивай за свои!
И когда восстановил он в памяти все, что высказал тогда в адрес Путяты с большим и искренним чувством, и как веселился от сего до колик Шуй, зело огорчился, что и средства от продажи воска-конфиската, отложенные на часть обратного пути, хранил все в той же мошне, экспроприированной, а вместо них остались одни печали, кои уж не на что было утолить…
XXII
А взять того бывалого ловчего, рухнувшего в яму с кольями? Любой охотник, разумный и опытный, всегда осторожен наособицу, когда не вполне в себе. Может, сей помешал кому-то, поперек встал?
Молчан и не ведал, что истинно встал! Причем, Высшему совету старейшин Земли вятичей, заочно приговорившему Бахаря к тому, что обозначалась в тех же краях чрез тыщу без малого лет «высшей мерой социальной защиты».
И когда дошла очередь до него, а в приговоре, вынесенном за преступления против мирного населения, он значился под номером «единодесять», Путята-Хмара, внедрявшийся тогда в младшую княжескую охоту и проходивший серию испытаний на пригодность, получил особое задание. Присмотреться к Бахарю, добиться, дабы проникся тот симпатией к способному в ловитве северянину, испытуемому, а вслед заручиться его доверием и выведать подходы к нему до прибытия ликвидатора.
Однако не понадобился штатный профессионал!
В ходе полевых испытаний Хмара, выполняя тот приказ, присмотрелся к ловчему и сразу определил по сизоватому носу: вельми охоч тот до хмельного зелья! И когда Бахарь, проверив его способности по установке капканов и самострелов, высоко оценил их, высказал Хмара на радостях:
– Эх, хлебнуть бы вечером доброго меда от похвалы таковой! Ведь праздник в душе моей!
– А я сегодня точно его хлебну! Друга моего переводят в старшую охоту, отмечать будем, и я позван! – не без бахвальства поделился Бахарь, бывалый.
Хмара, прекрасно знавший, что будет сим вечером, понеже весть о переводе ловчего Витони в старшую охоту дошла даже до испытуемых, к тому и вел. И молвил он с заметным сокрушением:
– Мед и сам имею вареный, что токмо ставленому и уступает. Цельный бочонок! Еще в Чернигове купил на рынке. С тех пор и вожу с собой. Ведь не с кем! А одному – нет интереса…
Да, любо, когда с друзьями! Не то, что у меня!
– Точно ли цельный? – живо заинтересовался Бахарь.
– Не початый! – заверил Хмара. И признался, зримо смутившись, и даже ланиты его отчасти стали пунцовыми:




