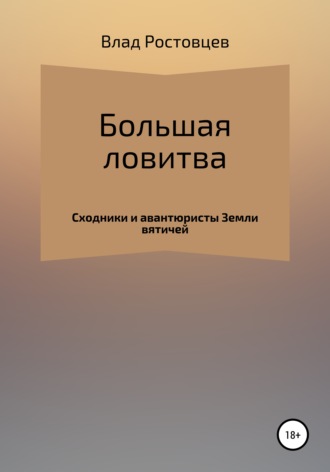 полная версия
полная версияБольшая ловитва
Однако не иссякал поток его оскорблений в лукавом намерении прощупать, до какового предела можно надавить на меня, дабы окончательно прогнулся. И даже до того дошел, что недостойно высказался о матушке моей, северянке, кою никогда не зрел я, поелику ее никогда и на свете не было.
Тут я обязан был не стерпеть, якоже северянин честной и сирота примерный!
И не стерпел, высказав, веско, хотя и негромко: «Ты, воеводы слуга, тово! Матушку мою, покойную, не замай! Не пристало нам, северянам, молча сносить подобное!»
Зримо оторопел сей, не ожидав отпора, а предвкушая полное подчинение с первой же встрече. И высказал с явной угрозой: «Еще попомнишь меня!»
А боле не общались мы, хотя и видели друг друга издали. Поелику мои начальствующие сумели прознать о том, что готовят мне начальствующие над Булгаком, и не устроило их место в первом торговом ряду! Ведь предполагался я для дел, куда больших…
XXV
Изнемогая не токмо от жажды, Молчан с радостью довольствовался бы и типовой трапезой ромейской бедноты: ячменной кашей, сыром и совсем уж дешевыми сушеными овощами, а свежими были у нее летом лишь горох, фасоль, бобы да зелень.
И без дискомфорта обходился бы при этом одними руце, как и большинство горожан, хотя в престижных тавернах с прелестницами освоил он и двузубые вилки, бывшие уже в употреблении у знати.
Будь днесь праздник, рискнул бы он и высунуться на оживленную улицу – в поисках ближайшей агоры, представлявшей место для собраний и торговли, где непременно раздавали бы, от щедрот василевса, медные деньги, дармовое съестное и даже выпивку!
Однако запечатлелось в нем из горделивых рассказов Никетоса, бахвалившегося пред иноземцем неисчислимыми столичными достоинствами, что ближайшим таковым праздником с халявной раздачей будет тот, что именуется у ромеев Преображение Господне, и случится он на следующей неделе.
«Не дотяну я до счастия оного!» – констатировал он, в унынии.
А не осознавал еще, что во благо ему сие!
Ибо при оголодавшей утробе гораздо плодотворнее мыслится и вспоминается…
Имелась у Молчана особенность, приводившая в изумление всех, кто его знал. Наделен он был поистине бездонной памятью, хранившей на многие лета вперед даже мельком услышанное слово.
И вельми раздражал сей феномен Путяту, когда младший, терпеливо заслушивая его воспоминания, нет-нет, а и указывал своему старшему, с нередко присущей ему бестактностью, что некогда тот приводил иную трактовку своих побед на ниве скрытности, в ратном деле и охотничьем промысле. К примеру, пять лет тому добыл он за одну ловитву в поле трех лис и четырех зайцев, завернув же на обратной дороге в лес, добыл и матерого секача с клыками в две пяди.
Сей же миг, в ходе повторного рассказа о том охотничьем подвиге, неопровержимо выяснилось, что убыло на зайца, зато прибавилось двумя лисами и новоявленной косулей, а клыки того секача вытянулись еще на пядь.
И Молчан неделикатно встрял, допустив вслух, что при подобных темпах роста оные клыки скоро обгонят неимоверной длиной своей даже турьи рога. Лис же и вовсе не останется. Некому будет мышковать в полях!
Меж тем, один из фрагментов устных мемуаров старшего родича зело выручил его буквально намедни. И понапрасну Молчан не возблагодарил за то Путяту, хотя бы и в мыслях своих!
Понеже, когда по завершению третьего и последнего дня познавательного фланирования с Никетосом по торговым точкам Константинополя дождался их Басалай, слишком настойчиво стал допытываться сей о намерениях Молчана провести завтрашний день.
Молчан, не отличаясь в том от многих из породы избыточно пытливых, терпеть не мог аналогичную любознательность по отношению к самому себе. И вознегодовал в душе на синхрониста-ренегата!
Все же ответил сухо, что назавтра собирается побродить по улице Меса – до разветвления ее близ форума Тавра, верша сие в полном одиночестве, для закрепления прежних своих впечатлений, дабы, на другой день, поделиться ими с Фомой – на ипподроме. И категорически отверг поползновения Басалая составить ему компанию!
А не пресекся тот со своими вопросами, въедливыми!
И осмысливая оное уже в своей комнате, предуготовляя сон, заподозрил Молчан: «Нечисто сие!».
Тут-то и пожаловал в его разум, из самых глубин памяти, наказ, будто бы данный старейшинами Путяте пред убытием в Киевское княжество сходником-нелегалом.
Хотя звучал ли он въявь, либо придумал о нем Путята, не изобиловавший непреложной правдивостью даже и в разговорах с младшим родичем, не ведал того Молчан.
«Бди сам, и скрытно оглядывай бдящих за тобой!»
И восприняв сей сигнал наставлением из астрала, безотлагательно вывел Молчан, отринув и сомнения: «Не иначе, таковая настырность проистекает из надобностей ромейского сыска! А я, доверчивый, платил ему кератий в день!»
Вслед решил он соблюдать режим особого бдения. Ведь именно завтра собрался он выполнить задание особой важности, ради коего и был направлен в столицу Ромейской державы под видом торговца пушниной…
Да! Не помстилось Молчану, а истинно отложилось в нем, что пребывает в районе Четвертого холма.
Ведь вспомнил он слова Никетоса – подручного бесчестного сводника.
Пришли ему на память и слова Юлии, обошедшейся в ужин, подарок, пять фоллисов вознице, вдобавок и гонорар Фоме. Вознаграждение же ей самой явно оплатили злодеи из мошны, кою умыкнули. Хотя, являйся она честной девой блудного промысла, должна была вначале взметнуть его на высоты блаженства, предупредив вслед, что вот-вот пожалуют налетчики. А не пожелала украситься таковым благородством, удостоверив свою низменность!
Однако сетовать надлежало ему лишь на себя.
Ибо не соблюдал он уровень наполнения мошны своей и не хранил ея, зачерпывая пригоршнями на ложное, суетное и преходящее – в усладу своей плоти, прыткой.
Вот и получилось – в строгое назидание иным греховодникам-мотам из самонадеянных дебютантов на порочном сем поприще – точно по присказке: «Что имеем, не храним, а потерявши – плачем» …
Когда на второй день поездок с Никетосом проезжали они по другой части Месы – в сторону северо-запада и Адрианопольских врат в стенах Феодосия, поднявшись в гору, мимо некой величественной постройки, а направлялись они к рядам с товарами от златых дел мастеров, где торговал знакомый Никетосу аргиропрат, справился Молчан, что за дивное здание то.
И услышал, что се – Храм Святых Апостолов на Четвертом холме, самом высоком месте в Константинополе, и покоятся в нем основатель сего града – император Константин Великий и мать его – Елена, титулом августа, оба святые и равноапостольные.
Следуя же к гнездышку утех с Юлией, ближе уже к полуночи, на повозке, запряженной гнедым мерином изрядной резвости, и указывала дорогу она сама, проезжали они по тому же холму. Затем и спустились немного по улице, мощеной камнем, повернули, а немного погодя, остановились в каком-то проулке по команде коварной прелестницы.
И поинтересовался Молчан, когда ступили они оземь, отчего округ свежестью веет, не в пример центру столицы.
«Что ответила она? Восстанавливай!» – отдал он распоряжение самому себе. И восстановил!
Оттого-де, что в отдалении, примерно в двадцати стадиях, либо чуть боле, протекает единственная в граде река Ликос, а не убери ее прежние градские власти в подземную трубу – примерно на половине, было б еще свежее.
«Не мог я, весь в немощи, далеко уйти от нечестивого того жилища, где претерпел, – прикинул Молчан. – Невозможно сие! Стало быть, пребываю рядом с Четвертым холмом, а когда стемнеет тут, несет прохладой с реки неподалеку».
С реки! Река!! Где-то неподалеку!!!
Так ведь и Никетос что-то упоминал о ней! Напрягись, Молчан!
Он и напрягся, а вслед послышались ему слова Никетоса:
– Свят сей храм, и чтим его! И скорбим, что в долине, ниже и южнее Четвертого холма, где протекает река Ликос, впадающая в Пропонтиду, творится по ночам непотребное и дышит непристойностями все округ!
Ибо на тамошних территориях, где стоит монастырь для дев знатного происхождения и особливого благочестия, а начали возводиться – тружениками высоких чинов из Большого императорского дворца – и виллы в три этажа, остается еще много неосвоенных пространств. И торжествует бездуховный срам, едва заходит солнце…
Вслед, выдержав паузу, исполненную высокой морали, в знак осуждения испорченностью нравов, а прежде всего, у юнцов и юниц, не соблюдающих лучшие традиции старших поколений, кои предпочитали постели! – собственные, чужие и съемные, а на худой конец, топчаны, продолжил Никетос:
– Одно отрадно! В долине той, на ближнем от нас бреге Ликоса, определили для себя постоянный ночлег, меж двумя кладбищами из самых новых, и многие из гильдии нищих, столь влиятельной в нашем граде, что бессильны пред ней власти.
А понеже озлоблены сии на весь белый свет, полагая, что мало подают им, а над фокусами их, вроде умирающего от голода ослика, отсутствия средств на погребение ближних, внезапного шторма и паралича ножек, и вовсе смеются, отыгрываются они на всех, кто забредает, когда стемнеет, в ту местность, включая и блудные парочки. До нитки раздевают их, еще и избивают! Вот оно, отмщение за грехи! И даже владельцы вилл обычно добираются сюда в сопровождении частных охранников с мечами и дротиками.
– Сколь же знакомо мне оное злодейство! – невольно подумал Молчан, приступая к анализу того, что восстановилось в памяти.
Южнее Четвертого холма протекает полноводная река, где можно напиться на дни вперед. Там же можно отлежаться до ночи, равно и замочить рубаху, дабы сошли пятна. Не страшна в долине той вигла, коя туда не сунется! Страшны побирушки, однако у него даже сапог нет, и взять с него нечего, да и не объявятся оные до вечера, ведь днем они промышляют.
Вывод: из-за обезвоживания на жаре промедление смерти подобно! А не помрешь, так дневные стражники повяжут, как подозрительного элемента!
«И чего ж я здесь стою?! – мигом сообразил он. – Должно действовать!»
«Вот и действуй! Не жуй сопли! Вперед, и с песней!» – подзадорил его внутренний глас.
И повернул Молчан обратно – к тому жилищу, где претерпел, дабы, взяв его ориентиром, выйти на ту улицу, мощеную камнем, спускавшуюся от Храма Святых Апостолов. А уже оттуда искать проход на юг и спуск в долину.
«Никогда не блуждал в лесах, и здесь не заплутаю, верный путь выбрав! – рассудил он, окрепнув духом. – Однако буду непременно таиться от ревнителей правопорядка, яко намедни таился от Басалая…».
С потаенностью той от выслеживавшего затейливо вышло! Предваряя ее, Молчан пробудился, когда солнце приближалось к зениту, ведь и заснул лишь с зарей, полный эмоций от замысловатого сюжета своих сновидений.
Начинались они лучше и придумать трудно! – с домашней встречи по возвращении из Царьграда, где были и его с Доброгневой родители.
Приступил к вручению подарков, купленных при содействии Никетоса, с Доброгневы, вручив ей серебряное ожерелье особого ромейского изыска и решечатый перстень с эмалью, ибо уведомил его бывалый советчик, что таковой может быть изготовлен токмо местными мастерами, и никем иным.
Дивно хорош был тот перстень, представлявший переплетенные и стоящие торчком серебряные проволоки, меж коих заливалась в ячейки, чем-то напоминая заполнение пчелиных сот, эмаль – расплавленная стекловидная масса. Никто в городище и не видывал подобного, да ценой не уступал он златому кольцу.
Озаботился привезти для рукоделия десяток бронзовых игл и пяток керамических катушек с ромейскими нитками, и сколь возрадовалась жена!
По три иглы и три катушки достались и родительницам, помимо отрезов дорогих тканей – тонких шерстяных и парчовых.
Отцам вручил серебряные кольца-печатки и ножи из стали добротного ромейского закала с особливой заточкой.
Храбру же, кормившемуся еще грудью, досталась – на вырост – занятная погремушка, представлявшая полого бычка из тончайшего листа меди с камешками внутри, предназначенная быть, при встряхивании, и оберегом от домашней нечисти, боявшейся резких звуков и перезвона. И еще – глазурированная глиняная тарелочка с изображением голубой рыбки на донышке.
А когда родители покинули жилище их, хорошо посидев пред тем за добрым столом, ведь расстаралась Доброгнева из самых лакомых своих запасов, и собирались они почивать, а на нем, заждавшимся ласк опосля столь долгой разлуки, уж осталась одна рубаха, любимая жена вдруг поднесла к нему каганец, и явно обнаружив что-то, взвизгнула, будто в темноте наступила на крысу: «Измену зрю!»
– О чем бы ты? – впал в недоумение Молчан.
– О блуде твоем, подлом! А я-то честно ждала! – выпалила Доброгнева и тут же зарыдала.
– Окстись! Что несешь ты?! Соблюдал я воздержание, строгое, и мыслил лишь о тебе! – воскликнул Молчан, уже начиная негодовать на явную кривду.
– Хороша ж твоя чистота! А се – рази ж не блуд? – энергично возразила жена его, прервав рыдания. И мигом сняла нечто с его рубахи, затем и поднесла ему на уровне носа.
Дрожь прошла по всем членам Молчана, и в ступор отчасти впал! Ибо узрел длиннющий волос рыжего цвета, а откуда взялся сей, было неведомо ему. Аж потерял дар речи…
И пользуясь оцепенением тем, кинулась на Молчана любимая жена, допрежь никогда не допускавшая подобного, и вмазала улику в его ланиту!
А едва перехватил ей руце, изловчилась и укусила мужа в шуйцу, и не ответил он действием, оклеветанный и травмированный зубами ея. Лишь не отпускал, пока хотя бы чуть не успокоилась.
И сколь ни доказывал вслед Доброгневе непричастность свою к измене, так и не поверила. Напрочь отказала в супружеских ласках неповинному!
И содрав с постели все, чем застелила, бросила сие на пол, где и улеглась. А ему старый кожушок бросила…
«Приблазнится же столь престранное! – в сердцах подумал он, переосмыслив наяву. – Однако получается, что Доброгнева – та еще волчица! Едва не загрызла мя – верного своего мужа! И без разницы ей, греховен, аль нет, абы уличить понапрасну!
Впредь не стану соблюдать себя в Царьграде, понеже не собираюсь спускать за облыжную охулку, да и укус, зверский, даже и во сне!
Все же никак не возьму в толк, откуда взялся тот волос! И с чего бы рыжий он?»
– Да с того, что послан тебе знак из астрала. Остерегайся-де рыжих в Царьграде! – прозвучал внутренний глас, пребывавший уже не первый год сварливым и надоедливым, хотя и премудрым, астральным попечителем нашего героя. – Запомни сие предостережение из сна, и переключайся на явь!
Пора уж обдумать, как наверняка выполнить задание старшего родича. Ведь ноне вороги могут строить тебе каверзы, а ты и не изготовился досель…
Каверзы и впрямь были замышлены. Усугублялись они и тем, что Фому наособицу уело, что подкачал, надзирая за Молчаном, его соглядатай.
И Фома строго выговорил Никетосу! – по полночному докладу его, бестолковому. Мол, как же тот, с богатым стажем сходничества и выслеживаний, не сообразил, что оный Молчан, коей, может, всамделишный Прозор аль Давило, а вполне допустимо, Ряха либо Кострома, и даже совсем не вятич, водил его за нос, почем зря. Бродить без вразумительной надобности по улочкам и закоулкам, многим, суть почерк лазутчика, чуждого!
И неплохо бы Никетосу вспомнить, с каковыми целями сам он шатался по всяким новгородским трущобам, будучи на заданиях.
Ясно же, что сей так называемый купец искал, скорее всего, место, где надлежит ему встретиться с сходником на постоянном пребывании в Константинополе, ибо, вельми возможно, курьер он от Центра вражьего!
И надобно было предотвратить надуманные блуждания каким-либо хитроумным способом, затрудняя ему дальнейшие действия. А Никетос следовал за ним, аки коза на веревочке, а та хотя бы блеет, когда несогласная!
– Даже не сомневаюсь я, что заведи он тебя на любую заросшую пустошь и поползи там чрез непролазные кушери, ты бы и сего не пресек, а пополз вслед! – заключил разгневанный Фома свою выволочку.
Впрочем, чуть погодя, отчасти отошел он, прикинув, что еще не явно, сходник ли сей, заявивший себя Молчаном из Земли вятичей, либо просто не вполне адекватный тип из чрезмерно любознательных. И пока незачем заявлять на него в сыск, поелику нет еще достоверных данных, а токмо предположения одни. К тому ж, ежели и подтвердятся они, невелик будет доход с одного лишь доноса. Вот когда б и явку выявить, тут оплатят в двойном размере!
Тем паче, назавтра вдогон подозрительному субъекту направится Басалай, а уж от него-то не оторваться! На сем соображении и успокоился Фома…
XXVI
… – И перебрался я в Киев, к чему мя долго готовили, загодя. Булгак же остался в Чернигове. И заметь, я еще не поступил в младшую княжескую охоту, а он уже заправлял большими делами в чине подвойского.
А главной обязанностью подвойского разумелось доведение до черниговцев с помощью громогласных бирючей всех приказов воеводы – со всяческим восхвалением сих и запугиванием недовольных, коих Булгак тут же ставил на особый учет. И мало кто из них задерживался на белом свете боле одного лета либо одной зимы.
Иной же его обязанностью – сия держалась в строгой утайке – являлось прославление черниговского воеводы в пределах всего Киевского княжества, включая даже Новгород. Не умалю тут Булгака: справился он отменно, никуда не выезжая при том! Ведь вести о заслугах воеводы, каковых и в помине не было, равно и об его рвении на службе Ярополку, тоже лживом, и великой любви к князю – тут даже мне смешно, дошли до самых верхов княжеского двора.
И единожды воеводу призвали в Киев, возведя в чин княжьего мужа. А оный чин столь высок, что на него облизывались многие из самых знатных потомков варягов, прибывших в Киев еще с Олегом. Вслед Ярополк назначил его своим ближним советником, взяв в полное доверие и осыпав почестями.
Ты спросишь, отчего состоялось оное? Да Булгак изловчился! Изрядно шельмовал тот воевода с пошлинами, взимаемыми в Чернигове для передачи в княжескую казну.
А таковых пошлин немало было. Всех и не упомню ноне, однако некие назову: перевоз, гостиная, торговая, вес и мера, вира, продажа. Не баю уже, что воевода безбожно драл с черниговских купцов и владельцев мастерских, набивая мошны свои, многие.
И предложил ему Булгак, доподлинно зная, что смышлен мошенник сей издалека чуя выгоду для себя, выделить толику доходов от казнокрадства и татьбы на поприще прославления и величания. Уразумев суть, согласился воевода, хитрющий, не прогадав, а выиграв. Ибо по получении той толики Булгак подлинно развернулся!
По его указаниям в заповедной дубраве, где располагалось излюбленное черниговцами капище, вырубили всего за одну ночь половину священных дерев, оповестив ошеломленных горожан, что вдруг усохли они!
Сразу же на всех площадях и торгах сего града огласили, что повинны, по всей вероятности, злые кудесники из вятичей либо черные маги из нечестивого Царьграда, однако не исключались и козни скрытных врагов, солидарных с явными.
Скрепя сердце, и за щедрую мзду, вслух согласились с оным измышлением местные волхвы, коих Булгак тайно вознаградил от имени воеводы златом, серебром и пушниной, не поскупившись и на мед с воском, а пред тем изрядно запугав.
И было объявлено: во избежание дальнейших происков вражьих колдунов, вкупе с тайными их сообщниками в Чернигове, и спасения оставшихся дубов, капище вместо со всеми кумирами надлежит срочно перенести в иное место, дале от прежнего.
Не все горожане поверили и согласились. Однако, дабы урезонить смутьянов сих, незамедлительно объявленных зачинщиками крамолы против воеводы, а выше – и князя Киевского, змий, о коем повествую, организовал выезд на место делегации из некоторых знатных черниговцев.
Оные делегаты, небезразличные к секретным дарам, а прибавили, не поскупившись, мадьярского вина – по бочонку на каждого, ибо по бочке – уж слишком, тоже побаивались Булгака, от безнаказанности уже заматеревшего в лютости. И осмотрев свежие пеньки, выразили гласное единодушие с объявленным переносом.
Вслед, подрубая в спешке корни, выкопали оставшиеся дубы, в три обхвата каждый, коих подвергли срочной пересадке в дальнем месте, где и усохли они, не дожидаясь иного лета, даром, что считались священными.
Меж тем, возмутились самоуправством дерзким верховные киевские волхвы, ничего не получившие от Булгака. И обратились, дабы учинить возмездие, к ближним боярам князя Киевского, бывшего тогда в очередном походе.
Прозорливый Булгак и сие предусмотрел! Ибо допрежь кляуз от служителей Перуна, Даждьбога и Мокоши подготовил обоз для Киева с такими же секретными дарами, что и для знатных черниговцев, прибавив на сей раз по мешку арабских фиников. Большую часть телег отправил он на боярские дворы, а меньшую – волхвам-ревнителям. И вновь сбылось его провидение…
А взамен погубленного капища был срочно обустроен некий постоялый двор для избранных торговых гостей, прибывавших в Чернигов со своими товарами, равно для именитых чинов, странствующих по служебным надобностям от Киева через Чернигов до Новгорода и иных дальних земель Киевского княжества, останавливаясь и на обратном пути.
От чуждых взглядов и самовольных проникновений его оберегали высокий частокол, а на нем – охрана, на треть конная, при луках со стрелами, копьях и боевых топорах. Отныне никто из простолюдинов не смел и приблизиться к оному месту!
Вот она, бесовщина-то! Ведь Булгак, изничтожив то капище с согласия воеводы, предал свою веру еще до Владимира-князя, изменив ей при нем уже вторично.
Сразу за воротами тесовыми встречали прибывших красны девицы в румянах на ланитах. И сказывали мне достоверные люди, были они столь пригожи, что и глаз не оторвать! Понеже понимал Булгак-подлец толк в красе девичьей, перепортив многих из тех красавиц.
Вслед вели в главный дом постоялого двора – к столам, накрытым, объявляя, что воевода привечает драгих гостей по законам черниговского гостеприимства, а не присутствует здесь сам, поелику весь в делах неустанных.
А уж столы-то подлинно ломились! Сказываю и тут, со слов доверенных людей, что были в прислуге на тех пирах, вкушая позде объедки. Помимо всем известных яств, выставляли журавлей с пряной зеленью, перепелов с чесночной подливой, кукушек, жареных в меде, грибы особого засола, зайцев в лапше и гусиные потрошки с хреном. Завершали обычно медовыми пряниками и коврижками. Остального, о чем баяли мне, уж и не упомню. А рыбного не жалую, вне заданий скрытных, посему и не запоминал о нем.
Бывало, что засыпали на столах, бывало, что и под лавки рушились. И понятно, отчего: столько ставленого меда выпить токмо богатырям под силу!
Тех же, кто оказывался богатырями, приглашали, по завершении трапезы, попариться в совершенно секретной мыльне, где ожидали их красны девицы, нагие. Однако не те, кои встречали на пороге, а куда боле искушенные, состоявшие при этом и на тайном осведомлении у Булгака, запоминая все, что неосторожно было сказано в хмельном пылу утех, и докладывая вслед.
Добавлю, что небольшой пруд рядом – для охлаждения в нем распаренных докрасна тел, был вырыт, по распоряжению святотатца Булгака, на месте священного родника.
Отъезжая, гости, вконец изнуренные яствами и ставленым медом, а посетители конспиративной мыльни и любострастием, обращались к Булгаку – главному распорядителю на пирах сиих, со словами признательности, ежели могли еще шевелить языками. Однако тот, гадюка лесная, потупив зенки свои в изображении скромности, ответствовал: мол, он-то что! – верный слуга у воеводы. А воеводе черниговскому, славному, и за стол присесть некогда – лишь распорядиться, дабы о гостях озаботились. Не бывает иных таковых радетелей во благо князя Ярополка во всем княжестве Киевском!
Понятливые гости солидарно покачивали главами и мотали на ус: дескать, надобно прославить сего начальствующего в Чернигове по всем городам и весям, дабы и впредь так же встречали их здесь яствами, ставленым медом и прелестницами без одежд.
Сице и взошел Булгак! – трех лет с тремя зимами хватило ему с лихвой. Когда ж воевода призван был ко двору князя Ярополка и укрепился в силе, то добился перевода Булгака в киевский сыск с пожалованием в тиуна. Не из благодарности за великие услуги, а из опасения, что осведомленный в его прошлом Булгак непременно прильнет к новому воеводе в Чернигове и может многое поведать тому о прежнем…
«Говорлив он просто избыточно! – решил в уме Молчан в укоризну старшему своему родичу. – Опять его понесло! Елико можно-то? Когда ж до сути дойдет?!»
И в досаде, высказал, не без ехидства:
– Разумею я, окончилось тем, что оная гадюка лесная вышла на след твоего начальствующего…
– Не на его, а на мой! – запальчиво высказал старший родич, будто и не заметив явной издевки. Хотя тут же добавил:
– Однако передумал я. Долог сей рассказ. Вот отловим Булгака, тогда и расскажу, не спеша…
XXVII
Решив последовать совету внутреннего гласа, Молчан еще раз припомнил наставления Путяты за три дня до убытия на торг, а уже оттуда – перемещения в гавань на реке Москве.




