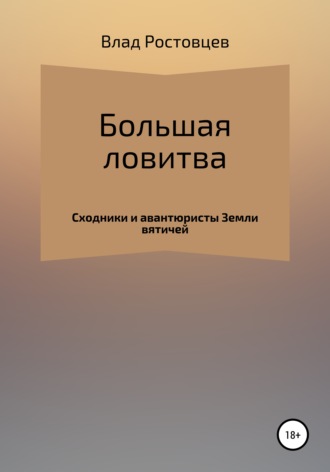 полная версия
полная версияБольшая ловитва
И с одних токмо проигрышей за все годы ставок мог, удалившись на заслуженный отдых по личному заявлению, жировать до скончания дней своих. К примеру, приобретя или отстроив на свой вкус, каменный дом в два этажа, и наслаждаясь там прелестницами по вызову. А когда отпала бы потребность в них, ведь находился уже на переходе из стадии половой зрелости в стадию полной перезрелости и непригодности к употреблению, открыть и тайную школу разводок – с оплатой за обучение в милиарисиях, отвергая фоллисы!
Ничем не отличаясь от прочих стойких и целенаправленных игроманов, твердо верил он, накануне очередных ристалищ, в птицу счастья завтрашнего дня, коя, шустро позванивая крыльями и весело вереща на лету, выберет его, дабы щедро осыпать золотыми солидами! – допустимо и мешками с ними.
Однако назавтра, когда оказывался в очередном разоре, осознавал, оплакивая убытки и утраченные иллюзии, что наново прилетала скаредная на злато виртуальная птица несчастья сегодняшнего дня, поскрипывая от ветхости.
И многократно представлялось Фоме в мгновения самых огорчительных обломов, что она, пролетая над остаточным гнездом былой его шевелюры, вела себя, из недостойных пакостных соображений, ажно зело невоспитанный ипподромный голубь преизрядного наполнения. Еще и каркала при том…
Две первых ставки – и обе двойные, не прокатили у алчного скриба! И оставалась одна надежда: сорвать куш на осьмом заезде, поставив на экспресс – комбинацию, при коей выигрыш приносило угадывание квадриг, пришедших первой, второй и третьей.
Он и поставил все, что еще оставалось у него от нажитого бесчестным трудом за последние недели – из осьми дней каждая, по примеру Древнего Рима: пять солидов, один тримессис достоинством в треть солида и три милиарисия, оставив при себе лишь шесть фоллисов.
И по окончания заезда рухнул на скамью, явно изрыгая хулы на неведомом Молчану ромейском и неоднократно упоминая слово «архип»!
Молчан из врожденной деликатности не стал справляться, что обозначает оно. В противном же случае мог услышать в ответ, что обозначает сие Архипа – безмерного негодяя и главной днесь сволочи! А мог и нарваться на брань за свою любознательность…
Ибо, являясь возничим-гениохом, намеренно придержал тот в самом конце дистанции, и его квадрига прикатила лишь третьей, а в ставке Фомы на заезд была обозначена второй. И осквернил тем самым благородное имя свое, означающее на древнегреческом «старший всадник», оказавшись, на поверку, старшим из всех мерзавцев Главного ипподрома.
И поделом Фоме! Недостоин он сочувствия за всю свою предшествующую жизнь, порочную, равно и за нынешнее намерение оставить Молчана в одних портах, допуская по злобе изъятие и оных.
А непростительно сие жестокосердие даже в самом начале непросвещенного единадесятого века! – далекого от человеколюбия, равно и все последующие…
В таверне под завлекательным названием «Птица-молодица», направиться куда предложил Фома – благо, и пребывало оно недалеко от ипподрома, было и в самом деле представлено преимущественно птичье.
Однако, ввиду непомерной дороговизны, а переводил ему цены злокозненный скриб, Молчан и не помыслил заказывать представленных ему фирменными блюдами сего заведения жареных лебедей, бескостных каплунов, жирных, фаршированных по особливому рецепту, индюков под шафраном, равно и прочие кулинарные изыски, вельми накладные, по меркантильному рассуждению Молчана, для тех, кому расплачиваться за них.
И решил он ограничиться двумя утками – самыми дешевыми из всего оглашенного списка, начиненными массой из грецких орехов, вымоченных в кипятке, дабы не горчили они, луком и чесноком, пассированными на оливковом масле, и пряными травами.
«Хватит Фоме и утки! – подумал Молчан, до поры рачительный.
«Прижимист ты ноне, торговый гость! Иные из твоих соплеменников, блудных, по-иному меня кормили! Отольется тебе сие! Еще и Афинаиду припомню!» – возмущенно вывел в уме его сотрапезник, раскатавший, было, губы на лебедей и индюков, а обретя, по его халявным представлениям, самый убогий эконом-выбор изо всей птичьей составной меню.
Впрочем, Молчан не ограничился токмо птицей, заказав и по куску холодной козлятины – в сопровождении горчицы и свежих листьев латука, презрев баранину в рыбном соусе и вымя молодой свиньи с фригийской капустой.
Уместно уточнить, что козлятина была лишь вторым номером в списке мясных предпочтений его чрева. А поначалу нацелился он, безусловный сторонник кулинарного интернационализма, на тушеную зайчатину по-ромейски, предварительно замоченную в жирном молоке, прошедшую вслед маринование в белом виноградном вине с добавкой базилика, корицы, гвоздики, укропа, петрушки, лимона, молотого красного перца и чеснока.
Увы! – Молчан остерегся во избежание, не вовремя вспомнив историю, кою услышал еще девять лет назад в селище, отстоявшем в часе конного пути от избушки в приграничной чаще, где Добродея выхаживала Путяту.
Незадолго пред тем проник туда, незваным, некий ревнитель новоявленной киевской веры и начал поносить аборигенов за употребление в пищу зайцев, ведь в святом граде Иерусалиме их мясо считается-де «нечистым», напрочь возбраняется к употреблению, и позорно предаваться стыдобе!
Ибо подразумевалось, что шустрые ушастики греховны к употреблению их, понеже не имеют раздвоенных копыт, о чем гласят и предписания, запечатленные в священной книге Левит. А та ссылалась на пророка Моисея, сорок лет водившего по Синайской пустыне вдохновленных им соплеменников, кои, по всей вероятности, то и дело спотыкались о русаков и беляков. И налицо – гастрономическая ересь, наказуемая небесами!
Неспешно почесав затылки вкупе с брадами, селяне подивились, в простоте своей, что зайцы, оказываются, прыгают и на лужайках энтого Ерусалима, равно и в предполагаемых ими чащобах округ него. А все ж, не поддавшись укоризне пришлого критикана, презрели сей сакральный запрет, не сообразив в дремучести своей, что религия, навязываемая им, замечательна, супротив язычества, тем, что накладывает уйму директивных ограничений!
И пригрозили ретивому просветителю: аще не драпанет, немедля, окажется на вилах! Оный воспринял верно, и тотчас же… Вслед в сем селище продолжили уминать зайчатину с прежним смаком.
«Отчего ж в христианском Царьграде лопают зайцев, равно и мы, почитающие Стрибога с Велесом, да нахваливают, а в Киеве, где ударились в иноверие, запретно сие? Не попаду ли впросак, подпав под подозрение ромеев, что скрытник я из Киева?» – почуял опаску Молчан. И перестраховался, воздержавшись от заказа лакомого блюда. А понапрасну! Поторопился он.
Ведь всего чрез шесть с половиной веков патриарх-реформатор Никон, осуществляя перестройку на греческий лад, отменил в православной Руси не токмо старые богослужебные книги, прежние лики у икон, двуперстие, земные поклоны и Крестный ход посолонь, а и указанное табу на заячье мясо – с одновременной реабилитацией им телятины, за употребление коей можно было допрежь и живота лишиться, равно и аналогично преступных раков…
Делая снисхождение Фоме-сластене, а отчасти и себе, понеже ублажиться смаком во благо и себе самому, не поскупился на два фруктовых салата из греховных пред Афинаидой персиков и крупных слив, опять же политых слегка подогретым медом. Озаботился и жареным миндалем вкупе со спаржей.
Намеренно отказавшись ноне от обилия на столе съестного, Молчан имел тайной мыслью подпоить Фому, дабы развязался у него язык и сболтнул лишнее.
Ведь на переполненную утробу не столь хмелеешь!
А не подозревал он, что ни в Земле вятичей, ни в Ромейской державе, ни в Киеве, враждебном, ни в неоткрытой пока Америке решительно невозможно упоить разведчика, даже и выведенного в действующий резерв, до потери контроля над своим языком.
Смешным было бы и уповать!
И посему Молчан, еще не сведущий тогда в сем дополнительном профессиональном отличии ушлых бойцов невидимого фронта от бесталанных обывателей, бесполезных для скрытного промысла, понапрасну потратился на кизиловое в объеме, зело превышавшем потребности двух типовых глоток.
«Ну, и придурок же мой помощничек! – подумал на ромейском Фома, когда принесли емкости с оным напитком. – Ведь ведает, что любо мне виноградное из самых дорогих, и лучше бы красное! А наплел сему невежде, не отличающему доброго хмельного от пакостного, что жить не могу без дешевого кизилового. И придется травиться им! – еще и нахваливать…
Не вчинил ли мне Басалай насмешку за обиду, что размером своей доли уступает Никетосу? А не должны мигранты равняться в оплате с ромеями по рождению! Иначе по миру пойдет держава наша от таковой расточительности! А за то, что вчера упустил Басалай сего купца – возможно, не токмо купца и вовсе не Молчана, лишу его, по завершении дела, наградных за наводку!»
Приступили к трапезе, понятно, с наваристого рыбного супа. Хлеб к нему был в сей таверне ячменным, чуток уступая вкусом пшеничному, однако вполне хорош.
И вельми рознилось настроение их до первого кубка, и до второго, и до третьего!
Фома пребывал в непреходящей угрюмости, вспоминая финансовый урон свой и стеная в душе. И проклинал подлого гениоха, коему явно проплатили за торможение его квадриги на финише – как бы нечаянное, по случайной оплошке, простительной, ведь оный возничий котировался на ристалищах одним из лучших.
«Когда бы мог, оскопил сего прохвоста, и зенки выколол, негодяю, лишив и слуха, вслед и распяв!», – мысленно выносил он казни недостойному Архипу. А наособицу омрачало его то, что не располагал возможностями для приведения в исполнение данного приговора, и лишь мечтать мог…
Молчан же, напротив, был еще со вчерашнего дня исполнен самодовольства, предаваясь, отчасти, и самолюбованию.
Ведь ловко провел он своего толмача! Заодно и удостоверился, что тот промышляет не токмо синхронным переводом…
XVIII
Легли пораньше. Се распорядился Путята, ведь предстояло жаркое дело. И лучше подкопить силушку, нежели растрачивать ее всуе.
Десное колено Молчана уже почти не тревожило его. И был допущен он дозорным во второй смене. Перед сном Путята не поленился наново обмотать тряпицу с медом круг хворого места своего младшего родича.
Много не доспав накануне, Молчан опочил на сей раз скоро и без натуги, надеясь повстречаться с Младой.
Однако, как нередко бывало в начале его сновидений, явилось ему облако, нависшее над землей, чуть не смыкаясь с ней. Завидев Молчана, оно несколько встрепенулось, словно заждалось и воспрянуло выспрь.
«Ничего нового. Экая скука!»», – подумал Молчан. Сильно оттолкнулся и, ловко запрыгнув, встал на облаке, как влитой. За многие схожие сны он давно уж наловчился взмывать столь высоко – тем паче, в наивысшей точке подскока облако неизменно чуть проседало для большего его удобства, подобно обученной и вежливой лошади, когда не самый умелый, либо подраненный всадник ставит ногу в стремя.
Вслед началась неспешная прогулка. Ступать приходилось с осторожностью и тщательностью, будто скрадывая зверя либо чуткого глухаря. Ведь не являлось сие облако гладкой твердью, и следование по нему отчасти напоминало хождение по кочковатым торфяникам. А ежели промахнешься мимо кочки, рискуешь провалиться по щиколотку и выше. Боле десной грешила шуюя нога – дурная привычка ея зело раздражала Молчана.
Опытным путем проб и ошибок он со временем научился самостоятельно управлять являвшимися ему облаком, не нарушая правил воздушного движения и вполне приручив его. Хотя, в отличие от освоенной им езды на мерине Голубке, не мог применить шенкелей, понеже требовалось вначале оседлать облако, а вслед охватить его бока своими ногами. Однако невмочь ему было столь раздвинуть их!
И все же нашелся выход! Дабы облако повернуло, Молчан, переходил к краю противоположной стороны и начинал подпрыгивать на самых устойчивых выпуклостях; тогда облако постигало, что от него требуется, и выруливало, куда надо. Сложнее было добиться осторожного приземления, однако и сие осилил он, освоив непрерывные грузные прыжки отполу – с середины; немного погодя, облако, сообразив и тут, включало режим пологого снижения…
Ни во снах, ни наяву не задумывался Молчан, отчего люди не летают, в подражание пернатым. Никогда не вожделел и обретения крыл. И оказаться, к примеру, гордым соколом, черпающим счастье битвы в охоте за ужами, лягушками, зайцами, сусликами, полевками, медведками и стрекозами, затем и насыщаясь ими, едва ли б вдохновило его.
Будучи по природе своей рационалистом, обдумывающим многие смыслы в стремлении проникнуть в самую их суть, дондеже не проникнув, однако все впереди, он ясно осознавал, что можно запросто грохнуться с вышины, а безрассудно сие лихачество!
И посему никогда не тянуло его в самостоятельный полет, даже с горы разбежавшись…
При том, что перелетных птиц, когда доведены они, ощипанные, до полного томления в домашней печи, неизменно уважал до последней обглоданной косточки.
Вышагивая, он, чисто из любознательности, непременно созерцал, что доле деется. И всегда размышлял при том, делая выводы.
Вот и в сем верховом хождении, держа в уме предстоящий бой, Молчан сообразил, что стоя на краю облака, можно прицельно стрелять из лука, поражая вражеских конных, скачущих ниже. «И даже сулицей не оплошаю! Вовремя Путята подсказал мне, как должно ее бросать» – сказал он себе.
И мигом всплыло в его памяти совсем недавнее, когда вспылив, было, друг на друга, и выплеснув раздражение свое, оба разом и успокоились.
Вслед Хмара, он же Путята от рождения, он же и Бушуй для Центра, чего Молчан и предположить не мог, продолжил воспоминания вслух.
Поведал: метнул в грудь оленю тому косарем с широким и толстым лезвием. А едва проверяющий пришел в полное изумление, равно и в счастье, что сам остался цел, ведь не стрелял «остолоп всякий» из лука, он объявил старшему, что сулицей способен гораздо лучше.
Тот поразился еще боле, захотев тут же взглянуть на подобное мастерство. Когда ж Хмара многажды попал оружием тем в сосну, росшую на некотором отдалении, и ни разу не промахнулся, он пожелал, чтобы явил то же и остальным из младшей дружины. Понеже никто из них не владел сулицей столь ладно.
На другой день Хмара и явил. А заодно открыл им собственное правило меткости и убойности своих бросков. Ведь наконечник брошенной им сулицы входил с прицельной дистанции в свиную тушу на полтора вершка.
Правило оказалось двуединым: пред броском держать сулицу не в центре древка, а примерно на треть от наконечника; бросая, направлять немного вверх.
Ловчие тут же попробовали сами, и пришли в единодушное одобрение. А один из них – в явном авторитете, высказал Хмаре, и никто не возразил ему: «Не вполне бестолков ты! – даром, что из северян. Попробуем испытать тебя в нашей охоте, младшей. Глядишь, и получится из тя путное…».
Путята довел до Молчана и то, что в прежние времена, когда череп князя Святослава Игоревича еще не стал настольной утварью у печенежского хана Кури, оперативно-конспиративная связь между Киевом и Землей вятичей осуществлялась посредством конных эстафет, каждый этап коих равнялся совокупному дневному пробегу трех лошадей, резвых, подменявших друг друга на дистанции.
Однако не открыл он родичу своему, пытливому, что может извлечь тот ноне из рассекреченной утайки сей.
Бывший ловчий-стажер младшей княжеской охоты, поведал вечор и о напутствии своих кураторов – аще, конечно, было оно вообще:
– И наказали мне старейшины, в дальний путь снаряжая: «Будь на виду, однако не высовывайся. Бди сам, и скрытно оглядывай бдящих за тобой! Всегда бери верный след, а прочих – облазнити…
Однако бесценная рекомендация сия: направлять чуждых по ложному следу, не могла, увы, найти применение в практических деяниях повелителя облака. А сколь ловок Путята петлять, одновременно стирая очертания потаенных смыслов, Молчан и без того доподлинно знал.
И уже вознамерился он, рационалист и прагматик юный, наново впасть в раздражение, как вдруг открылось ему, аки высверк молнии: чего-чего, а уж тайных смыслов для последующего проникновения в них, Путята предоставил ему с избытком! И по привычке запутывая, все же и приоткрывал исподволь…
От озарения сего, внезапного, Молчан невольно утратил контроль за своей поступью, промахнувшись мимо кочки.
И токмо собрался укорить злополучную ногу шуюю, как услышал крик: «Спускайся, трус! Заждался я!»
А что узрел он доле, вынужденно прервав верховое хождение и подойдя на истошный звук вскрай облака?
На каком-то поросшем травой пригорке посреди голой равнины, стоял – в исподней рубахе-срачице до колен, да и без портов – Жихорь, нещадно отхоженный им за удар ножом, подлый, а погодя, исчезнувший, неведомо куда.
Сразу и не поверив, Молчан даже ущипнул десное обушие, дабы удостовериться, не во сне ли сие.
– Спускайся, Молчан! – возопил Жихорь и переступил с ноги на ногу, являя нетерпение. – Будет у нас новая пря! И достанется тебе!
– Совсем ты ополоумел, Жихорь! – громко, однако с достоинством ответствовал Молчан, изрядно огорошенный явной дерзостью, задевшей кичение его. – Как же я спущусь, когда на облаке?
– Как? Спрыгни с него! – завизжал Жихорь.
– Спрыгнуть? И костей своих потом не собрать?! Не дождешься сего!
– На облаке от меня хоронишься? Не уйдешь!
– Погоди чуток: развернусь и сяду! И не надейся тогда! В гороховую муку сотру!
– Себя сотри! Спускайся, за все ответишь!
– Ну, Жихорь, держись! Успей порты надеть! Скоро буду…
– Эй, паря, подымайся! – услышал он тут же свистящий шепот и успел удивиться: с чего бы Жихорь, побитый им, завет его «парей», будто ровню, и отчего передумал он?
Машинально приоткрыв вежды, не сразу распознал во мраке склонившегося над ним Будимира, одного из их отряда.
«Пора заступать на дежурство», – сообразил Молчан, сожалея в душе, что быстро пролетело его ночное отдохновение, а с Младой и не свиделся.
Поежившись от ночного холодка и поудобнее расположившись на лесине, Молчан попытался наспех припомнить хотя бы обрывки прошедшего сна. Однако борзо улетучились они из памяти. Пришлось, дабы отвлечься и скоротать время ночного дозора, обратиться к всамделишному разговору с Путятой, искусно вычленив из него самое-самое.
Перво-наперво рассмотрел он то молниеносное озарение, когда за миг ему открылось безмерно, елико не явилось за весь путь, без малого в девятину.
– Конечно, потешался Путята, и очевидно сие, однако и подсказки делал, будто испытывая, соображу ли, – окончательно осознал Молчан-мыслитель, чья память редкостной была в его осьмьнадесять…
XIX
Вслед за третьим кубком Фома отчасти оттаял. И потянуло его приступить к делу! Ведь вследствие проделки мерзкого гениоха, вся его наличность на текущие расходы составляла жалкие шесть фоллисов, представлявшие четверть милиарисия!
Дома оставалась некая заначка, и не угрожало ему бедовать впроголодь до выдачи жалования на службе. Однако пополнить свой расходный достаток на безотлагательные нужды, включая и отыгрыш на ипподроме, он мог лишь за счет Молчана.
А Молчан отчасти захмелел. И ослабло в нем недоверие к Фоме-своднику!
Возжаждал он, отходя от напряжения при вчерашнем выполнении секретного задания, расслабиться неведомыми доселе наслаждениями! И голос его разума капитулировал пред чувственными импульсами…
Ибо бывают тараны, кои проламывают даже многослойную броню высшей неуязвимости!
Ежели строго по правде, то поначалу он высказал фальшивое недоумение, когда Фома спросил, напрямую:
– Каковую же деву, пылкую, желаешь ты, торговый гость? С темными власами, аль светлыми? С носом горбинкой, либо прямым, приличествующим благородным ромейкам? Пышную телом, а может, худосочную, зато с талией? Заказывай!
– А с чего ты взял, что вожделею твоих соплеменниц? – оспорил торговый гость, лицемеря.
– Не крути! Не на торге! Поведал мне Басалай: вмиг зенки твои замаслились, едва приступил он к рассказу о сострадательных девицах – бескорыстных, а к тому ж и неприступных без посредника. И живо заинтересовался ты, стараясь, дабы не заметил он. Попусту старался! – не провел ты Басалая.
«Зато вчера провел, и еще сколь!» – хихикнул в душе Молчан.
– Знамо, приврал он, ради красного словца, – продолжил Фома. – Не бывает бескорыстных красавиц! – у каждой своя цена. И чем неприступнее они с виду, тем дороже запросят!
А ты завилял. Стыдись! Еще придумай, что на ипподром явился, ради ристалищ. Сдались бы они тебе!
Запомни: явное есть явное. Никому не скрыть его, сколь ни ловчиться! Не утаить арбуза в кошеле! И ты не пытайся…
А то, что взыграли в тебе желания плоти, здраво сие! В похвалу оное, не в укор! Сам прикинь: распродал ты весь товар свой, закупил все гостинцы, обозрел славный наш град, а твое судно еще не завтра отчалит обратно. И чем заняться в остаточные дни?
Верный ответ: страстями, и токмо ими! Не фиалки же тебе нюхать!
Хотел потолковать о том со мной? Вот я и пред тобой. Толкуй!
И не устоял Молчан… Поддался он напору Фомы, продувшегося на ипподроме в пух и в прах, а посему красноречивого вдвойне, а временами – и вяще!
Махнул рукой, и молвил:
– А и в самом деле, не фиалки же мне нюхать!
Вслед перешли они к материальным факторам возникновения взаимного чувства интенсивного накала.
Фома запросил вельми скромное вознаграждение за посредничество, обозначив его в два милиарисия. И объяснил: сие – его принцип в товарно-денежных отношениях с перворазниками на ниве познания изысканных константинопольских соблазнов.
Однако за второе содействие запросит уже вдвое боле, а именно: четыре милиарисия; за третье, опять же удвоив, осьмь милиарисиев; за четвертое, соответственно, шестьнадесять, за пятое – тридесять два, а за шестое – шестьдесять четыре. И впредь – в той же прогрессии…
А по завершении дозволенных ласк, уведомил Молчана его визави с перебитым носом, свидетельствующим о житейской бывалости, приличествует оставить о себе добрую память в девичьем сердце! Ведь теплеет в нем, доверчивом, не от одной лишь оплаты в звонкой монете, размер коей лучше обговорить заранее, а и от щедрых подарков! – в качестве дополнения к милиарисиям.
Счастье не токмо в наличности чрез край! Полное счастье, когда всего помногу!
Се заведено в Константинополе среди достойных иностранцев из купцов, блюдущих свою честь, торговую, и доброе имя земли своей.
И негоже добропорядочному сыну Земли вятичей быть прижимистее, нежели гости из Генуи, Пизы, Венеции, Аравии, Росии и даже северных стран!
Должно упомянуть, что Фома, проведший изрядное время в Киеве, практикуя там по линии сходничества, доподлинно знал разницу меж Росией, означавшей по представлениям ромеев Киев и прилегающую к нему Южную Русь, и сопредельные с Киевом территории, включая и Землю вятичей.
Девы же, расставаясь утомленными с недавними своими возлюбленными, изнурившими их, будут неподдельно тронуты браслетами, серьгами, цепочкам и прочими изделиями из серебра – не возбраняются и те, что украшены драгоценными камнями.
И воспримут их данью признательности за проявленные в ласках профессиональное мастерство на грани волшебства и неподдельный энтузиазм, равно и знаки мужского благородства, заграничного!
Не огорчатся и сувенирам из злата – не исключено, и растрогаются…
Даже не будучи силен в арифметике, Молчан живо осознал, переведя из серебряных монет в золотые, что общий размер комиссионных Фоме токмо за шесть прелестниц составит десять золотых солидов, один семиссий в половину солида – тоже золотой, и два милиарисия.
«Дороговаты, однако, таковые расценки! А мне еще платить за ласки и сувениры дарить! Перехожу в режим экономии!» – мудро рассудил сын Земли вятичей, анализируя грядущие внеплановые расходы и твердо определив для себя лимит из трех прелестниц, токмо комиссионные за коих совокупно обойдутся в один солид и два милиарисия.
Тем паче, уже вскорости его судно отправлялось в обратный путь, дабы успеть домой до первых заморозков.
О, сколь простодушен он был тогда, пребывая еще в добродетели, когда брать лишь плотскую константу той!
…Уведомляя о своей таксе, Фома подчеркнул, что оная является неизменной за услуги, оказываемые им любвеобильным иноземцам, и без разницы, кто они.
Всем торговым гостям Константинополя одинаково рад он, отвергая шовинизм, расизм и дискриминацию ЛБГТ!
И откажет токмо упырям, людоедам и вражьим лазутчикам.
При упоминании последних он едва не проткнул Молчана взором особой бдительности, присущей охранникам в сетевых магазинах, а в недавние времена – и вахтерам на входе в общежития при ткацких фабриках.
Однако Молчан, пребывая еще в раздумьях о расходной части сметы неизведанных им удовольствий, и ухом не повел, чем зело огорчил былого разведчика, а ноне – осведомителя на разовых гонорарах.
Все ж пересилил Фома свое разочарование и продолжил, открыв, что никогда не выставляет он лишнего в счет оплаты – из честности своей, праведной.




