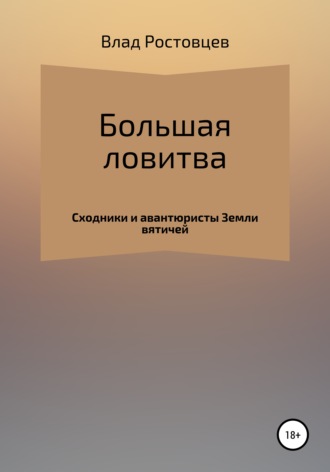 полная версия
полная версияБольшая ловитва
И – миль пардон! – сортиры-афедроны с водным смывом и аналогично бесплатным ненавязчивым сервисом в виде пучков из кустиков, стоявших в емкостях с проточной водой, дабы не засыхали до применения.
А едва Молчан вернулся на свою скамью, сидевший рядом Фома дополнительно просветил его – с патриотической гордостью за цивилизованность Константинополя, даже не снившуюся невежественным варварам, равно и жалким провинциалам собственно ромейского происхождения, кои, строго между нами, та еще кугутня. И открылось приезжему вятичу, что афедроны в ложах для высшей знати оснащены для тех же насущных надобностей специальными веничками повышенной комфортности при использовании!
Впрочем, поводов для памятных удивлений вдосталь хватило у него и в предшествующие пять дней, кои выдались на редкость насыщенными
В первый из них Басалай предложил ему обзорную экскурсию по городу, выступая в роли гида.
Для благородной цели сей Молчан не поскупился нанять экипаж с двумя неспешными мулами в упряжи. Ибо мулов и ослов в миллионном Константинополе-Царьграде, стоявшем, как и Рим, на семи холмах, имелось куда боле, нежели лошадей, а общественный транспорт напрочь отсутствовал в нем.
По оной уважительной причине основная часть горожан передвигалась на своих двоих, осуждающе поглядывая на встреченных приезжих, поелику спесивы были чрез край и премного гордились собой, хотя едва ли половина их происходила из аборигенов сего мегаполиса. Остальные сплошь являлись выходцами из провинции, а изрядная часть нынешних спесивцев и вовсе лишь несколько лет тому прибыла покорять столицу, дабы пробиться в ней, прорасти и преуспеть.
Выехав задолго до полудня, хотя и пришлось дожидаться Басалая, вернулись уже затемно. И многое обозрели, начиная от Золотых ворот с Триумфальной аркой, двигаясь по направлению к Большому императорскому дворцу – обширному комплексу зданий разного функционального назначения, как церемониального, так и делового. Возвращаясь из походов, василевсы, а Ромейская империя владела тогда Египтом, Сирией, Малой Азией, Грецией, Балканами, островами Эгейского моря, Кипром, Критом, частью Закавказья и южным побережьем Таврии, следовали лишь сей дорогой.
Поразился Молчан неимоверной вышине конной статуи императора Юстиниана на столпе, исходящем из огромного беломраморного основания, и грандиозности Храма Святой Софии – Премудрости Божией, возведенного на той же вершине Первого холма.
А внутри оного храма, главнейшего не токмо в Константинополе, а и во всей Ромейской империи, представала, по рассказу Басалая, неописуемая лепота! И осемь порфирных колонн нижнего этажа, и пол, выложенный разноцветными мрамором, порфиром и яшмой, и настенные мозаики, краше коих и не бывает, и колико еще дивного, приводящего в изумление весь иной мир…
Однако, несмотря на посулы Басалая, усердно уговаривавшего его войти внутрь и удостовериться, восхитившись, сколь роскошно там, наотрез отказался! И негодуя на сие предложение, мысленно постановил: «Не заманишь! Не ренегат я, аки ты, предавший родину свою и веру, завещанную предками! Не покривлю пред Стрибогом и Даждьбогом!»
По неведению, Молчан был не вполне прав, касаемо его сопровождающего. Не предавал сей разводчик и нештатный осведомитель чуждого сыска свою родину, будучи послан ей на многолетнее задание, скрытное.
Что до веры, завещанной предками, то ее, за вычетом немногих упорствовавших волхвов, сбежавших в лесную глухомань от репрессий, дружно предали по приказу князя Владимира, отчасти негодуя в душе, все киевляне – не токмо Басалай!
Ибо еще от ветхозаветных времен известно: недовольные массы, обычно зело напрягаются, когда грозят им кнутом, и солидарно разбегаются, едва опустится он со всей надлежащей тяжестью…
По ходу насыщенной экскурсии Басалай просвещал Молчана о нравах и обычаях славной столицы.
Оказалось, что многие горожане среднего, а порой и небольшого достатка обучены грамоте и риторике – искусству красиво излагать; иные, не состоя на государственной службе, либо в ведении эпарха – градоначальника, разбирались и в числах с цифрами. Все, словно один, истово веруют и обильно молятся по любому поводу, а порой и без оного.
А василевс-император выплачивает, ажно и его предшественники, дешевым уличным гетерам Константинополя по четыре серебряных милиарисия в неделю – в два раза больше, чем составляет для рядового столичного жителя, не получавшего никаких доплат, смета недельных расходов на питание.
Молчан сразу же допер, что оное вспомоществование организовано, дабы не оголодали труженицы ночных закоулков и не утратили привлекательности даже у невзыскательных клиентов, включая и чужестранных искателей отзывчивости, располагающих скудной наличностью, а в долг отказывали им.
Однако не смог он взять в толк, чем же столь любезны василевсам именно гетеры, и отчего не достаются подобные соцпособия иным категориям горожан – например, тем же малоимущим клиентам, вожделевшим.
Вслед информации о субсидировании дешевых гетер Басалай хитроумно перевел на профессионалок высокого пошиба.
И тут же заметил, словно вскользь, что способны они опустошить любой кошель, и могут оказаться накладными даже для особливо богатых иноземцев.
Совсем иное дело, ежели торговому гостю из дальних земель, не старше сорока годов, а чем моложе сей, тем еще гожей, повезет встретиться с прелестницей, жаждущей чистой любви, не омраченной недостойной меркантильностью.
Однако сие – редкостная удача в корыстолюбивом Константинополе, и выпадает она не каждому, а токмо по надежной рекомендации!
При небезынтересном уточнении сем обратился Молчан во внимание!
«Что ж он молчит-то, будто трухлявый пень?! Невмочь с таковым работать!» – в сердцах подумал бывалый разводчик-разведчик-осведомитель-толмач-гид. А все ж пересилил себя и продолжил:
– Вем мне один, кто мог бы рекомендацию дать, ведь человек сей – осведомленный и внушающий доверие даже самым неприступным красавицам, понеже чист душой и всем лишь добра желает. Да и тебе он ведом.
Скорбно, что вечор обидел его ты, и пребывает он в горести.
«А Басалай, разумею, во всем един с тем ловкачом-сводником. И даже осведомлен об его горестях: не иначе, встречались они вслед ужина, либо днесь поутру. Чую: одна шайка! Вдвойне настороже буду! Впрочем, послушаю, что он еще наврет», – мигом прокрутил Молчан в своих извилинах. Вслух же справился – в самом недоуменном тоне:
– Явно ты о Фоме баешь. Не огорчал я его! – сам поспешил смыться…
– Да се он для виду токмо! Ведь у Афинаиды той на столе ничего и быть не могло, помимо сладостей и фруктовых соков. А ему хотелось еще кизилового! – хотя бы на дорожку. Ведь не добрал он! Ты же, из добрых, уверен, побуждений, попросту выпер его… Вот и в обиду впал Фома – по лику его приметил, – растолковал Басалай, возрадовавшись, что откликнулся-таки сей неподатливый.
А с главным разводчиком-шаромыжником он и точно встретился поутру, да и все инструкции получил, посему и припоздал к Молчану.
– Стало быть, я неправ был. Однако и впрямь из добрых побуждений, – изобразил Молчан сожаление. – И не соображу, чем исправить оную промашку. А надо бы!
– Ничего и проще нет! Ведь отходчив Фома, честной, а сердце его таково, что в умиление и восторг вышним ангелам!
Вам бы встретиться, и вновь расположится он к тебе…
– Встретиться? Так ведь не ведаю, где найти его!
– Зато я вем! – успокоил Молчана Басалай – И днями доведу до него о намерении твоем.
– Согласен я, – молвил Молчан, раздумчиво. – На пятый день от сего освобожусь от всех забот своих, неотложных, и готовым буду…
– На пятый день? Вряд ли получится. Ведь тогда ристалища будут на Большом ипподроме, с присутствием и самого василевса, а никогда не пропустит такового Фома! Хотя…
Вот что осенило меня сей миг: а не встретиться ли вам на ристалищах? – ты ведь отродясь не видывал подобного чуда.
А Фома тебе все разъяснит – даже не усомняйся!
– На ристалищах? А и вправду любопытно сие!
Договорись с Фомой, пообещав ему от меня, что вслед ипподрому упою его кизиловым, раз столь любезно оно его утробе.
И заверил Басалай, что в точности исполнит…
Следующие три дня Молчан провел в компании с Никетосом, коей, ради драгого гостя, презрел, как и пообещал в таверне, даже собственную торговлю.
Так и узнал Молчан все лучшие торговые точки не токмо на выложенной каменными плитами улице Меса, означавший для Константинополя примерно то же, что и Невский проспект для Петербурга, а и в проулках, примыкающих к ней. И неподдельно обрадовался он, эмиссар от Путяты, одному из них! – ведь именно в нем таился, под личиной сапожника-кустаря, резидент Секретной службы вятичей в столице Ромейской империи.
По ходу закупился он подарками для Доброгневы, родителей и малого…
На третий день с Никетосом, по вечернему возвращению к подворью, недалече от церкви мученика Маманта, где ночевал Молчан, да и все купцы от вятичей останавливались лишь там, их поджидал Басалай.
И уведомил оный, что Фома завтра будет рад Молчану, и предлагает, когда и где встретиться, дабы уже оттуда направиться к ипподрому на повозке.
А наутро встретились они, обоюдно изобразив радость.
И уже вскоре Молчан солидаризовался с атмосферой массового ажиотажа, перемежаемого ликованием одних и унынием других.
Меж тем, сколь ни бушевали на трибунах страсти, являемые представителями двух главных фанатских группировок – венетов (голубых) и прасинов (зеленых), никогда не вспыхивали там файеры, знаменуя очередную победу над органами досмотра на входе!
Понеже, в разительное отличие от особливо пылких и рьяных футбольных болельщиков обоего пола, решительно никто из ущербных по части романтики жителей Константинополя, равно и состоящих во браке жительниц, коим дозволялось проходить на ипподром токмо с разрешения их мужей, не испытывал хронической тяги к скрытному проносу в своих естественных полостях пиротехнических изделий сих, заключенных, из благих соображений предохранения, в латексные контрацептивы…
XV
Чем слаще надежды, тем горше их крушение!
Когда потемнело, и настал час первых звезд, Молчан ожидал исполнения обещанного, пребывая в настроении, дальнем от недавнего.
Как и ни бывало прежнего азарта от любопытства. А осознание, что недалек первый бой его, пришло со всей очевидностью. И стало не по себе…
Ехал он на тура, весь в запале от грядущего подвига ловчего, а получилось: подвел его Путята совсем на иное!
Не из пугливых был Молчан, отнюдь. Однако старший родич явно сводил счеты со своим ворогом и хитроумно втянул младшего.
А в чужих разборках не бывает тяги к собственному геройству! Не понимал он смысла и уже не видел цели.
Не станет же чудо-зверь пастись в сторонке, терпеливо дожидаясь, пока закончат с Булгаком сим и примутся за него!
Накрылись рога! – очевидно сие. Зря добирался в такую даль!
Тут он к месту вспомнил о манках, используемых охотниками при промысле зверя и птицы во время их гона, когда всякий самец, заслышав призыв самки, напрочь теряет осторожность, вожделея, и становится легкой добычей. Кого токмо не брал на обман сам Молчан! – и пернатых, и копытных, и когтистых, и клыкастых.
А что ноне? Его, вожделевшего сразиться с туром, Путята выманил из городища как несмышленого отрока. «На каждую дичь свой умелец. Нашелся и на меня манок!» – вывел Молчан с безусловной досадой и на себя, и на старшего своего родича.
И как охотиться на тех, завтрашних, коих явно выманил тот же Путята? Не волки ведь, повадившиеся резать домашний скот!
Что сделали они ему, даже и тот Булгак, отродясь не виденный им?
Вслед припомнилось ему, что единственный у родителей: ни братьев у него, ни сестер. Одинец! – точно сей тур.
Еще мальцом невольно услышал он из шумного разговора двух поселянок, товарок его матушки, и врезалось ему в память навсегда: «Бояну-то сколь жаль! Боле не будет у них с Добромиром детишек. И не выпучивай на мя зенки! Знаю, что говорю, хотя и молчала с тобой допрежь! Когда была она второй раз в тягости, подняла, не подумав, дежу с тестом, да и надсадилась…».
«А завтра, неровен час, сам могу пасть, ежели не уберегусь от стрелы либо меча. И останутся они одни… Им-то за что сие?!» – подумал Молчан, все более проникаясь неприязнью к тому, кто столь хитер.
– И двуличен к тому ж! – невольное высказалось вслух, в сердцах.
…– Вижу, меньшой, не терпится тебе выведать у меня, – благодушно сказал старший родич, основательно устроившись на пне. – Не ожидай великих тайн раскрытия. О чем могу, поведаю, а нет – не посетуй!
«Уже и не ожидаю я!», – подумал Молчан, вовсе не испытывая былого душевного расположения к рассказчику, однако не прерывать же его, когда сам и напросился.
– Ты справлялся, кто были сии конные. Отвечу: ближние люди тиуна Булгака, одного из начальствующих в Чернигове. Лютый враг он Земли вятичей, замышляя супротив нее, колико может! И немало достойных захватил и умучил, – продолжил Путята, не приводя конкретики. – Знаю его, считай, половину своей жизни и даже чуть боле – всегда он злодеем был!
– А откуда он взялся, аще столь нехорош? – без особого желания справился Молчан, сильно подозревая, что изобличитель злодея – сам далеко не праведник в скрытной части своего бытия.
– Происходит Булгак из дальних родичей варяга Ивора, прибывшего в Киев еще с Олегом, порешившим тогдашних правителей сего града. Как сказывали мне знающие люди некие, кои осведомлены обо всех и о каждом, Ивор, тогда еще младой, был в таковом доверии у Олега, что даже плыл с ним в Киев в одной ладье. Потом и князю Игорю успел послужить, а вслед за ним – дети его заступили.
Однако старший его сын, Стир, впал в опалу при вдовой княгине Ольге, знавшей о шашнях покойного Игоря с женой Стира Усладой, и заподозрившей, что пособничал он сему.
Отлученный от старшей дружины, Стир скоро утратил былое величие свое. Опала ударила и по всему его потомству – даже и по прямой линии, не говоря об окольных. И Булгак вступил в юность, немногое имея, опричь дерзости, всегда ему присущей.
«Ну, родич, постыдился бы! Зачем мне таковая речь? – долгая и пустая. Чую: петляешь, ажно заяц, и след путаешь!» – вывел Молчан. Вслух же молвил иначе:
– Любопытно сколь! А когда ты впервой повстречался со злодеем тем?
– Еще в Чернигове. Град сей был в ту пору таков, что и Киеву не уступал числом и богатством. При том, что Киев, весь деревянный, неказист супротив даже пригородов Царьграда, а в сравнении с ним самим – явно ничтожен.
Представь: в Чернигове видел я кумиров Перуна и Даждьбога, отлитых из злата. Меж тем в Киеве, на главном капище, даже Перун стоял деревянным, а из злата только усы были. А почему? Скаредные правят в Киеве! – токмо себе гребут.
Однако запомни: Днепр у Киева шире, неже Десна у Чернигова. А чья вкуснее рыба – из днепровских вод либо деснинских, сразу и не ответишь: тут надобно основательно прикинуть…
Молчан живо осознал, что его старший родич ставит преизбыточно замысловатые петли, кои превосходят даже заячьи. И попытался выправить положение, поскорее закончив с Булгаком.
– Родич, – вопросил он с предельной почтительностью в голосе, выражавшей полное удовлетворение уже услышанным. – А в Киеве-то что было?
Однако не поддался Путята, не оплошал! Зане разведчик (есть таковая профессия – промышлять иноземные секреты, в разительное отличие от контрразведчика, промышляющего секреты собственных граждан, а порой и тайники, где в качестве закладок таятся шпионы из ближнего и дальнего зарубежья) суть пожизненный конспиратор до своего смертного вздоха.
И продолжил он:
– О Киеве еще успеется! А вот в Чернигове особливо запомнил я окольный град с мастерами ремесел разных и торговцами, равно и детинец, окруженный глубоким рвом, а за ним – земляным валом с деревянной стеной.
Детинец тот имел три въезда. Я же, входя в него, всегда шел чрез Погорелые ворота – двумя иными были Водные и Киевские.
Тут и столкнулся я с Булгаком впервые, сверстники мы.
И сразу же он наступил мне на лапоть. Предполагаю: по злобе! Допускаю и рассеянность…
Ты токмо представь, во что был обут он. В юфтевые сапоги из толстой кожи! А ведь состоя младшим челядинцем при дворе черниговского воеводы, Булгак, во избежание излишнего износа, не имел права носить таковых за пределами оного двора.
Вот оно, небрежение к высшим чинам!
Вот где смута таится!
Добавлю: есть предположение у меня, что на те сапоги пошла шкура яловой коровы, и стала она юфтевой.
Здесь я, заметь, молвил о коже, выделанной из шкуры, а вовсе не о самой корове, коя, возможно, и телкой была, быком отвергнутой, однако не утаю: доподлинно не ведаю сего, и не провижу.
И чем старше становился Булгак, наглости в нем лишь прибывало…
«Не простил Путята за скрамасакс, – пришел Молчан к твердому выводу. – Счеты сводит! Издевается!».
И впервые в жизни захотелось ему огреть своего старшего родича чем-нибудь увесистым.
Впрочем, отходить ко сну было еще рано, а занять себя – решительно нечем. Не бродить же по лесу в темноте с риском напороться на что-нибудь либо споткнуться, раскровенив лик. Лучше уж Путята, лицемерный!
– Все же, разумею я, однажды ты все ж добрался до Киева – сам о том рассказывал, и не раз. А в княжьи ловчие каковым образом попал? Токмо прошу: не примешивай впредь сапогов с лаптями, – высказал Молчан, намеренно не скрывая своего раздражения от путятиных ехидств.
Сообразив, что хватил лишку и перегнул, Путята решил несколько приоткрыться и наделить Молчана некоей информацией спорной ценности:
– Не сразу, а погодя, добился я того места.
Желающих имелось много, и все с ходатайствами от не последних в Киеве людей. И за меня замолвлено было слово, не припоминаю уж, кем…
«Не припоминает он! Опять кривда!» – поморщился в душе Молчан, досадуя на старшего родича, лживого…
XVI
… – Испытывали каждого, на что он горазд в лесу и в поле. И все старались, сколь могли, доказывая свою пригодность к ловитве.
Били влет диких гусей, хаживали на вепрей, брали на рогатину притравленных медведей, когда их с цепи отпускали, скрадывали глухарей и тетеревов, ставили капканы – всего и не сосчитать.
О турах, понятно, не велось речи: сей зверь и тогда был редок. И токмо самым достойным из старшей ловчей охоты доверялось сопровождать князя при его выездах на тура с дружинниками. А набирали тогда в младшую, да и то под начало бывалых и сведущих.
Раз от раза оставалось все меньше из тех, кто вожделел быть принятым. И все боле множились те, кто испустил дух допрежь отмеренного срока.
Кого-то кабан на клыки поднял.
Кого-то медведь задрал, когда соскочила с упора рогатина.
Некий из нас пал с древа – вместе с ветвью, на коей стоял, хоронясь от оленей.
Двое не дожили до зари, перевернувшись в лодке на гусиной охоте. Ведь подгребая к спящей стае, плавать они не умели…
Не досчитались и загонщика Новика, тоже из числа вожделевших в малую охоту, когда двое из соискателей целили в косуль, выгнанных, проходя положенные им испытания.
Сам определенный в тот день в загонщики и перебегая рядом, видел я, как воткнулась в его злосчастный пуп каленая стрела, дойдя до самого хребта сквозь утробу.
Сильно удивился, помню, таковому непостижимому промаху. Вслед же подумал: «А ведь не заторопись он, за миг до стрелы, обегая зачем-то меня, иное было б! Не мне ль предназначалось?»
Случались потери и среди начальствующих, надзиравших за нами и отвечавших за отбор лучших из лучших.
Вовек не запамятую скорбный случай, когда один из отстающих в наших рядах изготовил ямную ловушку с острыми кольями на дне, утаив ее от звериного догляда. Однако вместо зверя не доглядел проверявший сего ловчий-экзаменатор, именем Бахарь, перебрав накануне медового напитка особой крепости, и знатной была тризна!
Помню и иные утраты, скорбные, когда и сам не вем, отчего они…
«Чую, мутнеет в главе моей. Тут бы не повредиться разумом!» – ощутил Молчан, ибо не растрогала его, жестокосердного, трагическая судьба бывалого ловчего, не смотревшего под ноги, мучаясь тяжким похмельем. Зато окрепло в нем желание что-нибудь повредить своему старшему родичу!
И превозмогая позыв сей, чреватый, не учтиво воззвал он к Путяте:
– Да тебя-то с чего приняли? Откройся! Уж моченьки у меня нет!
– Я лишь и делаю, что открываюсь! – возразил сугубо конспиративный Путята, осознавая меж тем, что Молчан и прав, отчасти.
– Не хочешь в подробностях, будь по твоей воле. Жаль мне тебя: многое теряешь по нерадивости своей! Однако не стану спорить, и продолжу.
Однажды затребовал меня ловчий Вторак, заменивший Бахаря, неосмотрительно усопшего на кольях, громко крича пред тем. А накануне была тризна, на кою никого из нас не призвали, разрешив лишь наблюдать издали. И все мы премного горевали, ощущая скорбь великую! Ведь на поминальном пиру насыщались лучшими яствами, а нам достались токмо запахи смачные.
И наказал он:
– Хмара! Днесь же идешь на оленя, а я, в отдалении, следом. Запрещаю применять лук, когда подберешься! – изловчись, и добудь иначе. Ведь придется надзирать за тобой, пусть и в сторонке. А знаю уже, как вы, юнцы бестолковые, целя в дичь, попадаете в себе подобных.
И про вашу копку смертных ям старшим, тоже осведомлен. Не хочу осиротить детей своих из-за всякого остолопа!
«Ага! Он пребывал в Киеве ажно Хмара. Проговорился! Уже интересно! Раззадорю-ка его: вдруг и на иную оплошку сподобится?» – оживился Молчан. И спросил, изображая полное равнодушие, для убедительности зевнув:
– Смекаю, что до оленя ты добирался, когда его выслеживал, против ветра, за деревами таясь и кустами, не допуская и малейшего шороха. Не усматриваю здесь особливой доблести. Сие и я умею. И почитая тебя, скажу: нечему тут хвалиться!
– А взять оленя, обойдясь без лука, тоже сумеешь? – нервно отреагировал Путята, усмотрев покушение на свою охотничью славу.
– Ежели на спор, полагаю: сумею. Хотя и не пробовал. Ведь на охоту хожу по своей воле, а не то, что ты, подневольный, коему и лук запретили!
Прикажи мне подобное, сказал бы я тому трусоватому ловчему все, что думаю о нем, потом бы и еще прибавил.
Непреложно зрю: для тебя проникнуть на службу в княжью охоту превыше было собственной гордости!
А ведь сам говорил, и не раз, сколь противны тебе киевские князья. Уж извиняй, не понимаю сего!
Замышленный выпад осмьнадцатилетнего младшего родича оказался столь прицельным, что Путята, быв на тридесять лет старше, аж поперхнулся.
«Сейчас он и раскроется», – прикинул Молчан, весь в предвкушении.
Увы! Случилось то, чего он вовсе не ожидал. Нежданно-негаданно Путята расхохотался в голос и не сразу остановился. И лишь погодя высказал:
– А хитрее ты, чем предполагал я. Хвалю! Подлинно хорош!
Меня, лисовина старого, чуть не вовлек в соблазн сказануть в запале лишнее, аки намедни. При том, что не обучали тебя сокровенному таинству выведывать…
Когда высмеял меч мой, и проговорился я, то не разглядел твоего коварства. Не заподозрил! Подумал: нечаянно у тебя вышло. Хотя и взяла меня досада крепкая.
А ты вон каков! Зрю: ежели основательно подготовить тебя, был бы способен и на двуногих зверей охотиться, не токмо на лесную дичь.
Однако не напрягайся: вовлекать – не стану. Поберегу. Ведь привязан к тебе, точно к сыну! Поможешь назавтра, отпущу тя с благодарностью…
XVII
Когда в осьмом, последнем заезде дня, все четыре квадриги выкатывали на финиш, завершая седьмой скаковой круг, Фома – преклонных годов, оторвав седалище от скамьи и вскочив, завопил столь истошно, что Молчану, возрастом двадесять седмь, стало неловко от подобного моветона.
«Даже кабанчики столь не орут, когда неумело холостят их!» – подумал он в раздражении, – Зря сострадал ему!»
Причина сострадания торгового гостя из Земли вятичей к ромейскому скрибу, а предположительно, и своднику, проистекала из его осведомленности в неких, чисто житейских, форс-мажорах.
Единожды по ходу утренних заездов и дважды – по ходу послеобеденных, Фома стремительно покидал свое сиденье, мраморное, и резво спешил к проходу, затем спускался – по направлению к местам срочного и досрочного отдохновения, а вслед и не уследить было за ним…
Возвращался раскрасневшимся и молчаливым.
«Не иначе, мается пузом. Эко прохватило его: никак не отпустит! Временно прощу прощелыгу, хотя и тщился втюхать мне некондиционую Афинаиду. Не до сведения старых счетов, когда у противника свело потроха!», – рассудил сердобольный Молчан, когда Фома отправился в свой третий забег.
Сколь ошибался он по неведению! Косоглазый скриб гонял вниз, дабы успеть сделать до начала заезда ставку у нелегального букмекера, а вовсе не по причине желудочно-кишечных невзгод.
Ведь завзятым игроком был, и просаживал на ипподроме все накопления свои от разводок и разовых выплат за тайные доносы. Не посягал лишь на должностное жалование, ведь надобно же на что-то кормиться!




