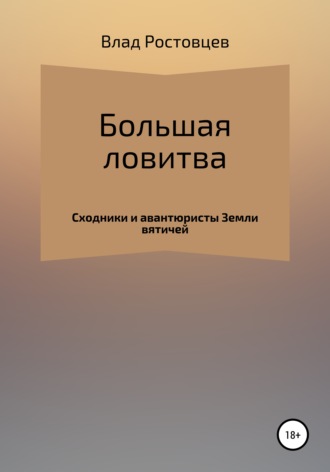 полная версия
полная версияБольшая ловитва
Молчан уж подумывал, не предложить ли себя на подмену одному из дозорных, да вовремя осознал: он ни за что не согласится из опаски перед Путятой, а сам тот придет в ярость, узнав о молчановом самовольстве. И лишь, под утро, когда уже и дозорные поменялись, изловчился-таки заснуть на лапнике.
Разбудил его Путята:
– Вставай, засоня! Да осторожнее! – про ногу-то десную не забудь.
И добавил самым безмятежным тоном, будто добрая мать обращается к своему чуть набедокурившему несмышленышу, пребывая в замечательном расположении духа:
– Ты, припоминаю я, о туре меня вопрошал? Так он уже пасется.
Где?! И затрепетал Молчан весь!
– Подойди к опушке, и сам узришь, – присоветовал Путята, доподлинно понимая чувства, переполнившие Молчана.
Тур пасся вдали, у кромки другой стороны поля, пощипывая свежие побеги дерев, но примерялся и к кустарникам на опушке.
– Он поначалу листвой подкрепляется. Потом траву уминать начнет, – пояснил старший родич. – Однако глянь, сколь хорош!
Чудо-зверь был и в самом деле дивно хорош – могучий, отъевшийся, весь черный, хотя белая полоса на хребтине, о коей рассказывал Путята, не проглядывалась издали. И явно пребывал в добром настроении, неторопливо помахивая длинным хвостом и похлопывая им по крупу. Похоже, отгонял слепней-кровососов.
А рога! Издали они напоминали два преогромных серпа, нацеленных друг на друга. Вот бы заручиться хоть одним таковым!
–Ну, будет! – сказал Путята изрядно погодя. – Успеешь насмотреться, когда он поближе подойдет. Пора перекусить с утра, да доспехи примерить и проверить оружие. Заодно и лук свой наново испытаешь в деле…
Ближе к вечеру непременно прибудут соглядатаи от наших недругов: высмотреть, на месте ли тур, и нет ли кого поблизости.
– А недруги наши, кто они? – не утерпел справиться Молчан.
– Еже отъедут обратно, и все ладно будет, тогда и расскажу! А то, примечаю, ты уж извелся весь…
XII
– Непонятно, ибо пришлый ты, – вразумил Басалая злокозненный, как и тот, шельмец, официально состоящий канцелярским клерком на самых нижних ступеньках ромейской должностной лестницы. – И не укорю, что не ведаешь наших сокровенных обычаев.
Тобой же, Никетос, истинно возмущаюсь я! Ведь обязан знать, сколь соблюдают юницы наши из благородных сословий чистоту свою, добрачную, и дорожат ей, превыше всего на свете! А брачуются порой в тринадесять и даже в двенадесять.
В термы же высших разрядов водят их – под неусыпным присмотром, особливо проверенные служанки, и никого там не подпустят, сколь ни посули.
Уже на входе сии юницы начинают стыдиться грядущего омовения!
И даже париться дозволяют себе токмо в хитонах!
А Афинаида бдит о себе и того строже: уж пять лет и в термы не ходит, даже в любимые ей допрежь Влахернские! – из предосторожности, что покусятся на нее в купальне…
«Се зря она!» – мысленно не одобрил Молчан оной опаски, живо представив ее последствия.
И заметив, что не восхитился тот рационалист, сугубый, долговременным табу на телесную чистоту, бездуховную, во имя соблюдения одухотворенной – добрачной, Фома разом допер о причине и мигом откорректировал -с присущей ромеям велеречивостью:
– Ведь моется Афинаида лишь дома – в деревянной ванне своей, девичьей. В пример всем иным, честь блюдущим, таковое!
И мысленно оспорил Молчан данный тезис, рассудив, что соблюдать гигиеническую честь куда надежнее в той же бане – попарясь и ополоснувшись.
– Согласен я, и винюсь! – подал голос Никетос, якобы устыдившись.
– Справедливо сие, – не отмолчался и Басалай на подпевках.
Однако Молчан, оправдывая и за сим столом знаковость своего имени, продолжал упорно хранить безмолвие, приводя уже в озлобление трех неугомонных разводчиков.
«Экий чурбан! – в сердцах осмыслил Фома. – Ничем его не пронять! Явно не дев вожделеет, а матерых блудниц! Быть по сему! Получит он таковых! – и обойдутся ему еще дороже, чем ложная непорочность…».
Ведь оный закоперщик сей разводки изначально замышлял подсунуть Молчану многократно апробированную мужами деву, за мнимо порушенную невинность коей взыскивал с доверчивых дуралеев уже четвертый год кряду.
Понеже гименопластика – нередко и многократная, втайне практиковалась особо умелыми восстановителями – по конспиративным обращениям к ним, на протяжении многих веков, задолго до второй половины двадцатого.
Насчет же влечения потенциального клиента токмо к блудницам Фома был частично неправ, исходя из того, что таковы обычно все приезжающие в Константинополь, увлекаемые дурной его репутацией, аки неразумные мотыльки – светом.
Однако Молчан представлял в тот момент скорее исключение, нежели правило, ведь еще не капитулировала в нем добродетель пред пороком, и уподобился он типовым греховодникам на стороне лишь седмь дней спустя.
Причина, по коей редкий гость Константинополя оставался морально устойчивым, не хуже евнухов, напрочь равнодушных к прелестницам, являлась самой простой!
Сей просвещенный град – тогдашний центр всего цивилизованного мира, был известен далеко за его пределами – от Англии до Китая и от Скандинавии до Черной Африки – потаенным предпочтением постыдного над стерильным, а плотского над духовным, легальными и нелегальными борделями, и широким спектром замысловатых утех, вплоть до совсем уж нетрадиционных девиаций. И зело впечатлял странников и торговых гостей ассортиментом интимных услуг на любые вкусы!
Хотя надлежит признать, что на душу населения штатных учреждений мужского отдохновения приходилось в миллионной столице все же меньше, чем в Помпеях, погребенных под вулканическим пеплом еще в 79-м.
Там – на 20 тысяч населения обоего пола, включая женщин, стариков и детей, приходилось более 30 лупанариев – с оказанием услуг по пяти секс-векторам, и выходило примерно по лупанарию на каждые три с гаком сотни благородных помпейских мужей, без учета свободных художниц, промышлявших жаждавших ласки клиентов, не затрудняясь положенной регистрацией и платой налогов в муниципальную казну.
А все же Фома, настырный, решил зайти в четвертый раз, напрягая всю изобретательность свою и импровизируя на ходу!
И огласил он причину нравственной стойкости внучки его вымышленного старшего брата.
Оказалось, что Афинаида, отвергшая термы с купальней, ради личной ванны, деревянной, претерпела в пятнадесять девических лет кручину повышенной скорбности!
Здесь и умолк он, интригуя слушателей о роковых подробностях – во всей полноте их, горестной.
И вдруг воззвал к Молчану, совокупно простирая к нему десницу и шуйцу:
– Любезный и щедрый торговый гость, младой: откройся мне, выбеленному уже сединами не токмо на главе: вкушал ли ты доселе фрукты, именуемые персиками?
И не оскорбись за вопрос мой, недопустимо дерзкий, ведь когда решается судьба внучки старшего брата моего, не мог удержаться я…
Тут не один Молчан оторопел!
От столь замысловатого и неожиданного для них захода выпучили зенки даже подельники главного разводчика, не ведая, как и встрянуть, дабы выразить надлежащую солидарность.
– Так вкушал ты их, аль нет?! – с явным надрывом вновь справился Фома, отчетливо смахивая пошлой мелодраматичностью интонации на некоего темнокожего ревнивца, бестактно любопытствовавшего у своей Дездемоны, молилась ли она на ночь, пред тем, как собственноручно упокоить ее, а вслед, свершив преступный самосуд по-мавритански, наложившего руце уже на себя.
– Не сподобился еще, – отверз-таки уста свои Молчан, продолжая недоумевать.
О небеса! О радость, всех моих надежд превыше! Ликуй, Афинаида! – вскричал Фома, изобразив эмоциональное возбуждение на грани уже экстаза.
Однако получилось натужно и фальшиво! И Молчан, еще исполненный в тот вечер должного бдения, заподозрил возможную каверзу. Да и подельники самодеятельного актера не выразили ожидаемого им восторга.
Живо осознав, что пережал с ложным пафосом и переиграл, Фома-импровизатор тут же обратился к предыстории несчастий некогда гламурной Афинаиды.
Всего за три дня до брачного обряда, когда уж изготовилась она впервые предаться объятьям своего возлюбленного и удостовериться, правдивы ли старшие подруги, рассказывавшие о действии сем с неподдельным восторгом, жених сей трагически усоп в одночасье! Ибо, рьяно уплетая персики, до коих был неизменно охоч, не удержал, чрезмерно увлекшись, косточку во рту, обсасывая ее и не успев выплюнуть, и соскользнула та с языка его, провалившись в дыхательное горло. Перекрыла ему дыхательные пути, а рядом никого не оказалось!
А едва подоспели на истошный кашель его, перемежаемый гулкими хрипами, уж отходил он, испуская дух от удушья…
Так и откинулся в канун брачного ложа жених прекрасной Афинаиды, именем Полиевкт, означающим «вожделенный». И возненавидела она персики! И поклялась: до скончания дней своих не вожделеть их ни ртом, ни чревом, ни еще чем-либо, и даже думать запретила себе об оных косточковых фруктах!
Был и еще зарок. Афинаида твердо решила: никогда не общаться с теми, ранее незнакомыми ей молодцами, кои хоть единожды употребляли персики!
Аще ж отважится она вступить в брачные узы, либо лишь познакомиться на предмет возможного сближения впредь, однако исключительно в одеждах, равно и сапожках, и под непременным надзором кого-то из старших родичей своих мужского пола, то лишь с тем, кому их вкус вовсе не ведом от рождения!
– Вот и представь себе, любезный и щедрый торговый гость, младой, каковое ликование испытал я, признание твое услышав! – проникновенно и эмоционально молвил Фома, все же убавив в пафосе. – Ведь извелись все родственные Афинаиде и ближние ее в пятилетних поисках счастливца, отродясь не прикасавшегося к роковому для Полиевкта фрукта. А вдруг ты предстал!
Не иначе, се – знак от судеб, вышних!
И подумалось мне – уж не укори за мою открытость: сколь любо познакомиться вам, дабы хоть ненамного оттаяла Афинаида сердцем, душой и плотью своей, возвышенной!
Понятно, что предполагаю сие, остерегаясь от лживых перетолков, не в ее жилище, а в ином, и в моем первоначальном присутствии как стража и опекуна. Однако, из вящего доверия к тебе, рискнул бы покинуть вас, удостоверившись во взаимной симпатии …
– Ага! Вон он куда завел! – окончательно прозрел Молчан в своих мыслях от подобного предложения, лукавого. – Сводник сей, а не скриб!
И сомнительна непорочность оной Афинаиды, ибо излагал Басалай, что зело сведущ Фома о закоулках с самой выгодной арендой помещений для ночных утех. А ведь выдает себя за стража девичьей чести и опекуна! Явная кривда! Мня, что доверюсь ему, не за того меня держит!
Да и не зарюсь на ее целомудрие, ежели и сохранено оно, в чем вельми сомневаюсь. Даром не нужно мне! Не за тем я в Царьград послан!
И решив категорически пресечь прения, подрубив их на корню, славный сын Земли вятичей, еще не утративший тогда проницательности и бдительности, поднялся от стола, и зримо прихмурившись, высказал коварному Фоме с печалью в гласе, рассудив, что лжа на лжу будет праведной:
– Обеспокоен я и тревожусь, что заждались тебя, поди, внучка твоего брата и гости ее, приглашенные на праздничный пир. А ты, по доброте своей и радушию, растрачиваешь на нас их томление.
Негоже сие! Невмочь мне принять таковую жертву, великую!
А посему отпускаю тебя к непорочной Афинаиде, дабы не горевала она, что задерживаешься. Скорблю, что не доведется мне увидеться с ней и предаться полному счастью!
Ибо токмо что вспомнил: все ж преступил я с пятью персиками дозволенное, и стал нечист пред ее зароком! Ведь еже наше судно приближалось к гавани, еще не став на якорь, подплыли на лодках торговцы теми фруктами, недостойными. Тут и поддался я ложному зову чрева, ведь согласились они принять в оплату наши резаны, хотя и втридорога содрали за свою продажу.
Ступай, ни о чем ни печалясь! Верую: еще свидимся …
XIII
Самый богатый доспех – из неимоверного числа сплетенных железных колечек, был, как и подобало, у Путяты.
Короткий рукав, в длину рамен, стыковался с металлическими наручами из двух сильно изогнутых пластин – червеца и локотника, защищавшими от кисти до локтя.
Остальным достались пластинчатые брони, крепившиеся на завязках, из связанных между собой и наложенных друг на друга металлических пластин.
Рознились и щиты. У Путяты и Берендея – массивные, каплевидной формы, обитые железом и оснащенные креплениями для плечевых ремней.
У прочих – небольшие и округлые из обтянутых кожей плоских деревянных дощечек, соединенных в целое.
Понятно, во многом не совпадало и оружие.
В личный арсенал Путяты входили: сабля – трофей от битых им печенегов, наносившая, не в пример мечам, резаные раны, чреватые необратимой кровопотерей, тот самый скрамасакс и копье с длинным и широким пером, пронзавшим насквозь.
У Молчана – охотничий лук, три сулицы, боевой топорик, подсапожный нож. Четверо располагали таковым же снаряжением ратным, однако луки у них были боевыми.
Младший родич легко сообразил, почему у Путяты ни лука нет, ни сулиц: не для начальствующих они, да и бесполезны без постоянных упражнений. Сам Молчан умел колоть токмо сулицей, а рубить – топориком, привычный к этому еще с отрочества, когда старшие в городищах и селищах вятичей исподволь обучали меньших.
Не удержавшись, полюбопытствовал он, зачем потребны старшему родичу его два оружия, схожих.
– Затем, что саблю отвожу для рубящего удара, а скрамасакс оставляю для колющего, что немногим с мечом доступно. В бою резвы у меня обе длани сразу: рублю с десницы, а колю с шуйцы. И несладко любому ворогу супротив меня! А придется, обойдусь и без сабли: рубить я и скрамасаксом ловок!
На особицу оказался Берендей, коему даже Путята, превосходивший чуть ли не на вершок изрядно рослого Молчана, изрядно уступал ввысь, а вширь – и говорить не о чем! Главное его оружие представляла палица из древесного комля с массивным навершием, укрепленным металлическим обручем с шипами. Оснащена она была и ремешком, дабы надежнее держалась в деснице при ударе, а при надобности приторачивалась к седлу. И размерами впечатляла боле, нежели даже габариты самого Берендея. Увидев, как ловко богатырь ухватил ее, убойную, Молчан чуток оторопел.
– Чего раззявился? Он сей палицей вогнет любой шлем – был ворог, и нет его! Щиты, ежели без бляхи-накладки он, как орехи раскалывает! – прыснул смешливый Путята – И цены ему не сыскать, ежели втрое убавит глас. А то, едва слово скажет, даже кони его встают на дыбы с перепугу.
Помимо палицы, изничтожавшей щиты и шлемы, Берендей был вооружен копьем – еще длиннее, чем у Путяты, засапожным ножом, отнюдь не короче путятиного скрамасакса, и обошелся без сулиц.
Меж тем, главным оружием вятичей той поры являлись именно сулицы – дротики с массивными железными наконечниками, короче и легче копья, однако длиннее и тяжелее стрелы из большого лука, а с ними и боевые топорики. Конструкция их позволяла и ударить, словно копьем, и метнуть, ровно стрелу особой убойной силы.
Особенно хороши они были в лесном бою и в болотистой местности, где имели явное преимущество над тяжеловооруженным противником.
…Приспела пора и для перепроверки Молчана-лучника.
– Соблюдай болящую ногу! Ступай осторожно, не дергаясь. Дозволяю пустить три стрелы. Ежели попадешь, дозволю и боле, – распорядился Путята. И задумался вслед, каковую мишень поставить.
Тут же и ухмыльнулся:
– Шуй, сымай свой колпак! Целить в него будут!
Сей Шуй, а у него и рабочей была шуйца, явно огорчился вслед. Да и кого б обрадовало, что именно твою собственность, а не чью другую, попусту издырявят, якоже решето.
– Не зрю я радости во взоре, – лицемерно изрек Путята, потешаясь в душе. – Огорчил ты меня. Не радеешь о деле общем! Сегодня колпак пожалел, а завтра ворога пощадишь. Постыдился б! Однако пред боем буду ласков: может, еще исправишься. Бери на замену пустую торбу, где были доспех мой и шлем, да не забудь завязку к ней. Иди вдоль опушки и остановишься, когда крикну.
Шуй отошел уж не близко, когда Путята крикнул ему и обозначил, где подвесить торбу на нижнюю ветвь ясеня – от земли до нее было примерно в рост Берендея. Едва Шуй укрепил, спрыгнул и торопливо отошел, Путята, посерьезнев, обратился к Молчану: «Вот и цель твоя. Бери по самому верху – получится, будто в конного метишь».
«А ведь у меня и лук из ясеня», – подумал Молчан. – Чую, к удаче сие!» Многие охотничьи луки в городище выполняли из ясеня за упругость и прочность его древесины.
Осталось приладить тетиву из сыромятной кожи, натянуть ее, прицелиться и выпустить стрелу, извлеченную из тула.
По совету Путяты, Молчан взял в дорогу стрелы с железными наконечниками, однако немного их было – ровно по числу перстов на дланях. Ведь приобретались у прижимистого Домослава, а тот завсегда норовил втридорога. И однажды потребовал у совсем еще юного Молчана, в расчете на его наивность, векшу за железный наконечник! Ано не поддался Молчан на хитрость ту и сторговал векшу за три наконечника.
Да и не нуждался он в большом числе таковых. Его основным лесным промыслом являлись тогда мелкие пушные звери, а для них куда боле подходили томары стрельные – с кусочком кожи вместо острия на конце стрелы. Томары не портили шкурку и не втыкались в дерево. Да и тратиться было незачем! – их изготавливал сам Молчан. Хотя, уходя в лес, отнюдьне забывал он взять пару-тройку стрел с наконечниками от Домослава – на случай встречи с зайцами, лисой иль тетеревом.
Впрочем, на всякий случай, он осведомился у Путяты в канун отъезда, не маловато для охоты тура. Однако многоопытный старший родич успокоил его:
– При меткости твоей еще и останется.
И наказал:
– Три со срезнями возьми! Попадешь ими в брюхо тура, он скорее истечет рудой.
Меткость не подвела Молчана и на сей раз! Стрелы не токмо застряли, покачиваясь, в самом верху торбы, продырявив ее насквозь, а и оказались вплотную, словно пучком.
– Ай, молодец! – непритворно возрадовался Путята. – Ежели так, бери еще три.
Молчан извлек из тула первую из трех. «Ну, родич, держись! – подумал он. – Такового еще не показывал тебе. Что потом скажешь?»
И выпустив стрелу, но не в сторону ясеня, а прямо над собой, выхватил и послал вторую, поразив ею оперение первой, уже падавшей. А незамедлительно пущенная вслед третья подбила вторую, бывшую уже на излете.
– Нос-то не задирай! Видывал я, как и боле стрел подряд сбивали, – отреагировал Путята после некоторой заминки. – Однако умалять тебя не стану. И даже стрелы твои подыму, дабы не наклонялся ты с такой-то ногой, а дальние – Шуй поднесет. Хорошо б твоему колену залечиться к сроку: позарез ты мне нужен в седле! Отличишься, будет тебе турий рог: мое слово – твердое!
«Ежели так, я и на одной ноге в седло запрыгну!» – возликовал Молчан, легко простив родичу его подколку о лучших, нежели он, стрелках. И представил заветный рог в своей деснице…
Ближе к вечеру с вышины развесистого дуба, стоявшего недалече от того ясеня, разлилась переливчатая трель в несколько колен.
Сызмальства привязчивый к виртуозному птичьему пению, Молчан обратился к старшему родичу, дабы и тот разделил его чувства:
– До чего ж хорош соловушка! – прямо заливается.
Однако посерьезневший вдруг Путята не стал восторгаться голосистой птахой, разом остудив Молчана:
– Соловушка сей – наш Шуй! Мастер он подражать птицам, и зорок с дерев высматривать. А трель с коленцами – сигнал, что вдали показались гости.
Вслед добавил – уже вполголоса:
– Эх, токмо бы тур допрежь не дернул в лес, и заметили они его!
И весь подобравшийся, бесшумно ступая меж деревами, будто скрадывал зверя, начал выбираться к опушке; за ним и Молчан, аналогично привычный к подобному ходу, без коего не видать добычи лесному охотнику.
Совсем уж на подходе Молчана цапнуло шипами от ветки боярышника, и досадуя на свою невнимательность, невольно ругнулся он – чуть слышно, а Путяте хватило и этого.
Резко обернувшись, прошипел:
– Тише ты! Замри! – пришли уже.
Место для скрытного наблюдения, кое Путята присмотрел еще в середине дня, когда тур вовсю расхаживал по полю, насыщаясь подросшей травкой, оказалось вельми удобным. Лучшей обзорности нельзя было и желать! – поле просматривалось до противоположной опушки. А где же тур?!
«Ужель отошел в чащу?» – мысленно обеспокоился Молчан; что до встревоженного Путяты и упоминать незачем!
Первым углядел могучего зверя тот, кто моложе и зорче. Тур еще не покинул опушку, однако явно собирался вглубь леса, приблизившись к нему, считай, вплотную. Молчан ткнул в плечо старшего своего родича, шепнув ему, куда смотреть. И облегченно выдохнул Путята!
Почти тут же вылетели трое конных, держась середины поля. За плечами переднего развевалась епанча серого цвета, наброшенная на кольчугу, коя на Руси 998-го года еще именовалась броней. Чета сзади была в пластинчатых доспехах, ведя в поводу лишь одного подменного коня. И Путята тут же прикинул: основной отряд – двинулся, а прибудет, как и предполагалось, не днесь.
Резко остановившись, гости начали озираться на обе опушки. Наконец, один из них, в круглом шлеме без шишака, узрев наконец тура, плетью в руке указал на него старшему. Тот долго вглядывался, потом кивнул указавшему, отдал какую-то команду и все трое повернули в обратную сторону.
А уже не развевалась, как на подъезде, ибо тронулись неспешно, и пока оставались зримы, не прибавляли в ходе.
– Точно пожалует к нам Булгак! – вдохновленно высказал Путята, исполненный азарта и предвкушения удачливого ловительства. – Что задумал я, то и сбудется! Ну, держись, упырь черниговский!
– Родич, обещал ведь рассказать, ежели ладно будет, – напомнил Молчан.
– Не держи сомнения! Сумерки настанут, и расскажу! – заверил Путята из 998-го…
XIV
– Где б затаиться до сумерек? – озаботился Молчан из 1007-го, когда отчасти восстановились от спрямления из-за силового воздействия чуждых кулаков извилины в главе его и заструились по ним мысли, перегоняя одна иную.
Увы! Воспрянув и вдохновившись, что процесс – пошел, они, покружив, неизменно возвращались на подступы к исходной точке, напоминая замкнутый бег квадриг, начиная от стартовых стойл, на вытянутой прямоугольником и разделенной барьером арене Большого ипподрома.
И по мнению торгового гостя из славной Земли вятичей, внезапно претерпевшего лютые горести, ведь не располагал он днесь даже единственным медным фоллисом, давно уже приспела пора хотя бы одному из сих раздумий свернуть с проторенных путей! Дабы наткнуться на альтернативный выход и родить, наконец, истину, открывающую, куда податься, чем пропитаться и как хотя бы глотку смочить – ведь об омовении уже и не мечталось.
В Константинополе не особливо скаредничали на милостыню, полагая ее богоугодным делом. Однако, ввиду дефицита питьевой воды, ведь не стояла оная столица на большой реке, а морская вода – не питьевая, несмотря на самый длинный в тогдашнем мире водопровод, протянутый из Белградского леса, с двумя почти десятками акведуков, и гигантские цистерны – водохранилища, представлявшие в открытом виде бассейны, а в закрытом – подземные резервуары, никто не угостил бы ей на улице чужеземца подозрительного вида, способного объясняться с местными лишь на языке жестов.
А пить уже хотелось, и вельми!
Он согласился бы прибегнуть и к услугам капилосов, торговавших вином на разлив, да откуда ж наличность взять!
Вот к чему приводит опрометчивая утрата бдительности при кутежах и загулах…
На ипподром – главное здешнее развлечение, его сводил, на шестой день от посиделок в таверне, злокозненный Фома, завзятый поклонник конных ристалищ, когда четыре колесницы-четверки, а возничие на них – в коротких туниках-безрукавках, удерживаемых кожаными ремнями наперекрест, мчатся семь скаковых кругов под рев зрителей на поднимавшихся амфитеатром трех общедоступных трибунах, равно и на Кафизме с императорской трибуной.
Являлся он главным в сем граде, именовался Большим и располагался рядом с Большим императорским дворцом, существенно превосходя вместительностью и статусом четыре остальных.
Многое впечатлило там Молчана, накрепко запомнившись ему!
Безмерное количество азартных зрителей, в несколько раз превосходившее население всей его округи на родине, мраморные индивидуальные скамьи – шириной в локоть с четвертью, многоуровневые лестничные выходы, позволявшие покидать арену споро и без заминок, тенты на трибунах от палящего солнца, бесплатная раздача овощей и сладостей по случаю присутствия на бегах василевса Василия, близость брега Пропонтиды, именуемой нынче Мраморным морем, с южной стороны ипподрома, долгий гала-концерт меж четырьмя утренними и четырьмя послеобеденными забегами – с мимами, акробатами, музыкантами, жонглерами, даже поединками с дикими животными особливой свирепости, два ряда колонн из мрамора, пурпурного порфира и розового гранита…




