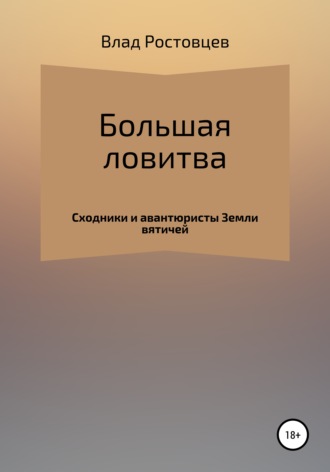 полная версия
полная версияБольшая ловитва
Ненависть усугублялась тем, что он являлся, по материнской линии, внуком Дира, одного из соправителей Киева, и со злодейским умерщвлением варягами во главе с Олегом-Хельгом Дира, а также Аскольда, другого соправителя, вся семья Любослава скатилась на нижние ступеньки социальной лестницы; отныне путь на верхние этажи власти был перекрыт ей навсегда.
Залегендированный как владелец косторезной мастерской, он стал резидентом в Киеве еще в начале правления князя Святослава Игоревича. И пользуясь прежними связями своей семьи, создал широкую агентурную сеть, ставшую бесценным источником информации для его кураторов.
К примеру, Центр узнал о первом походе Святослава в Землю вятичей задолго до выступления киевской дружины и реализовал комплекс мероприятий, вследствие чего введенный в заблуждение князь, намеревавшийся незамедлительно наложить на вятичей дань, в последний момент передумал и решил сначала двинуться на хазар.
На счету киевской резидентуры вятичей под началом Любослава (Волоха) были и иные стратегические операции высокой эффективности. Не пришло еще время раскрыть… Разрешено лишь чуток намекнуть, слегка приоткрыв завесу над одной из самых знаменитых загадок Древней Руси.
По сей день историки пытаются понять, почему киевский князь Святослав Игоревич, чьи военно-политические деяния без камуфляжа мифов и лживых сочинительств из позднейших времен далековаты от традиционно-благостных, погубил себя и остатки войска на днепровских порогах. Ведь возвращаясь из похода в Болгарию, где полегли около сорока тысяч его ратников – две трети от списочного состава, он отверг совет воеводы Свенельда, решив зимовать на песчаных косах с той частью своей дружины, кою ромеи не стали добивать под Доростолом. Лишь небольшой отряд во главе со Свенельдом оставил Белобережье, убыл в Киев посуху и благополучно добрался туда.
К весне оголодавшее киевское воинство уж переварило и лошадей, исключая лишь гривы тех. И вконец отощав, отправилось в путь на кораблях. У одного из порогов (в ту пору их было за десять, а река называлась Славутичем) его уже поджидали печенеги во главе с ханом Курей; полегла вся дружина…
Для вятичей смерть Святослава, коего они подлинно ненавидели, и гибель остаточной трети его рати обернулись величайшим благом!
Они тут же перестали выплачивать Киеву дань, восстановили полную политическую самостоятельность и возрадовались за свою молодежь, которую дружинники Святослава – того, что реальным был, а не мифическим, угоняли в рабство по княжескому приказу. А помимо этих благ, получили почти десятилетнюю передышку, пока не завершилась междоусобица и из трех сводных сыновей Святослав остался в живых только один, самый жестокий и коварный.
А кто опосредованно подвел Святослава к роковому решению зазимовать с дружиной, столь выгодному для вятичей? Сколь ни жаль, однако лимит дозволенного намека исчерпан, и не велено разглашать далее из соображений государственной безопасности. Ибо Киев опять взбухает! – не воспользовался бы тайной сей. Знать, не время еще для огласки сокровенного…
IX
Заночевали в перелеске. А за ним начиналась равнина, завершавшаяся кромкой леса, однако не было зримо, каковой он величины.
По распоряжению Путяты, кое не стал объяснять он, обошлись без костров. Собирались ладить две кущи, однако передумали, поелику погода случилась теплой и безветренной. И по всем приметам выходило: не потревожит их дождь, а предстоит благоутишие.
– Там-то тур и отдыхает после дневной кормежки. А утром на пастьбу выйдет, – подсказал Путята Молчану. – Огня разводить не будем, в другой раз пригодится мое огниво.
И машинально поправил на поясе особый кармашек с огнивом из кремня, кресала и трута; трутом служила горстка высушенного мха, однако предусмотрительный Путята прихватил про запас и отломок гриба-трутовика.
– А отчего ж без огня-то? – не утерпел-таки Молчан, пытливый.
– Да оттого, что дымком от него потянет, и далеко разойдется горелый дух. А с иной стороны поля непременно пожалуют гости, бдящие, тут и не сумлевайся даже! Вот и унюхать могут, что не одни они здесь. Нам сие отнюдь ни к чему… И хватит о суетном! Пора тебе, сидючи, шлем примерить – поди, никогда не надевал.
– Шлем-то зачем на тура? – изобразил Молчан наивное любопытство.
– Мало ли! – хмыкнул Путята, а не разъяснил.
Незадолго до того, к семерке конной присоединились еще двое, поджидавшие у лесной развилки; оба – пешие. У каждого по две лошади в поводу – из тех, на коих возят кладь и пашут; предстали они с уныло повисшими хвостами по причине изрядной поклажи. Не иначе, где-то на отдалении, в чаще, у Путяты имелся целый склад всевозможного добра, припасенного на любой случай.
Лесовики являли страхолюдный вид, зловещую хмурость и полную молчаливость. Бороды их доставали чуть не до пупа. Старший из них был лупоглаз аки филин, у другого, заметно моложе, широкий шрам разрезал щеку от подбородка до уха.
«Может статься, Путята и лешего к себе пристроит», – мысленно ухмыльнулся Молчан, глядя на сих обитателей леса. А ошибался он! Центр никогда не отдавал Путяте приказов взять в оперативную разработку леших, водяных, русалок и лесных кикимор, хотя нет оснований сомневаться, что уж русалок он бы точно вовлек, наверняка погнушавшись кикиморами.
Поклажу выгрузили лишь на привале, после чего угрюмые аборигены, так и не проронив ни слова, убыли в обратном направлении.
Оказались в ней доспехи, из коих шесть легких – для подчиненных причастников, шлемы – числом седмь, и иное оружие – в дополнение к тому, что уже имелось.
Лучший шлем предназначался, конечно, Путяте: с железным наносником и кольчужной сеткой-бармицей, защищавшей шею. Новомодных шеломов, представлявших шлемы с высоченными навершиями-шпилями, не жаловал он, ввиду очевидных для него изъянов их конструкции.
На молчанову главу шлем натянулся с большой натугой, и ее будто сдавило обручем.
– Не хмурься! – высказал ему старший родич. – Чем теснее, тем лучше держаться будет, и точно не свалится… А ты, вишь, начал уже походить на воя. Пора! Будет и на твоем веку не одна битва – не оставит нас в покое Киев!
Когда сытно отужинали жестковатой копченой олениной, привезенной лесовиками, настало время прилечь.
Путята в полевых условиях всегда следовал примеру князя Святослава: брать в изголовье конское седло, покрытое потником.
Так вознамерился и ноне. Однако вовремя вспомнил о целебном средстве, обещанном Молчану и порывшись в своих подсумках, извлек коробушку из кусков луба, сшитых полосками лыка.
Открыв крышку, молвил: «Буду врачевать твое колено. Достану целебного меда – всегда его беру его, когда отправляюсь в поход, намажу на тряпицу и намотаю округ болючего места». Вслед приступил к врачеванию…
«А тяжела была рука у Путяты! Не то что у знахарок, ласковая», – припомнил дале Молчан, однако нежданно-негаданно громко раздалось сбоку, напрочь отгоняя былое:
– Да ты, примечаю, заснул, стоя! Уж скоро отъезжать, а ты и не изготовился. Смотри, не обернешься к вечеру третьего дня!
И Молчан весь встряхнулся, досадуя на себя. Ведь точно припаздывал со сборами. Истинно права Доброгнева!
Все ж, острастки ради, дабы жена не задирала нос и не корила всуе, напустил суровости:
– На себя оглянулась бы, неже мя поучать! Давно уж утро, а в сенях не прибрано. И метелка попусту стоит! Досадно мне сие аки хозяину…
«Досадно тебе! Еще чего! – взъярилась в душе Доброгнева. – Хозяин в охотничьем промысле и со мной на лежанке – истинно ты, не оспорю. А по хозяйству – старшая точно я, даже и не взбрыкивай! Сама, без указчиков, разберусь, когда в сенях прибираться!»
И демонстративно надулась, зримо омрачившись и поджав уста.
Осознавая, что перегнул, и не собираясь повиниться – сего вообще не было в его характере, избыточно насыщенным гордыней, хотя и подольститься не помешало бы на дорогу, высказал Молчан, вроде об ином:
– И с чего решила ты, что непременно вернусь на третий день? Ну, как товар не раскупят сразу? – чай, не осень сейчас, где все, что ни привезу, подряд сметают. Посему и не тороплюсь.
Ночевать буду на постоялом дворе, а прочие могут и на телегах. Днесь, двигаясь не поспешая, прибудем на торг лишь к вечеру. Стало быть, можем не уложиться и в два дня. Для верности жди на четвертый к полудню – тогда и стол для меня накроешь. Ведь мастерица ты меня порадовать!
И разом рассеялись тучи в уязвленной, было, душе Доброгневы! И прояснившись ликом, она простила мужу даже наперед…
X
Округ стола в таверне, предлагавшей несколько рыбных и мясных блюд стабильного спроса, а вслед – многие закуски и десерты, сопровождаемые виноградными, гранатовыми, кизиловыми, терновыми, яблочными и грушевыми винами, воссели на табуретах, что и было заведено в едальнях Нового Рима.
Компанию Молчану с Басалаем составили скриб Фома – писец в какой-то из бесчисленных канцелярий Большого императорского дворца, и Никетас – торговец оливковым маслом в амфорах разной емкости.
Оба пришли в хламидах – недешевых длинных плащах, оставлявших свободной десницу, застегиваясь на том же плече булавкой-фистулой.
Трапезу, спонсированную умеренно щедрым вятичем, еще не впавшим в загульные траты на яства для неких прелестниц, открыли густым рыбным супом – типовым блюдом у тамошних едоков.
А сопровождал его свежайший пшеничный хлеб отменной выпечки, нарезанный изрядными ломтями.
Продолжили жарким из мяса пятимесячного ягненка, свиной копченой колбасой, нашпигованной чесноком, и спанакопитой – пирогом со шпинатом, не пренебрегая маринованными маслинами, рагу из тыквы и чечевицы, равно и поджаренными каштанами.
На десерт, а все ромеи были жуткими сластенами, подали им фруктовый салат из кусочков ароматных яблок и сладчайшей дыни, облитых слегка подогретым медом и засыпанных измельченными фисташками.
Когда же принесли груши и абрикосы, живо умяли и их.
По ходу интенсивно прихлебывали багряное кизиловое вино, а едва пустело в кубках, подливали заново.
И мысленно оценил Молчан, отчасти уже «захорошев», что отменно оно крепостью, однако уступает вкусом хмельному вареному меду из сыты.
Не впечатлили его пирог со шпинатом, маслины, овощное рагу и поджаренные каштаны. А не возникло нареканий в желудочно-кишечном тракте относительно супа и яблок.
Вельми одобрил Молчан жаркое и колбасу. Что до абрикосов, кусочков дыни и груш, истекавших соком, то ощутил гастрономический оргазм!
Уже на старте ознакомительной беседы выяснилось: оба гостя самым удивительным образом сведущи в речи, родной для хозяина стола и его толмача. Фома же, зело косоглазый, а возрастом, похоже, сверстник Путяты, и вовсе глаголет почти без запинки.
И поразило Молчана таковое!
Ведь прибыв в сей град, узнал на месте, что оный, по убеждению здешних жителей, суть пуп всех земель на свете. И просвещен был купцами из соплеменников, что погрязшие в самодовольстве и бахвальстве ромеи полагают дикими и недостойными все иные народы.
А посему, из неимоверной гордыни своей, презирают и иноземные языки, из принципа не желая напрягаться их изучением.
Сии же явно напряглись, представляя исключение из ромейских обычаев. А отчего бы? Что подвигло их?
Впрочем, зародившиеся сомнения живо погасили сами подвижники, открывшись, что оба бывали в Киевском княжестве. Там, мол, и навострились!
Фома провел в Киеве аж три лета вкупе с зимами, состоя писцом в ромейской миссии при княжеском дворе. А Никетас, выглядевший старше Молчана годков на десять, по молодости добрался на торговом судне даже до Новгорода – в качестве подручного у богатого купца, торговавшего на внешних рынках ромейскими шелковыми тканям, славившимися по всему миру, и ювелирными изделиями, тоже знаменитыми мастерством исполнения.
Чем боле употреблялось кизилового, тем резвее разливались ромеи в честь хозяина стола, всячески льстя ему слаженным дуэтом. А Басалай – подпевала, вступал по завершении очередного куплета оды особой пышности, изобильной гиперболами непомерной шири и сказочной выси.
Дошло до того, что даже молчанову браду воспели, будто бы, с их слов, совершенно неотразимую для местных див, обожавших-де сие мужское от них отличие, превыше прочих, сокрытых допрежь обнажения!
Поглядывая и вслушиваясь со стороны, резонно было бы заподозрить, что три ушлых ловкача шустро разводят убогого разумом лоха.
Однако Молчан, являя в пиршестве сем некое простодушие, присущее и мудрым, когда впервые оказываются те в столичном граде, выкатив очи на масштабы его и уровень сервиса, лохом отнюдь не являлся, что давно определил и его толмач, предупредив приглашенных участников трапезы.
У себя же на родине наш славный вятич сам провел бы кого угодно, возникни таковое желание!
И посему два результативных осведомителя местного сыска, совмещавших свои канцелярские и торговые труды с доносительством за разовые гонорары, равно и примкнувший к ним мигрант Басалай, тоже нештатник, разводили его, аки умного, играя на низменных природных инстинктах. А редко встретишь мужей в расцвете лет, неуязвимых для зова плоти!
И не торопились сии хитрецы разом опустошить иноземную мошну, ибо не разведали еще, есть ли у Молчана протекция среди самых именитых купцов из вятичей, имевших солидные знакомства и в Большом императорском дворце. Ведь не хотелось им лишнего шума!
Тем паче, они имели корыстную надежду, что данный торговый гость является сходником, засланным Секретной службой Земли вятичей.
Поелику обещано было им: за выявление любого такового каждый из них получит премию в размере аж годового оклада штатных осведомителей низшей категории! – возможно, и в золотых солидах надежной пробы.
Казалось бы, внутренний сыск могучей Ромейской империи не должен был особо напрягаться лазутчиками из дальней земли – данника ее киевского союзника. Ясно же, что вятичи не собирались воевать с ромеями: куда им, супротив великой державы – от Египта и Сирии до Закавказья и Тавриды!
Племени сему с Киевом бы разобраться, дабы не выплачивать дань!
Однако уж несколько лет, как прежнее вполне лояльное отношение к вятичам сменилось в Константинополе-Царьграде на враждебное. Ибо на первый план вышли геополитические приоритеты! Младой василевс-император Василий отчаянно нуждался в войсковой помощи от Киева. А киевский князь Владимир всемерно ее оказывал. Послав на выручку шеститысячное войско, спас Василия от неминуемого свержения. И не раз еще сражались киевляне, направляемые Владимиром, за жизненные интересы Ромейской империи!
С принятием Киевским княжеством ромейской веры дружба окрепла еще боле! Ведь вслед очередной женой Владимира стала принцесса Анна – родная сестра императора Василия.
Посему в Большом императорском дворце, рассудив: «Враг моего друга – мой враг!», отдали команду ромейским спецслужбам всячески препятствовать аналогичными структурам Земли вятичей.
Ибо не сомневались оные стратеги, что вольнолюбивые вятичи способны ударить по взыскателям дани с них, когда Владимир, ослабляя оборонный потенциал своего княжества, вновь отправит киевских ратников на убой – для защиты ромейских территорий от болгар, недружелюбных империи. И нет в том никакой выгоды для ромеев, ибо ограниченному контингенту, экспортному, неизбежно придется возвращаться на защиту собственных земель …
– Сколь ни жаль, а встаю и ухожу! – приступил к основной теме, по завершению избыточно затянувшейся прелюдии, коварный Фома.
– Да с чего же оное? – будто бы встрепенулся не менее коварный Никетос, исполнявший партию второго голоса, хотя и с явным акцентом. – Хорошо сидим, и лепота в утробах. А ты намереваешься покинуть нас, учиняя обиду!
– И точно! Неладно сие, – подпел Басалай.
Супротив ожиданий, Молчан промолчал, и не встрял с вопросом, как предполагалось, согласно апробированному шаблону.
И оказалось солидарным сожаление бывалых разводчиков! А допрежь все они и разведчиками побывали.
Нештатник же царьградского сыска Басалай по-прежнему проходил в кадровых списках Секретной службы Киева как штатный нелегал под мудреным оперативным псевдонимом Елпидифор, обозначающим на греко-ромейском: «несущий надежду», и порой доводилось ему оправдывать чаяния своего резидента, равно и дальних своих начальствующих.
Бесспорно, есть схожее в затейливых специализациях сих: и в разведке, и в разводке необходимо отменное профессиональное мастерство для результативного введения в заблуждение.
Однако же, есть и принципиальная разница. Крайне чревато для разведчика разводить собственный Центр, аки малоумного лоха!
И пришлось им наново активировать свои потуги по пробуждению у хозяина стола нездорового любопытства.
– А ведь потому покидаю, что приглашен на ужин к первой красавице Константинополя самого честного поведения, и не могу отказать ей, поелику пообещал загодя, – вразумил Фома Никетоса и Басалая.
– Не поверю, что первая красавица зазовет всего-то писца на закате лет его, а вдобавок, косого и с перебитым носом. Даже при самой великой честности их, девы, равно и бывалые, сохнут по иным! – заподозрил Молчан кривду.
И уловив сомнения упорно молчащего разводимого, Фома, быв в реальной жизни своей единственным у родителей, тут же уточнил, что сия лепота – с косами, ниже спины, именем Афинаида, внучка его старшего брата. А днесь ей исполнилось двадесять годков, потому и собирает родичей – отметить дату.
Здесь Никетос предположил вслух, и тоже на языке Молчана, что у Афинаиды сей явно нет отбоя от воздыхателей.
– Знамо дело! – поддакнул Басалай.
– Толпой округ нее ошиваются! А ни на кого и не смотрит она! – вразумил Фома, лживый.
Мнимо удивленный Никетос незамедлительно справился, с чего бы таковая неприступность в самом расцвете младости.
– Непонятно сие, и дивно, – подхватил мигрант, аналогично лживый.
Однако Молчан, впав в недоверие, и тут не проявил надлежащей любознательности, к вящей досаде всех троих, нацелившихся на его мошну.
И сам не ведая о том, вынудил Фому зайти на третий круг разводки…
XI
Рынок, он и в Древней Руси рынок! И на любом большом торге первой четверти одиннадцатого века, особливо по осени, широким был выбор!
Оружие и доспехи. Кузнечные, гончарные и ювелирные изделия. Древесина и поделки из нее. Кухонная утварь. Ткани – в том числе иноземные. Сыромятные кожи. Пенька. Овчины и шкуры. Седла и сбруи. Одежда на любой вкус. Обувь – от дорогих, «на выход», сафьяновых сапог из мягкой овечьей либо козьей кожи до лаптей с подошвами, подшитыми для прочности конопляной веревкой. Меха – от векш до соболей. Мед в деревянных ведрах, кадках, бочках, в глиняных кувшинах и горшках, а на любителя и в колодах. Перетопленный чистый воск – его продавали кругами и бочками. Зерно, начиная со ржи, соль, мука, хлеб. Мясо домашних животных и птиц, сало, дичь. Лошади, коровы, овцы, гуси и утки. И даже благовония издалека!
Все это могло обмениваться – скажем, продукты питания от селян на изделия ремесленников и наоборот, либо приобретаться – за серебряные арабские дирхемы или за резаны, представлявшие кусочки, нарубленные из длинных и тонких слитков серебра, видом напоминавших прутья.
Однако на сей раз не радовался Молчан предстоящей поездке, что всегда бывало прежде. Ведь торг – не токмо купля-продажа, а и праздник для души!
И домой вернешься не с пустыми руками! А помимо – с подарками для Доброгневы и сыновей.
А днесь, в самый канун отъезда, вовсе не ощущал Молчан предпраздничного настроения, и тягостно было в его душе, словно намекала она на недоброе. Началось сие намедни, когда Балуй, один из тех, кто точно намеревался на торг, уведомил Молчана, ажно старшего в обозе, что у его телеги поломалась ось колеса, а починить ее до отъезда уже не успеет.
На следующее утро вдруг занемог непреходящей хворью в утробе Скурата, еще один из намеревавшихся. Третьего дня отказался ехать Гладыш, сославшись, что полаялся с женой, и она, по злобе, побила самые лучшие из глиняных горшков, подготовленных им к продаже. «Одна за одной напасти!» – подивился огорченный Молчан.
А вечор открылась ему общая причина тех напастей. Когда вернулся из леса, Доброгнева сказала, что заходил Стоян, и что-то ему надобно.
– Ужель и он откажется? – заподозрил Молчан.
Стоян – тот самый, что когда-то открыл ему очи на Младу и Некраса, тоже собирался на торг. Давно уж прошла их прежняя дружба: повзрослели, и у каждого началась своя жизнь, без взаимной тяги. Ни размолвок меж ними не было, ни обид, ни особого интереса друг к другу. При встречах общались, подобно давним знакомцам, вот и все.
«Пойду к нему, – решил Молчан. – Сразу и выясню».
Стоян сидел у порога своей избы и прилаживал грузило к неводу. Увидев гостя, встал и обтер руки о низ рубахи.
– Ну, сказывай, зачем приходил. Не стряслось ли у тебя чего? Утром ведь выезжать, – справился Молчан, настраиваясь уже на худшее.
– Не поеду я, Молчан. И тебе – не резон. Тревожно сейчас на дороге к торгу. Шалят!
– Не иначе, ты злодеев лесных напугался? Слухи это, не верь!
– Не слухи. А старшим у лихоимцев тех – Жихорь, тебе знакомый.
– Жихорь?! Его и след давно простыл, никто уже и не вспомнит!
– Может, и простыл, да вновь объявился. Днями видели его. Тебе грозился. Встречу, говорит, Молчана – за все посчитаюсь с ним. Отмщу! Не будет ему покоя!
И добавил он: «Нашей ватаге и леший не страшен! Любых разобьем!»
– Зрил-то его кто? – спросил Молчан, начиная верить.
– Яроок и зрил, когда на лодке плыл, а Жихорь его с берега окликнул. Он и рассказал Балую. А днесь и до меня дошло.
Яроок, их сверстник, перебравшийся в городище с женитьбой на Душане, местной, происходил из того же селища, что и Жихорь.
«А Млада и по сей день там», – невольно вспомнилось Молчану. И стало для него ясным, что не мог Яроок обознаться! И мигом сообразил он, почему отказался Балуй, вслед – приятель его Скурата и сосед Балуя, именем Гладыш. А от кого узнал Стоян, тут и загадки не было: сестрами состояли жены Гладыша и Стояна.
Перетерев со Стояном, Молчан, было, засомневался: может, отказаться и ему? Ведь острой нужды ехать на торг у него вовсе не было.
Запасов зерна, гороха, меда и конопляного масла, выменянных у поселян своего городища на крупную и мелкую дичь, шкуры лис, зайцев и векшей, вполне хватило бы до осени.
А о мясе с рыбой и речь не велась! Да и старшие сыновья уже мало-помалу поставляли на семейный стол – ту же рыбу, ловленную вершами, сплетенными из ивовых прутьев, ягоды, грибы, лесные орехи, птичьи яйца.
Своими были молоко из-под коровки, творог и сливочное масло. Что до репы, редьки и чеснока, они любовно взращивались Доброгневой на ее огороде.
Иссякли – без малого подчистую – лишь запасы соли. Оставалась всего-то пара-тройка щепоток. А разве нельзя перетерпеть? Тем паче, еще не полностью убыли грузди с рыжиками и соленая рыба.
По всему выходило: незачем ехать Молчану.
И не в Жихоре дело – плевать он хотел на него! Мало ему одного раза, когда корчился, будет и второй – еще больней, ежели жив останется.
А ежели и впрямь целая шайка с ним, под его началом?
«Немного нас с оружием, – прикинул Молчан. – А вдруг не отобъемся? И сам паду, и иных погублю, над коими старшим буду».
Однако, предложи он наутро отменить выезд на торг, не согласятся товарищи его по обозу, и сами отправятся, везя на продажу изделия свои и товары. Ведь истощились их припасы! Чем кормить им семьи свои?
И отказаться ехать с ними, ослабив и без того малый отряд, было для Молчана совершенно невозможным делом. Никого и нигде не боялся он, и самым первым шел.
– Отнюдь не отверну в кусты! – постановил он для себя.
Прошел вечер, за ним ночь, и наступило утро.
Когда Молчан завершал перебор меха, добытого поздней осенью и зимой, пришло ему на ум: «Знать, неспроста, чуть ли не с зари, вспоминаю тот поход. Там засаду ставили мы, а днесь, чую, она поджидает меня». И непроизвольно, вновь перенесся он мыслями в дальнее былое…
Весь небосвод лучился звездами. И как ни заслоняли их свет кроны дерев, Молчан все же различал, пусть и с трудом, силуэты дозорных, стороживших покой остальных пятерых.
Один вершил охрану, сидя на пне, другой, тоже сидящий, на лесине – то ли срубленной когда-то, то ли рухнувшей в бурю. Четверо мирно всхрапывали на лапнике – Путята чуть поодаль от остальных.
И лишь Молчан, у коего давно слипались глаза, все не мог устроиться, дабы наконец заснуть.
Ведь не смог он до утра смежить очи, по примеру князя Святослава Киевского, не осилил! Хотя всего и надо было: взять в изголовье конское седло, покрыв то потником, и уткнуться в него загривком.
Ан нет! От той подседельной подстилки, впитавшей за время в пути чуть не ведро лошадиного пота, столь несло изрядным запашком, что Молчан неизменно пренебрегал ей. И заподозрил: у князя того, убиенного, неладно было с носом. Ведь он и печенегов не унюхал!




