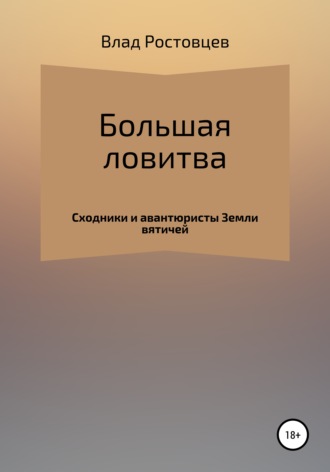 полная версия
полная версияБольшая ловитва
– И точно, прав отец: неприкаянный я. Самому опостылело, что один, будто перст. Эх, Млада, Млада, – подумал Молчан, и вдруг, ажно кольнуло в нем. Поднял очи и остолбенел. Не почувствовал даже, что кукан из рук выпал.
Млада стояла чуть выше, бледная, пуще снега раннего.
И задрожал ее глас, когда сказала ему:
– Зря ты тогда, Молчан! Не по-душевному то…
Повинился передо мной Некрас после свадьбы, что напраслину возвел, облыжную. Не допустила я его на тех игрищах до запретного! Береглась для тебя одного. А ты и поверил, затаился! Даже спросить не захотел. И нет ноне счастья ни тебе, ни мне…
За что ж ты, Молчанушка, отрекся от любви моей?
У Молчана и дух перехватило, и словно земля из-под ног ушла. И вмиг заледенело его сердце, да так, что и доныне не все оттаяло.
А она, уже обходя его, ведь не сообразил отодвинуться, улыбнулась как-то странно, словно сострадая не то ему одному, не то им обоим:
– Кукан-то подыми…
IV
– Вернется сейчас, будет, чем попотчевать его и меньших, – удовлетворенно прикинула Доброгнева. – Еще и ложки оближут!
Ранним летом любила потешить домочадцев похлебкой из заквашенного теста – рачины, кою ставила накануне, а когда она достаточно закисала, опускала в горшок с кипящей водой, добавляла порубленную свежую крапиву, взбивала, а потом заправляла сушеной рыбой.
Много разнообразных блюд умела она. Вследствие чего невозможно было баять, применительно к ее семейству: «Щи да каша – радость наша!». Отнюдь, и наново отнюдь! И даже Молчан, вельми скупой на похвалу, редко-редко, а все ж одобрял вслух. А единою, насытившись до отвала и ослабив пояс, молвил, растрогав жену чуть не до слез:
– У иных стряпня, а у тя – подлинно яства!
Особливо расходился у него аппетит, когда хозяюшка запекала цельных освежеванных зайцев, поливая их брусничным соком. Кто там – русак или беляк, для печи все едино! Хотя русак – вкуснее, понеже всегда жирней, да и крупнее он.
Жаркое из заячьих ножек тоже встречало полное, пусть и молчаливое, одобрение главного едока в семье и уминалось вельми споро. А уж пироги с зайчатиной и Молчан, и Храбр с Беляем буквально сметали!
Вечор Молчан еще троих доставил. И Доброгнева уже прикидывала, как приготовить их. Хотя не те они ноне супротив осенних: маловато в них жирку.
По поздней осени Молчан уважал бобровое мясо, бобров же добывал сам. Доброгнева нарезала свежатину на крупные куски и, подержав день-другой в холодном месте, запекала. Отведав приготовление, хозяин утирал усы, собирал в горсть бороду и протяжно вздыхал в полном удовлетворении.
Жаловал он и моченую бруснику. И Доброгнева с первых лет замужества наловчилась готовить бруснику так, что пальчики оближешь! – на меду, с медовой заливкой. Однако до подачи на стол она отстаивалась в подполье, в деревянных кадках, не меньше месяца. Молчан завсегда был охоч до сей ягоды в любом ее виде, не мене, чем еще один обожатель брусники – глухарь-боровик, что отменного вкуса, ежели запечь его разделанным на куски.
А тетерева, запеченные тем же образом? А копченый лещ, истомленный в собственном жиру?? А соленые груздочки и рыжички?
Для грибков сих не жаль было и соли, кою для иных надобностей при готовке Доброгнева расходовала чуть ли не по крупинке, как драгоценность. Она и считалась лакомством! На любом торге ее, завозимую издалека, токмо таковым и оценивали, отвергая скидки при продаже.
Кое-кто в городище даже злословил за спиной Доброгневы из недоброжелательства и ехидства: «Ишь, богатеи! Статочное ли дело: соль на пустое переводить?! Ох, еще аукнется им!».
Однажды дошли до нее те перетолки, и, не стерпев, высказала тем женкам, что стояли тогда рядом:
– Завидки на мя взяли? Довольство наше застит вам зенки? Надобно было выбирать себе мужа, якоже мой, и в достатке б купались!
Обильно насыщалась сия семья! Обильно и смачно! – не убавить.
И стоило Молчану высказать невзначай: «Блинков бы!», назавтра же объедался ими на вечерней трапезе…
Хозяин вошел явно нахмуренным. «А я-то чаяла: помягчает он на росе», – мысленно огорчилась Доброгнева. Однако, глубоко вздохнув с порога, точно отрешив от себя что-то недоброе, распорядился он с нежданной задушевностью: «Ну, хозяюшка, подавай к столу!»
И не затягивая, хозяюшка выставила на стол четыре глиняных горшка с овсяной кашей, приправленной кусочками копченого окорока – немного уж от него осталось, и зеленоватым конопляным маслом из орешков-семечек, купленном на большом осеннем торге.
С чего образовалось то копчение, Доброгнева помнила накрепко. Прошлой осенью Молчан, благо помогли ему те трое, что сопровождали на охоту, еле доволок матерого кабана, отъевшегося на лещине, равно и желудях в дубравах. Вернулся весь раскрасневшийся и сам не свой с виду. Но отмолчался на ее вопрос и открылся не сразу, а много погодя.
Выгнали на него секача и принял он зверя на рожон рогатины – самого тяжелого оружия в Земле вятичей, ударив, как и должно, снизу, накрепко уперев конец древка-искепища в землю, тот налег на нее с такой силищей, вплоть до поперечины, коя рожна ниже, что чуть не поддалась она мощному до дикости напору. А поддалась бы, отвалив в сторону, конец не зверю, а охотнику…
В том, что умнут всю кашу, еще и о добавке помыслят, Доброгнева даже не сомневалась.
Ведь готовилась она со всевозможным тщанием из вкуснейшего цельного зерна, очищенного от шелухи и добротно распаренного в печи, чтобы стало мягким, как бы набираясь силы от печного жара.
По завершении трапезы все сбылось по ее замыслу.
Насытившись, дале некуда, и запив парным молоком, все встали из-за стола умиротворенными, даже и Храбр, коего Молчан, не посмотрев на раннюю возмужалость своего старшого, шарахнул деревянной ложкой по челу, прикрикнув: «Не егози!», когда тот допрежь отца сунулся в свой горшок.
Убирая судна и сосуды, Доброгнева к месту припомнила и прикинула: «Намедни Молчан сказывал: на опушках и лесных полянках уж поспевает земляника – скоро станет рясной. Не припоздать бы со сбором! За земляничкой подойдет и черничка. Как дозреет она и наберу пяток кузовов, спроворю пирог с ней. Сыновей полакомлю и самой в радость!»
А раз Молчан не привязчив к чернике, решила налить ему тогда добрый ковш из отбродившей сыты – пущай и он потешится …
V
«Чего из оружия взять? – впал в размышления Молчан. – Ведь неспокойно в лесах стало».
Еще с первой капелью Доброгнева, наслушавшись соседок, пришла и выпалила:
– Бают все, что развелось в лесах лиходеев, будто лягух в болоте! Скоро, глядишь, будут остерегаться даже на торг поехать. Набегут разбойники, и все, что ни есть, отнимут. А всего пуще – могут и порешить, по злобе…
Лесные злодеи водились в их округе и прежде. Время от времени пошаливали они, случались и смертоубийства. Не зря ж, на большие осенние торги выезжали с непременным сопровождением самых могутных в городище мужей, иных и с ратным опытом.
В телегах ехали подвое, оснащенные оружием: обоз охранялся конным авангардом из нескольких всадников и аналогичным арьергардом. У каждого, кто при оружии, было по топору и по паре-тройке сулиц. У всех – ножи немалой длины, легко достающие до сердца, а разбойнички – не вои в броне. Кто-то брал и кистени – ударное оружие для жаркого ближнего боя, проламывающее не токмо черепа, а и легкие доспехи. Молчан прихватывал свою охотничью рогатину, что не раз выручала его, когда хаживал со товарищи на медведей и вепрей, с ней и лук боевой. И не было случая, чтобы кто-то напал!
Однако у обозов по весне, отправлявшихся, когда подсохнет и станет проезжей дорога на торг, имелось свое отличие. В конце весны многих городищенских мужей, справных, невозможно было упросить для сопровождения и на день, что им за это не посули! Ведь все в полях они, живя не с промыслов или ремесел, а от доходов с урожаев. Да и отправлялись на сборы для переподготовки те из младых, приписанных к ополчению, чей возраст подошел ноне.
А посему весенние обозы и их охранение сокращались, в сравнении с осенними, вдвое, а то и боле. И приходилось рисковать…
Ноне же оборачивалось и того хуже. Поздний весенний разлив выдался столь полноводным, что та часть короткого пути на торг, вдоль правого берега реки Москвы и выше по течению, проходившая через заливные луга, еще не подсохла, дабы бы стать проезжей. Оставалось лишь отправиться иным путем – не столь торным и куда боле протяженным, в начальном своем направлении противоположном реке.
Усугубляло и то, что у главной дороги на торг лес рос лишь с одной стороны, в отличие от сей, шедшей через чернолесье. Посему надлежало остерегаться куда сильнее! – напасть на обоз могли и с двух сторон одновременно.
– И ведь непременно выскочат с кистенями! – не усомнился Молчан.
В самом деле, для разбойного нападения в лесу лучше, чем кистень, и представить трудно. Боевая железная гирька-подвесок, соединенная цепью, ремнем или крепкой веревкой с деревянной рукояткой-кистенищем, грозна в умелых руках, круша любые кости, да и почкам с печенью не покажется мало!
Кистень позволял нанести ловкий, внезапный и поражающий удар в самой гуще тесной схватки. А если враг оказывался оглушенным от попадания в шлем хотя бы на несколько мгновений, его тут же и добивали.
А сверх того, мог разить даже без кистенища, когда подвесок привязывали просто к руке – к кисти, откуда и пошло его название.
…Ко всему, в самый последний момент, передумали ехать на торг для продажи сразу пятеро. И Молчан вечор узнал причину, заставившую и его вельми призадуматься.
Токмо что напросились Некрас с Мезеней, однако и с их поклажей в обозе получалось лишь семь телег. И ненамного больше вооруженных, из коих конных всего трое. Заведомый соблазн для прытких головорезов!
И отошел Молчан к стене, где на колышках висел весь его арсенал, а поодаль, в самом углу, прислонена была острога – длинный шест, Молчана выше, с наконечником из нескольких зубьев, длиной в два перста, приложенных друг к другу. Ей Молчан, с непременным напарником, управлявшим однодеревкой, брал щук в темные и тихие ночи.
– Лиходея бы острогой! – усмехнулся он в душе. – Да не скоро вытащишь ее потом из него: не для боя она. А вот стрелы…
Наконечники стрел у Молчана были несхожими, хотя всех их выковал местный умелец любой кузни Домослав. У срезней, что на крупного зверя и противника без лат и кольчуги, было широкое лезвие, острое перо. А тому, кто в доспехах, лучше бы опасаться стрел с иными совсем наконечниками – узкими, гранеными, пробивавшими даже броню.
Однако бронебойные наконечники не были способны пробивать деревянные щиты, для коих требовались иные – с предельно расширенным острием, похожие на долота. Правда, сии иные оказывались бессильными против брони. И стало быть, наконечников универсальной пробиваемости попросту не существовало – у каждого их типа имелось свое назначение.
А для охоты на пушного зверя с малыми луками предназначались, дабы не портить его шкуру, плоские, намеренно затупленные томары стрельные.
«Заполню весь тул-колчан стрелами – на три четверти возьму со срезнями, на четверть – с гранеными наконечниками. Прихвачу боевой топорик, нож с клинком чуть не в локоть, три сулицы с наконечниками в пясть, рогатину и тот свой лук, что для боя. Не токмо мне одному, тут двоим обороняться хватит, однако запас не бывает лишним», – рассудил Молчан.
И невольно улыбнулся Молчан на мысль свою о рогатине. Единою он, выпросив у отца – доброго охотника, однако куда ему до Путяты, решил взять ее на ту охоту турью. Ведь возмечтал, первым подскакав к туру, первым и вонзить ему в бок. А сам еще не хаживал с рогатиной ни на медведя, ни на вепря, и никакого навыка не имел.
Прознав про сие намерение, Путята, неимоверный весельчак, балагур и насмешник, потешно вскричав: «Ой, держите меня, сейчас упаду! Ноженьки мои не держат!», обхохотался до зримых слезинок, чем изрядно задел вельми самолюбивого Молчана. Ведь преподал назидание: «Аще серьезен ты вне службы, не удерживай себя надолго в унылом состоянии том!».
А отсмеявшись вволю и отдышавшись, высказал, уже всерьез:
– Не серчай, однако куда тебе с рогатиной, едучи верхом? Явно, представляешь ты: рогатина у тя в деснице, а узда, правящая браздами, в шуйце, и скачешь во весь опор, вдогон за перепуганным и удирающим от тебя туром!
Не предавайся вздорным мыслям! Ежели не хочешь, чтобы он тебя, ухаря, на рога поднял, то и увернуться придется не раз, и отскочить, когда надо. Однако ты и без рогатины уже не раз с Серка падал, коего для тебя пригнал. А он, обученный даже бою, се не мерин ваш Голубок! Не отходи от него днесь, дабы обвыкся с тобой, а об ином – забудь: времени нет для иного. Через две зари отъезжаем, посему – торопись! Чаю, успеешь изготовиться – нам и верхом долгий путь.
– И вот что, – прибавил он, погодя, – перебери стрелы, дабы не подвели они, когда выйдем на тура, проверь тетиву и запасную возьми. Не рогатина, а лук будет твоим оружием главным. Горазд ты бить в цель, здесь даже мне с тобой не потягаться! – жаль не боевой у тебя лук, охотничий, да уж некогда прилаживаться к новому.
К своему нынешнему луку – боевому, из двух плеч, прикрепленных к рукояти, Молчан приладился столь хватко, будто с детства овладел им. И любил ощущать, как сии плечи, разгибаясь, посылают стрелу вперед.
Его изготовил за пару куньих шкурок знаменитый в округе мастер, до которого полтора дня пехом; еще и заночевать в пути придется.
Все же товар стоил своей высокой цены! – отменным получился оное оружие с отдельно хранимой вощеной тетивой, крепившейся своими петлями на костяные накладки. Ведь даже рукоять его, выложенную гладкими костяными пластинами, мастер подгонял точно по длани своего заказчика.
И испытав сей лук в охоте на крупного зверя, Молчан удостоверился воочию: разит, если верно целишь, наповал! Почитай, словно тот, самый памятный, с коим однажды отправился вместе с Путятой, уверенный, что на тура…
– Некрас-то каков! – ненароком припомнил он. – Загодя знал, что поддамся ему, соглашусь. Ведь вместе с Мезеней задолго до зари выехал, а поначалу утаил о нем. А доехав, поставили телегу свою близ городищища нашего. И пошел Некрас меня высматривать, а Мезеня остался товар сторожить.
Любопытно мне: аще кривоносый не дождался бы меня, рискнул он в избу постучаться? Чаю, рискнул бы! – не возвращаться же им обратно. Ведь даже топорики сообразили взять и ножи. Хитер Некрас! И ловок был прежде, вон и зуба меня лишил. Может и пригодится он, ежели навалятся на нас…
VI
– Пора уж перебрать товар наново, – прикинул Молчан. – Скопил его вдосталь. Будет, что на торге явить! – сам любуюсь…
Товар и точно был хорош! Украшением его была чета осьмиц бобровых шкур, каждая в два локтя длиной, добытых им по осени из засады – на самом закате инде чуть позде, либо на бобровых гонах в предзимье и начале зимы, когда мех становился особо прочным и красивым, сохраняя прочность, легкость и непромокаемость, и ценился дороже даже собольего. А половина из них – самого дорогого черного цвета – шли при продаже токмо поштучно. Остальные – черно-карего и карего, ценились в два раза дешевле черных шкур. Тех, что карего, продавали десятками.
Молчан пренебрегал добычей бобров с рыжими шкурами, кои на торгах ценились ниже, чем даже карие, и продавались сороками.
Основательно размыслив, решил он не брать на торг запасенную бобровую струю, за коей всегда выстраивалась очередь из покупателей, понеже славились ее целительные свойства: от болей в животе, глухоты, для укрепления мужской силы. Ибо по всему выходило, что осенью можно будет выручить за нее куда вяще.
Ведь тогда непременно пожалуют торговые гости на ладьях и купят ее, именуемую «бобровым благовонием», для больших иноземных рынков, где вельми высоко ценилась. А дале поплывут по Оке и Итиль-реке до побережья Хвалынского моря, а то и до Тавриды либо Царьграда.
Заготовил он для торга и бобровый жир для целительных натираний, а также пух оного зверя, вычесанный Доброгневой. Должно обозначить, что Молчан, честной, никогда не допускал скрытного подмешивания в благородный бобровый пух чуждого подшерстка, чем порой грешили ушлые продавцы из его соплеменников. Да и бобровая струя, предлагаемая им, всегда была натуральной. О качестве же пушнины и баять нечего!
Мясо же пернатой дичи, зайцев и крупного зверя, добываемое им лесным промыслом, редко, когда доходило до торга. Меньшая часть употреблялась самим и домочадцами, а большая обменивалась в его городище на зерно, горох, мед, конопляное масло и изделия местных умельцев, потребные семье для ее насущных нужд.
По прикидкам Молчана, для нынешней продажи хватало и одной пушнины. Ибо, опричь бобровых шкур, имелись и куньи, было изрядно векшей.
Четыре горностаевых и одну медвежью он решил приберечь вкупе с бобровой струей на главный в году осенний торг. Редкий в сих краях соболь не встретился ему ни разу за всю зиму. А для промысла волков не получилось собрать ватагу. Погруженный в мысли сии, вышел он на двор и возвел очи горе. Наплыли тучи, нагоняемые ветром; зримо нахмурилось. И заныло колено.
– Не иначе, днесь ливанет, – подумалось Молчану. – Нога моя, когда к непогоде, чует, аки ворожея!
У ноги его десной, то бишь на одной стороне с десницей, сие чутье образовалось – нечаянно и болезненно – давным-давно: в той единственной для Молчана охоте на тура, когда еще и не встретился с ним.
Малый отряд их конный, в коем Путята был вершником, только что выехал из бесконечного, казалось, леса, неторопливо едучи пред тем по тропе, где ни обогнать, ни разминуться. И предстала бывшая нива, где прежде пахали и сеяли, заросшая высокими травами и низкими еще кустарниками.
Чуть ли не половину того пути лесного Молчан провел в размышлениях о недавнем, порой недоумевая, теряясь в догадках и осмысливая наново.
К примеру, припомнил он, как, по прибытии Путяты, в городище начали объявляться некие конные, неведомые здесь прежде, и справившись на въезде у жителей, куда ехать дальше, прямиком направлялись к избе родителей Молчана, где квартировал оный старший родич его.
И едва тот выходил к ним, непременно снимали свои войлочные колпаки, только что не кланяясь. А вслед, когда отходили подальше, нередко и спускаясь к реке, что-то говорили Путяте, а он слушал и тоже не затворял рот.
И было оное во все дни пребывания Путяты, кроме самого первого, а длился сей срок в число перстов на двух дланях. Позде разговоров с Путятой приезжие – иные из них явно изможденного вида и с конями на подмену, непременно оставались на ночевку в избе, принадлежавшей кривой бобылке Дружине, седой уже, однако в работе – двоим не уступит. Спали там на полу и седлались поутру – на тех же конях, уже сытых, отпоенных и оснащенных полными торбами.
Елико платил Путята за овес и бобылке, об этом Молчан не ведал и не любопытствовал. Куда боле занимало его: что за люди новые, и когда ж на тура выезжать? – так ведь и до осени проторчать можно!
Долго крепился он, и все же спросил Путяту после плотной вечерней трапезы, когда ненадолго добреют даже матерые злодеи: кто незнакомцы сии, и куда отбывают?
Тот воспринял оную любознательность с неудовольствием, явно сочтя ее неуместной. Однако ответил, что всадники те – бывалые ловчие, коих он собрал отовсюду, дабы доглядали за туром: где пасется и куда перемещается.
– А ты то что помыслил? – сурово, даже и с возмущением в голосе, высказал он Молчану, завершив свой краткий рассказ.
В душе Молчан помыслил, что Путята заведомо кривит и лукавит, излагая не то, что есть, а его, Молчана, за малоумного держит. Однако вслух высказал с напускным облегчением, хотя вышло туманно и чуток двусмысленно:
– Теперь-то ясно мне!
Пристально взглянул на него Путята, и – промолчал…
Однако и в пути долгом: не день-другой-третий-четвертый, а боле, случилось немало потаенного. Выехали с Путятой вдвоем, с четырьмя поводными конями, коих тот прикупил в городище. На другой день поутру присоединились к ним двое встречных, и у каждого тоже по два коня в поводу, а к вечеру – еще двое с четырьмя в поводу, однако сии нагнали их. Все они, явно, подчинялись Путяте, словно был тот большим воеводой. Что ни прикажет, исполняли тут же, ели его глазами и открывали рты лишь тогда, когда он спрашивал.
Большей частью дороги их проходили вдоль рек и ручьев, и однажды Молчан упросил Путяту ненадолго остановиться посреди дня, дабы наскоро сполоснуть и отжать холщовую рубаху свою и порты, уже взопревшие. И не подозревал, что чрез два века с малым гаком в Монгольской империи будут карать за стирку одежды смертной казнью – сразу и приводя в исполнение…
Поначалу ночевали во встречных весях. И каждый раз, когда располагались на постой, хозяева совершенно очевидно ожидали их, не скупясь на угощения прямо из печи и на корм для коней – и основных, и поводных, на коих пересаживались для поддержания резвой скорости. Дважды были уготовлены им и подставы – кони для смены уставших на пути следования, однако основных – как Булана у Путяты и Серко у Молчана – они не меняли.
И Молчан приметил, что потчевавшие их поселяне относились к Путяте с таким почтением, будто к старейшине племени или волхву, а он всегда знал по имени и хозяина, и хозяйку. А потом, на протяжении пути, обезлюдело, точно в глухомани, и две последние ночи пришлось коротать в лесу – у костров, выставив дозорных и настелив лапник.
Вечор же отряд пополнил еще один, подлинно богатырской стати, под коим и взмыленный конь его, немалый в холке, казался мелковатым и зримо проседал под седоком своим могучим, а единственный, что подменным был, представлялся еще меньшим.
И отъехав с Путятой изрядно вперед, он огласил столь зычно, что все остальные расслышали: «Не выехали они еще – у Булгака отец отошел. По новому их обычаю, бесовскому, будут предавать его земле – без огня и тризны. Ждать Булгака с охраной надобно третьего дня, к полудню».
Чуть погодя, когда Путята что-то выговорил ему, отчего добрый молодец словно поник весь, он огласил еще, сильно умерив прежнюю зычность и явно полагая, что шепчет: «Пасется, и никуда не отворачивает».
«Ну, и глотка! Громче охотничьего рога на большой охоте». – невольно сопоставил Молчан. И невзначай услышанное подвигло его к новым осмыслениям: «Откуда может прибыть Булгак тот с охраной? Не из Киева ли? Однако, при чем тогда тур? На кого охотиться будем? Или на одного зверя пойдут две охоты с разных сторон? Голова идет кругом …».
По выезде из леса Молчан пристроился рядом с Путятой и не ускорялись они, хотя и опережали остальных.
– Родич мой старший, никак не возьму в толк, отчего сей зверь забрел в приграничье? – места-то для него не родные. Часом, не хвор ли? – справился он, покачиваясь в седле.
– Не смахивает он на хворого. Едва завидел меня, яриться начал: копытами бил, загривок топорщил, ноздри раздувал, набычился весь. Вот-вот кинется. Я и отвернул из опаски. Одному против тура – неминучая смерть! Иль на рога поднимет, иль пронзит насквозь, иль копытами истопчет. Видел, и не раз, каково это бывает – выручить, и то не успеть…
И еще на подъезде узрел: тур предо мной, не турица – та и помельче, и окрас иной. Да и откуда взяться ноне турице, когда отел у нее и в чащах прячется? Разве что совсем старая…
А тур, весь он черный, с белой отметиной по хребтине. Не рыжеватый, аки турицы и турята. Отчего же направился в сии края, про то не вем. Увидишь, сам у него и узнай, – усмехнулся Путята, многоопытный.
Однако, чуть погодя, высказал:
– Не иначе, бык-одинец, шатун рогатый, коего погнали из стада. И куда ему пойти, сам не ведает… Слыхивал я не раз о таковых от старых ловчих княжьих, однако не наблюдал сам.
– Поди, худо ему одному, – предположил Молчан.
– А не жалей! – отозвался Путята. – Одинец – суть всегда бывший вожак стада, злющий. Быв в силе и самым крупным, всех остальных в стаде гнобил, всеми турицами владел. Но нашелся бык – моложе и могутнее, и место его занял. Другой теперь тур – воевода. И навряд ли во всем стаде печалятся о прежнем…
Ты об ином помысли. Зачнем разделывать тура, чего себе запросишь? С него ведь можно настолько взять, что зенки разбегутся! Лишь мясо не похвалю. Попробуешь, и сам поймешь: волчьи клыки для него нужны!
– А что ж в нем тогда потребное? – неподдельно удивился Молчан.
– Да все остальное! Загибай персты! Хребтина пригодна, дабы доспехи ладить. Из кожи, толстой, выгибают шлемы, ратные, коих не всякая стрела возьмет, и пояса из нее – лучше не бывает. Из шкуры – подошвы для обувки: нипочем им ни снег, ни слякоть. А из рогов что хошь мастерят! На славные луки идут они, на рукояти добрых мечей – не хуже, чем из «рыбьего зуба», на лучшие гребни, даже и на застежки для кафтанов.
А чей рог – самый дорогой на званых пирах, когда пускают его, полного ставленым медом, вкруговую? То-то же!
Однако не вздумай облизываться на турьи рога. Не обломится! Молод ты еще, не заслужил…




