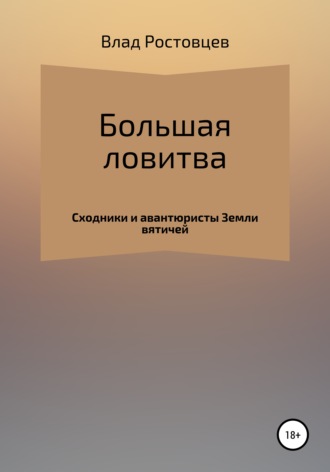 полная версия
полная версияБольшая ловитва
Все сие оставил честной Гамаюн нетронутым, не покусившись на чужое добро! Ибо не пожелал хлопот с реализацией тех товаров.
А взысканное Бабичем за убытки его, великие, с жадного и недалекого Резвого, суть внутренние разборки их! – и не нам встревать…
LXIX
– Убогая у тебя дружина, да и сам ты уже не тот! Запустил себя, жирком зарос, все чаще к хмельному прикладываешься. А в целом разочаровал мя! Вкладывал в тебя, вкладывал, а что на выходе? Где слава твоя хотя бы на два поколения вперед? – без предупреждения харкнул желчью внутренний глас.
«Елико ж лет он изводит мя!» – подумалось в сердцах Молчану.
А впервые объявился при нем сей критикан сразу же после женитьбы. И тут же поучать начал, давая наставления даже и по интимной части.
Обеспокоился Молчан, ведь не заткнуть от сего незваного и непрошенного уши, и пошел по волхвам, дабы справиться у них, сведущих в тайнах, неведомых иным смертным, не началось ли у него раздвоение личности, а с ним и глюки.
Волхвы излагали разное. Однако с примерно схожим резюме.
Мол, скорее всего, до раздвоения еще не дошло, хотя и нельзя поручиться. Вполне возможна шизофрения, и здесь не след преждевременно огорчаться: до поры дельные бывают и среди шизофреников – иные из них и племенами правят, а встречаются и наделенные исключительными дарованиями, коих не встретишь и у здоровых.
Налицо признаки звуковых галлюцинаций, однако вряд ли помешают они ловитве.
И не обойтись без строгой диеты и полного отказа от вредных привычек, включая хмельное, мясное, рыбное, мучное, сладкое, кислое и горькое, а пуще всего, жареное и печеное, довольствуясь лишь пареной репкой в день – допустимо и с ее ботвой, в сочетании с утренней зарядкой и обливанием ледяной водой, ранним отходом ко сну и здоровым образом жизни, невозможным без строгой умеренности в супружеских ласках.
На досуге показаны плетение лаптей, любование первыми звездами и вдыхание природных ароматов.
И опечалился Молчан от таковых диагнозов, а пуще того, рекомендаций, следуя коим, и жить не захочется!
Тут и вспомнил он о самом древнем из живущих в Земле вятичей волхвов – старце Людогосте, не раз хвалимым Путятой, как самым мудрым из всех вятичей.
И отправился к нему, пребывавшему в четырех днях конного хода.
Не сразу принял его тот, а лишь узнав, что Путята доводится Молчану старшим родичем.
Долго и внимательно выслушивал, не раз и задавал вопросы. А в завершение определил:
– Незваный советчик твой – явно сущность из иных пределов, величаемая внутренним гласом.
И не страшись его! – предполагаю, во благо тебе он, а не в печаль.
Явно, что ноне ничем не примечателен ты, помимо добычливой охоты. Однако не исключено, что вышние силы готовят тебя для гораздо большего.
Вот и старший твой родич, а он в авторитете у нас, хотя сам из светских, как-то обмолвился мне, что видит в тебе особливое, хотя еще и не скорое.
И сей внутренний глас, разумею, командирован с небес.
Внимай ему, соблюдая почтение и вежливость, ибо в совокупности прозорливее он всего городища вашего, хотя вряд ли с медовым характером – ведай, что все мудрецы сварливы!
А едва покинули они обитель ту, сразу же и высказал внутренний глас:
– Истинно молвил сей старец! Внимай мне, и не прекословь! – может, и умным станешь, следуя моим наставлениям…
Так и появился у Молчана надоедливый наставник, от коего не отвяжешься. Через многое прошли они в последующем, даже сдружились отчасти.
Однако с прошлого лета внутренний глас как с резьбы слетел и пошел в разнос! И наладился обдавать Молчана, будто из брандспойта, потоками сварливых, ядовитых и зело обидных словес.
Вот и сейчас полилось таковое же!
И не выдержал Молчан, спросив у многолетнего советчика с неизменным критиканским уклоном, с чего бы взбух он на ровном месте. Уж не разладился ли нервишками по избытку годов?
А взбеленился внутренний глас, в точности, ажно тот осел из Царьграда! И возопил:
– С тобой любой обветшает до срока! – при том, что в очереди на регенерацию и омоложение придется стоять три века.
А мне еще и недоплачивают за вредность твою, зажуливают за переработки и не отстегивают за амортизацию моей сущности со дня прикрепления к тебе, когда женился ты и стал полноценным вятичем! О командировочных же и не мечтаю…
И посему, в знак внутреннего протеста, решил я: не стану перегружаться впредь!
Перестану просвещать тя! Тем паче, не в коня корм!
– С чего же баешь оное? – покривился Молчан от еще одной хулы.
– Да с того! Не развиваешься ты якоже личность! Не работаешь над собой! Зазубрив некогда тыщу слов на ромейском устном, на том и остановился.
Не растешь ни ввысь, ни вглубь, ни даже в сторону!
А самообразование для тебя – пустой звук. Истинно: пень пнем!
Смотри, переметнется от тя Доброгнева к тому, кто хотя бы буквы освоил.
– Да где ж я мог освоить их?! – неподдельно вспылил Молчан.
– Хотя бы и в Киеве! – там иные горожане уже и кириллицу разумеют. А чем занимался ты, в свободное от сходничества время?
Сам и отвечу: заглядывался на пригожих молодок, норовя и прилабуниться. Не раз и блудил вслед!
Меж тем, заказав у тамошних кузнецов, а размер они бы замерили сами, гульфик целомудрия из ковких металлов, упрятанный в портах, и отдав резиденту ключик от него – на весь срок в Киеве, мог пройти у монахов-книжников обучение не токмо буквам, а и числам.
Вот и остался бездуховным невеждой!
Брезгливо мне с тобой! Лишь о суетном мыслишь, да плотском! А где твои думы о непреходящем астрале?
Да и что с тебя взять!
Ведь даже твой старший родич, кумекавший на пяти языках, а со свейскими диалектами и на седьми, умел читать, опричь своей тайнописи для сходников, лишь по-гречески, да и то по складам. Письмом же не владел вовсе. А еще начальствующим был!
– Да отчего ж не срамно тебе?! – оскорбился Молчан, негодуя. – Разве не ведаешь о правиле: «О мертвых либо хорошо, либо ничего»?!
– О правиле таковом и впрямь не ведаю, ибо не было его от веков в статуте узаконенного предписания, нет, и никогда не будет!
А взять того же Путяту, разве не ты – да и не раз, перемывал его опаленные погребальным костром косточки, пущай и в душе? При том, что душа – истинное отражение твоего «я», а язык – лишь орган сокрытия твоих потаенных мыслей.
И не оспорить тебе меня! – можешь и не тужиться. Ибо каждый твой импульс отслеживаю, фиксирую и вынужденно запоминаю навсегда, не испытывая, поверь, никакой радости.
На житейском же уровне сию демагогию воспринимают лишь невежды, далекие от адекватности.
Ведь первоисточник из античности наделен совсем иным смыслом: «О мертвом либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Заметь, «о мертвом», а не о «мертвых», как переделали, убрав и «кроме правды», позднейшие пошляки.
Все ж и те недалекие, единою не утерпев, столь изложат о покойниках в близком своем кругу, что лучше бы и не замалчивали допрежь! Уж такова человеческая натура: долго в ней не удержится, и непременно вывалится, точно тесто, все замешанное в ней на дрожжах нетерпения…
Добавлю, что согласно твоей безмозглой логике, нельзя и слова худого молвить о любом серийном убивце, когда издохнет тот.
Как же опостылела мне земная тупость! – один примитив квакнет, а вслед все болото хором…
А вот Вольтер из дальнего будущего, а пращурами его были нынешние франки, ровно чрез седмь веков выскажет – в развитие приведенного у Диогена Лаэртского, со ссылкой на спартанца Хилона: «О мертвых – токмо правду!».
Прими, за неизбежное: не доживешь ты до сего мыслителя. Однако будь уверенным: солидарен я с той цитатой!
И когда намедни узнал о вакансиях для внутренних гласов на осемьнадцатый век, а и Вольтер значился в списке будущих подопечных, сразу и подумал: «Не я ли и подскажу ему?».
– Выходит, ты изменишь вятичам, ради иноземных франков, став предателем нашего племени в угоду чужому? – всколыхнулся Молчан, заподозрив.
– Отнюдь! Не изменю я, ради франков, и даже ради евро не изменю, грядущих через десять веков. Ибо не будут конвертироваться они в нашу виртуальную валюту и запретят их к оплате в астральных торговых точках. Шутка!
Не токмо люди уходят в небытие, а и великие государства. Смертна, к слову, и Ромейская держава, да и не одна она! Что до франков, долговечнее они окажутся, нежели вятичи.
Так уж преначертано свыше, и не мне, рядовому ноне чину астрала с чаяними вернуться к прежнему – на пять рангов выше, оспаривать сие…
Ты же – следуй своим путем, а прощу тебя, и моим советам.
Ибо верно сообразил Людогост: наметили тебя, единственного средь вятичей, для дела, судьбоносного для всей Земли вашей, и даже намного шире!
Так соответствуй избранности своей! Расти! Глядишь, и оправдаешь предначертание свыше…
LXX
Из Смоленщины беглый отряд направился от кривичей к вятичам, добравшись за десять дней до важного торгового пути. Там, рвением воротил новгородской торговли, наладили волок Ламский, по коему суда переволакивали из одного речного бассейна в бассейн Москвы и наоборот. А то, что Москва впадала в Оку, та же – в зело полноводную магистраль, именуемую тогда рекой Итиль, открывало дополнительные возможности для торговых экспедиций.
Здесь хитроумный Гамаюн учредил два скрытных дозора – по четверо в каждом, для постоянного наблюдения; один располагался у Шоши, другой – ниже по течению, у волока в московский приток Волошню.
Сам же, с остальной частью своей ватаги, отправился на дальние торги для реализации товара с тех трех повозок, а исполнив, начал грабить обозы на прилегавших лесных дорогах, поддерживая вместе с тем конную связь с наблюдателями у Шоши и Волошни, равно и меняя их на новых.
И год спустя, а в дружине его, разбойной, набралось уже боле полста, ударил он по новгородцам, переволакивавшим груз с ладей в Волошню и не ожидавшим такового подвоха, о коем в тех краях доселе не слыхивали.
Сеча была жаркой и не менее половины личного состава навек упокоилось. Однако и добыча оказалась столь обильной, что всем оставшимся в живых впору было завязывать с кровавой татьбой и мирно доживать в достатке.
Большинство так и решило, забрав свои доли, немалые. Благородный Гамаюн не стал укорять и препятствовать, а устроил засаду на пути отхода оных, и упокоил, силами оставшихся с ним, всех недостойных вольнодумцев, вернув и всю добычу их.
Увы! – после распри сей недосчитался он многих верных. А изъятое у изменщиков поделили меж выжившими по правилам Быляты…
У самого Гамаюна оказалось столь изрядно, что озарился он новой задумкой: «отмыть» свой криминальный капитал, приобретя ладью для дальних речных перевозок. И уговорил он Миролюба, тоже преуспевшего в накоплениях от награбленного, стать его компаньоном.
Сии накопления были переведены – для удобства при перевозке – в полновесные дирхемы, коими тогда предпочитали расплачиваться при крупных сделках, и потребовало оное изрядной ловкости, ведь искали их по всей Земле вятичей. А оставшимся соратникам своим он предложил участие в новом промысле – чисто торговом.
Вслед спешно откочевала ватага та к богатому торговому городищу, стоявшем на бреге Оки, где никто б не догадался найти их, ибо находилось оно в двенадесяти днях конного пути от волока у Волошни. Недалече разбили свой стан и стали хаживать на местную пристань, где, опричь стругов, останавливались и ладьи с торговыми товарами – на веслах и под парусами.
Гамаюн и Миролюб выдавали себя за ближних слуг богатого купца из дальнего града Смоленска, пославшего их в дальнюю торговую разведку, дабы изыскали новые рынки для продвижения товаров его.
А прибыли, мол, по суше, а не реками, по причине одновременной разведки обозных подходов к разным пристаням на Оке.
Прочих же с ними представили они своей охраной в многотрудном и опасном странствии своем. И никуда не торопились они…
Единою причалила ладья, груженая товарами и со стражниками, куда большая, чем те, что на Днепре и Москва-реке. Неудачным оказалось ее хождение по реке Итиль, называемой порой и Волгой, до града Булгара! Ибо, повстречав лодочную флотилию на веслах, еле оторвалась она, повернув вспять. И от огорчения стенал владелец, он же и кормчий ее, не ведая, как откупиться ему, убоявшемуся сразиться с речными разбойниками, от купцов, направившим его на торги в Булгаре.
Тут и пришел ему на выручку старший слуга смоленского купца, представясь Гораздом.
Вразумил он страдающего, что хозяин его выделил, помимо прочего, средства на покупку торгового судна, ежели выпадет таковая возможность, а цена окажется сходной. Однако не может он, Горазд, превысить отведенный ему бюджет! – иначе сурово спросит хозяин, и придется ему, растратчику, оказаться в разоре, а у него жена и пятеро детей, мал мала…
Оплошавший речник внял сему здравому суждению и согласился на скидку – впрочем, вельми умеренную. Сразу же встал вопрос: как с товаром быть, и кто его оплатит?
Горазд, почесав в браде, высказал: аще за полцены, может напрячься он – из личных накоплений за всю свою жизнь честную, а выше никак не может надбавить он, уж лучше самому кормчему отправиться на правеж и битье палками по иску купцов, коих он наказал своей трусостью.
И прикинул судовладелец и кормчий: возместив купцам половину стоимости за счет выручки от продажи ладьи, сможет со временем накопить на новую, а угодив на правеж, едва ли уже поднимется. И ударили они по рукам, скрепив сделку при свидетелях и в присутствии старейшин городища сего.
Сице названый Горазд и верный его помощник, многолетний, стали совладельцами вместительного речного судна и богатого товара за полцены.
Рассчитав стражников, они частью заменили их своими соратниками; рассчитали и команду, оставив лишь троих для подержания на судне порядка. И остались все на зиму в городище оном.
А поздней весной, с полной командой и тридесятью стражниками, направились под управлением бывалого кормчего, с тем же товаром, сбереженным, в тот же город Булгар. И вернулись с богатой выручкой, отбив в ходе плавания два нападения и отправив на прокорм рыбам многих злодеев, преступно посягавших на чужое добро…
LXXI
И тронулись они в дальнейший путь, навстречу ворогам. Однако опередила тех мшица, навалившись на обозных и лошадей сущим облаком. Вся, без исключений, женского пола, ибо гнус мужского питается лишь нектаром и соком растений, встретила она обозных восторженным писком, возликовав: «Пожаловали кормильцы наши! То-то изопьем кровушки!» …
«С той самой поры, как Путята уговорил меня в Царьград, не встречал я мшицы, столь изрядной!» – подумалось Молчану.
И живо припомнил он, как на другой год от рождения Храбра объявился, едва обзавелись дерева первой листвой, в городище их Путята – с тремя в сопровождении, меж коими и Шуй без малого перста на деснице, не уведомив о своем появлении загодя.
Сразу же и смекнул Молчан: неспроста сие! Лукавый старший родич, явно что-то затеял, намереваясь втянуть и его.
«Наново наобещает, а обернется по-иному. Не бывать сему! Хватит с меня охоты на тура!» – твердо решил он.
Однако ошибся младший родич! Понеже начал Путята с иного, уведомив Молчана, что привез ему обещанный турий рог, и аще захочет он, тут же и распорядится, дабы поднесли.
«Ежели дарят, то сразу! А сей, не иначе, петляет!» – заподозрил Молчан изворотливого старшего родича в отсутствии большого желания всерьез расстаться с главным своим трофеем, охотничьим. И гордо отказался от дара!
– Досадно оное, однако было бы предложено, – отреагировал Путята, не озаботившись изобразить даже подобие досады. – Я свое слово сдержал, а раз пренебрег ты, будет и впредь у меня храниться.
Все ж турьи рога – дело прошлое. А пора озаботиться нынешним. Не поверишь, приехал душу отвести, младость, давно прошедшую, вспомнить…
«Ни за что не поверю!» – подумал Молчан, непреклонно.
Однако согласился назавтра отправиться в лес, дабы узнать-таки причину приезда Путяты. Наутро и отправились они, не вполне здоровые из-за вчерашнего пира.
Когда прибыли и спешились, Путята приказал Шую:
– Мы тут потолкуем, а вы отправляйтесь за дичью. Ведь негоже возвращаться пустыми. Ищите и добудьте! А за лошадей своих не тревожтесь…
– Явно завлекать станет! – предположил Молчан. – Не поддамся ему!
Путята начал издалека, и не заметил младший родич явного завлечения.
– Сам помнишь, сколь предан я Земле вятичей, не щадя ни себя, ни иных, и равного в усердии сем нигде и не сыщешь боле! А посему любезно мне и отрадно, что столь привязан к ней ты, не мня и нос высунуть за ее пределы!
Любо сие! Горжусь я тобой! И в душе завидую…
«Отчего же не мню я? – вмиг подумал Молчан. – Всякое может быть».
… – Рассуди сам, сколь прав ты!
Еже вернется с дичью Шуй сотоварищи, и приготовит из нее твоя Доброгнева, вкус, конечно, много уступит царьградской птице фазан, испеченной на углях и начиненной отборной рыбой, однако свое будет, родное!
И не беда, что редька, кою подаст на закуску, далека от царьградского сыра неимоверной вкусноты, ибо приготовлен он из самого отменного молока и дозревает годами, да и запьешь квасом, а не вином из ягоды виноград. Зато воздух в избе твоей, когда ее изрядно проветрить, будет, пожалуй, чище царьградского. А любая наша блоха, кусачая, ближе к телу, чем зарубежная!
Зачем нам чуждые сыры, когда пахучи и наши онучи? Похвально чрево, целомудрие коего в запрете для иноземных яств! И во благо ему сие…
«Что за благо в целомудрии том?» – усомнился Молчан, ощутив, что было бы неплохо и слегка перекусить. Однако запах онучей не прельстил его.
… – Не утаю, что хорошо в Царьграде мясное. Представь: отрезаешь ты сей миг от нежнейшего окорока холодного копчения, а рядом – ломоть хлеба свежей выпечки и добрый ковш вина! Не раз наслаждался ими. Однако при сем всегда тосковал о жареной брюкве, нашенской, и березовом соке!
Что до оливок ихних и артишоков со спаржей, а и те зело вкусны, скажу, аки на духу: недостойны они истинных вятичей! Понеже располагают к неге и отвлекают от гордости землей своей, коя должна быть непреходящей!
Не оставлю без укоризны и морскую живность названием устрица, подлинно тающую во рту. Ибо должно оборонять нам патриотизм утроб своих!
Хрен да репа – вот наше истинное! Ими и победим…
«Предпочту побеждать, перекусив чуждым окороком с нашим тертым хреном. Не одолеть нам Киев на одной репе!», – мысленно оспорил Молчан.
… – И не утаю: сладостью своей и сочностью порочны плоды названием персики супротив наших яблок! – ведь косточки в них, а не семечки. О плодах же названием финики и айва, кои еще слаще, не стану даже упоминать…
«Извел меня он рассказами о царьградских яствах! Невмочь боле! Прерву разговор сей и кинусь в чащу – хотя бы листьев младых пожевать. И пусть Путята винит самого себя!» – изготовился уже Молчан.
Однако, почуяв сие, старший родич перевел на иные искушения. – И все же, – молвил он, – ни персики, ни финики, ни айва не столь порочны сладостью своей пред истинными вятичами, аки мужатые прелюбодейки из того же града, блудливого, равно и царьградские девицы, презревшие добрачную непорочность. Не встретишь у них отказа! – еще и скидку предложат. А кто покажется им особливо пригожим, вроде тебя, вовсе не потратится!
Вот она, скверна во плоти! – сегодня один задарма, завтра – иной, а на третий день рухнет рынок платных услуг. И что впредь?! Сущая скорбь одна да реформ руины!
Радуюсь, что не испытаешь сего, ведь не поедешь в Царьград, куда собирался направить тебя на подвиги во благо Земли вятичей.
Однако вовремя опомнился я, узрев, сколь доволен ты бытием своим, размеренным, ибо нет соблазнов в нем, благочестивом, как наш погребальный обряд! Да ты б и сам отказался из-за постоянства своего, преданный жене своей, охоте и рыбалке.
Вельми счастлив я, как старший твой родич, что полагаешь ты постылыми иные радости жизни, нежели в твоем городище! И хотя молчишь, четко ощущаю, сколь презираешь чужестранное обжорство вкупе с иноземной похотью, и нашенская еловая шишка дороже тебе всех персиков Царьграда!
И в самом деле, зачем тебе, лесовику, соблазны оного великого града с площадями его, дворцами и торгами, любой из коих в три раза боле твоего городища, поелику съезжаются на них со всего света и даже черные кожей? Разве жаждешь ты ароматов заморских благовоний, ежели и запах лесного зверя вполне хорош? Не для тебя чуждые поцелуи, изощренные, от коих у любого все всколыхнется разом! Излишни они, аще под боком старая жена! – здесь подразумеваю я: одна и та же – из ночи в ночь, а отнюдь не лета ее.
И троекратна правота твоя в презрении растленного Царьграда!
– Да с чего решил ты, что презрел его я? – отозвался, наконец, Молчан.
– Из-за затворенных уст твоих, – возликовал в душе коварный искуситель. – Раз молчит он, не подавая гласа, рассудил я, то согласен с правдой моей! Не выступает поперек!
Да и к чему тебе самому вкушать те яства? – ведь расказал уже о них, и вполне достаточно оного! И разве привлекут тебя тамошние прелестницы, от коих и очей не оторвать? Ведь навязчивы они, хотя и обворожительны своей лепотой, безмерной, и до того сладострастны, что и описать никому невмочь! – лишь вздыхать, вспоминая…
Сам удостоверишься в том, когда очаруются тобой, чужеземным молодцем, а падки они на таковых торговых гостей, и предлагаться станут!
И осмысли: зачем сие, когда и одной жены тебе за глаза хватит от чистоты твоей? – духом, а надеюсь, и телом…
«Без тебя разберусь, зачем, побывав в Царьграде!» – подумал Молчан.
Вслед огласил он:
– Ежели надобно для блага вятичей, готов я к подвигам!
– Что ж, – нахмурился старший его родич, возликовав в душе еще пуще. – Аще так, не имею права перечить! Хотя и скорблю…
Однако, допрежь прочего, обязан предупредить тебя о возможных опасностях. Понеже не в лес направляешься, а в Царьград!
Начну с любострастия, а иное, столь же чреватое, обсудим вслед.
Перво-наперво, никогда не доверяйся царьградским обольстительницам! Ведь по вечерам заманивают они беспечных и самонадеянных. И все они, подхибетные, станут лестью тебя дурить: мол, не видывали мужей, столь справных. Аще клюнешь на то, пропал!
И запомни: чем осторожнее водишься с таковыми, тем реже и к знахарям пойдешь, любящим заламывать цены. Да и в прочем накладны прельщения на стороне! – ведь недешевы серебряные браслеты, цепочки, серьги и иные украшения. А в Царьграде еще и злато чтят, что даже серебра дороже!
А дабы не укорил ты меня в преувеличениях, расскажу тебе самую достоверную историю, имевшую быть не столь давно. Хотя и опасаюсь я, что окажутся втуне все предостережения мои, и не на то растратишь дирхемы…
Был в Царьграде некий шинок, где в потаенных комнатах находили отдохновение знатные горожане, боле иных привечавшие дочь шинкаря, именем Анастасо, прекрасную и безмерно блудливую. Всегда к ней живая очередь, а товаркам ее приходилось набиваться самим. И уже вскоре слава Анастасо вышла за пределы Царьграда! Елико жеребцов заездила, и не сосчитать!
Во, кобыла, лихая! Сам бы рискнул взнуздать таковую! – воскликнул Путята, озарившись неким внутренним огнем, блеснувшим в очах его.
Впрочем, спохватившись, тут же добавил он, из праведности своей:
– Однако сие – токмо в интересах службы моей, нашей Отчизны ради!
И продолжил:
– А как-то раз забрел в тот шинок и наследник престола Роман. И впечатлился он Анастасо! Пошел туда во второй раз, и в третий, а на четвертый предложил стать женой его, ибо иначе не мог пресечь тех, кто честно соблюдал очередь. И снизошла она до него!
Поменяла имя, став из Анастасо Феофано. Выгнала из дворца сестер Романа, заточив их в монастырь, и умерла от горя мать Романа. А в браке, не довольствуясь лишь мужем, родила двух сыновей – возможно, что и от Романа, один из коих, Василий, сегодня и правит.
И сказывают, заласкала Романа до смерти, ибо неистощимой была, а вскоре вышла замуж за Никифора Фоку, ставшего следующим василевсом. Однако и сего показалось ей мало! Решила стать василиссой в третий раз! И приблизила к себе военачальника Иоанна, армянским прозвищем Цимисхий, что означает «туфелька», понеже тот армянином был, Гургеном от рождения.
Славный был вой сей, падкий до хмельного и юниц! И несмотря на малый рост свой, никого не страшился и всех побеждал. А под Доростолом, болгарским, предложил поединок Святославу Киевскому – испытанному бойцу. Мол, обойдемся без войсковой битвы: аще ты меня побьешь, сложат оружие все мои ратники, а одолею я, сложат оружие твои. Однако отказался тот…
Единою поддался Цимисхий уговорам Феофано! И ночью ввела она его с подчиненными воинами в спальню Никифора, где убил он своего родича, раскроив ему череп. Однако оный Иоанн не дурак был, и воссев на трон, незамедлительно изгнал любовницу свою, опасаясь, что та захочет стать василиссой в четвертый раз… Вот каково коварство царьградских обольстительниц!




