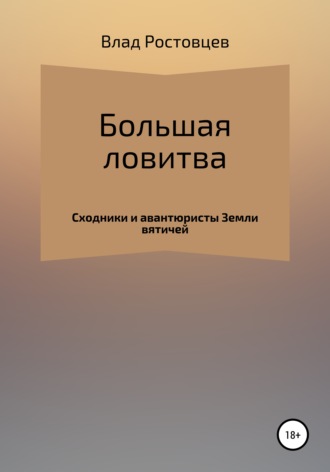 полная версия
полная версияБольшая ловитва
Открываю тебе сие, предполагая, что возмужал ты, и оцени мое доверие!
«Премного благодарен я!» – осклабился в душе Молчан…
… – Пора и о деле. Не стал бы тревожить тебя, а пришлось! Есть у нас скрытная связь с Царьградом, и не одна. И у каждой – собственная тропа.
Намедни узнали мы, что на самой надежной из них, уже недалече от Киева, а от Днепра до Царьграда есть водный ход, пропал наш связной с устным донесением особой важности. Грешим на лесных разбойников, однако допускаем захват киевским сыском и даже измену – либо его собственную, либо кого-то из начальствующих, либо в самом Царьграде кем-то из наших.
Допуская оное, не можем использовать, пока не разберемся, в чем дело, оный проверенный путь. Не можем послать и иных подготовленных курьеров: аще измена у нас в руководстве, где знают каждого из них, не дойдут они!
Посему избран новый путь, о коем ведают всего трое: я, подготовивший его, начальствующий мой, да Шуй – на полном моем доверии.
С каковой стати избран освоить его именно ты – под видом купца?
Никто не ведает о тебе – ни в нашей службе, ни в ромейской, ни в киевской. Чист ты пред иными сысками! Значит, ноне и охотиться за тобой не станут. А дарований к исполнению у тебя на троих хватит!
Понимаю: собираешься спросить, когда отправление твое и как осуществится оно. Вем, что чрез три дня намерился ты с обозом на весенние торги, ведь ноне подсохло много ране обычного. Когда доберешься туда с товаром, тебя и встретят – главным будет Шуй. И ни о чем не беспокойся дале!
А жене своей откроешься вечером накануне отъезда. Объяснишь, что отправляешься с доверенными людьми на иные торги, дальние, где взлетели цены на пушнину. Посему задержишься чуть не до зимы, зато и вернешься с большой прибылью. Ежели любит, а любит она, поймет и даже наперед простит! С малым же помогут твои и ее родители – благо, в силе еще и здравии.
Не приглянулся я ей, явно заподозрившей меня в недобром. Извиняю оное! Ведь откуда жене твоей ведать, елико пекусь о благополучии ее мужа!
«Сколь понимаю я Доброгневу! – подумал Молчан. – Такового лицедея, пожалуй, нигде не сыскать. Однако красиво врет! – порой и поверить хочется».
– Придя к солидарности в главном, переходим к подробностям, – молвил старший родич. Тут-то и налетела безмерная мшица…
LXXII
И следующие шесть лет не простаивала в навигацию их ладья! Неоднократно выходил на ней и новоявленный Горазд, а еще чаще – верный помощник его, именуемый уже Благославом, настолько заросший брадой, чуть не до зенок, что и не признать было в нем ни прежнего Звана, ни прежнего Миролюба. Да и все остальные, кто прибыл с ними, поменяли свои имена на иные.
Ходили по одному и тому же маршруту – от городища того, обустроенного в месте, где в Оку впадала река Серебрянка, кое, разрастаясь, все боле напоминало малый град, до Булгара и обратно. Ближе – к центральным территориям Земли вятичей, не спускались они из предосторожности, не забывая, что находится там и волок у Волошни, и не желая подвергаться риску…
Булгар, основанный за век до того на месте впадения в Итиль реки Камы, с замечательно оборудованной гаванью, являлся тогда главным торговым центром на реке Итиль до ее низовий. Ежегодно сюда прибывали на ярмарку со своими товарами торговые гости из многих краев, включая варяжский Север, арабские Багдад и Дамаск, Испанию и даже Китай. А у иноземцев шли буквально нарасхват булгарские ювелирные изделия, кузня, кожи, лес и мед.
Ладья Горазда и Благослава доставляла туда, на преогромный Ага-Базар, пушнину – бобров, куниц, горностаев, бобровую струю, бобровый жир и даже бобровый пух, изделия ювелирного промысла вятичей, среди коих особливым спросом пользовались плетеные перстни и витые гривны, не упоминая уже о семилопастных височных кольцах, не изготовлявшихся боле нигде в мире, продукцию косторезных мастерских, льняные ткани и выделанные кожи.
За баснословную цену шли осмоленные дубовые бочки со знаменитым далеко за пределами Земли вятичей ставленым медом, выдержкой от пятьнадесяти до двадесяти лет. Хмельной напиток сей даже самими вятичами употреблялся лишь на главных пирах и был доступен немногим; потому и на ладью погружалось каждый раз не боле двух-трех бочек. Охотно брали в Булгаре воск, а вот мед шел чуть хуже, ибо в приоритете был там тот, что добывался бортниками Булгарии.
В свою очередь, они изрядно и закупали в Булгаре – для прибыльной продажи по возвращении: оружие, янтарь, моржовую кость, вина, пряности, богатые одежды и украшения, стеклянные сосуды и бусы, пурпур и шелка.
Торговые дела велись столь успешно, что на пятый год прикупили они еще одну ладью. Казалось бы, живи и процветай! – пользуясь уважением всех купцов честных, ежели таковые бывают на свете белом, равно и бесчестных.
И вдруг, нежданно для самого, заскучал Горазд! Возжелал он старое вспомнить, взбодриться духом явного риска, потешиться над людишками, дрожащими, одолевая их и казня, да схлестнуться с ворогом, равным себе.
«Не те еще лета мои! Успею погрязнуть в богатстве. А ноне встряхнуться хочу! Не тщусь стать нищим и голодающим, как по приходе в Изборск, однако опостылели перины и яства. Елико лет не спал на подстилке хвойной, а вкус требухи коровьей уж подзабыл почти!» – вывел он для себя.
Истолковывая в современных понятиях, затосковал он по адреналину, и захотелось ему драйва, точно в лихие младые лета его!
И начали сниться ему былые разбойные подвиги – с неизменным экстримом, где в азарте боя, не устрашаясь стрел и сулиц, равно и копий с топорами, прегордо упиваясь собой при том, крушил он охрану любого обоза! Известно ведь: первая любовь никогда не ржавеет и всегда помнится!
А единою явилась во сне и первая его любовь в области сердца. И укорила: мол, роскошествуешь ты, накопив на крови, а я, горбатясь всю жизнь и не воруя, худо живу от праведности своей! Где ж справедливость тут?!
И попытался он вразумить ее, что праведность вознаграждается лишь в сказках, ибо жизнь – иная совсем: не для овец она, праведных, а для клыкастых волчар, коих кормят и поят грехи их! А разбои с убийствами останутся необходимой стадией первоначального накопления капитала и тыщу лет спустя. Когда большой бизнес по щиколотки в крови – се норма, а не злодейство!
Не ответив, Млада махнула десницей, укоризненно: дескать, что с тебя, упыря, взять, и растаяла, аки облачко…
Пробудившись, обрел в себе Горазд Жихоря до Гамаюна и живо припомнил, что до сей поры так и не рассчитался с Молчаном за сердечную любовь свою двадцатилетней с лишком давности. Ведь недосуг было!
То очищение сортиров в Изборске – муниципальных и частных, где скопытился б от смердящей загазованности любой террорист, не успев и помочиться, то скорняжная мастерская, где предуготовлял дерзкое хищение, то узилище во Пскове и побег из него, то лесные разбои – окрест реки Торопицы и дале, то бегство на Смоленщину – с охраной там торговых обозов, завершившейся реквизицией крупной партии мехов, то новые разбои и налет на переволоку у Волошни, то бегство в иные места, то покупка собственной ладьи, то навигации по Оке и Итилю, то хлопоты по преумножению своих накоплений.
Не до сведения старых счетов, ежели столь разбрасываешься!
Ноне же сосредоточился он и нацелился: приговорить и исполнить!
«Не вем, жив ли еще сквернавец сей, а буде жив, точно упокою его, хотя и не стану пред тем мучить – по доброте своей!» – накрепко решил он.
А чрез считанные дни, основательно обдумав, обратился к Благославу, и не поддался на его отговоры!
По окончании долгого спора рассудили они, подытожив: Благослав остается на хозяйстве, а Горазд, нутром полный Жихорь, а отчасти и Гамаюн, уйдет – по окончании навигации и до следующего лета, будто в отпуск без содержания. И с неохотой согласился Благослав на резоны Горазда.
Ведь самое благое дело – наказание за оскорбление, бывшее без малого двадесять два года тому! Чем дольше ждешь, тем больнее мстишь!
Бывалый лиходей, много повидавший и испытавший, не раз и смерть в глаза видевший, Жихорь провидел и немалые трудности в осуществлении своих противозаконных намерений.
Перво-наперво, надо было собрать собственную ватагу и натаскать ее, начиная с мелких грабежей, непременно и повязав каждого кровью.
Понятно, что общий ее уровень не мог быть достойным, ведь набирать придется либо из новичков, жаждущих острых ощущений, не подозревая, сколь чреваты они, либо из отщепенцев воровского мира.
Ибо все дельные в том сообществе не пойдут в банду без громкой славы, что добычлива она и справедлив дележ в ней, а вожак – истинный хват.
А некому было замолвить слово за Жихаря, ведь за охранную деятельность на Смоленщине полагалась ему, по криминальным понятиям, не одна лютая казнь, а от властей заслужил он, за грабежи и кровопийства, и того боле.
Да и не стремился он напомнить о деяниях своих, громких, понимая, что в случае оглашения их, непременно дойдет до сыскных, и конец ему, неминучий! А не о том мечталось Жихорю!
Выход представлялся ему один. Решая кадровую проблему путем собеседований, определяя при сем, не засланный ли, презреть выпячивание себя, не обмолвиться и словом о былых подвигах своих, за кои до сих пор жаждут посадить его на кол не мене, чем в трех землях на Руси. А все же дав понять, что человек он сведущий и рисковый, способный научить многому и лишенный чрезмерной корысти при дележе добычи.
Понятно, придется и вынужденно опроститься – почти до уровня второсортного люда, набираемого им в артель особого свойства, обозначив себя лишь чуть выше их, сообразно своему главенству в банде. Ведь с манерами богатея не будет правдоподобен он, и вызовет подозрения!
«Обозначу себя Берсенем – с немалым разбойным опытом, бежавшим из Новгорода, никого из ватаги своей не подставив, по ограблении гостей варяжских, а те наябедничали посаднику, любящему мзду.
И будет ко мне приязнь, понеже наказать пришлецов – самое достойное дело, а власть у нас все ненавидят за ее непреходящую продажность!» – определился Жихорь.
Однако допрежь необходим был указчик, выводящий на человека с некоторыми знакомствами и авторитетом – хотя бы и небольшим.
LXXIII
– А вот в Царьграде – никакой мшицы! – подумал Молчан, вовсю отбиваясь от токмо что налетевшей. – Да и откуда бы ей? Лесов в нем нет, лишь парки. Зато мух полно! – особливо в мясных рядах. А еще пуще там домовой напасти, именуемой ромеями «корис», что таится в лежанках, а может и с потолка на тебя прыгнуть! Измучила меня она на подворье в предместье имени ихнего мученика Маманта, где проживают купцы с Руси, ведь кровь мою пила!
Сице и главный наш в Царьграде окончательно поверил мне, еже узрел, что расчесаны руце мои аж до ссадин, высказав: «Не сомневаюсь, в каковом подворье остановился ты – все там чешутся!»
И вспомнил он о встрече их в конспиративной сапожной мастерской. Взойдя туда и раздвинув приоткрытую на палец дверь, Молчан удивился, сколь мала она – с трудом помещались в ней даже заготовки, инструменты и приспособления. Сам хозяин, он же единственный работник, аккуратно вгонял деревянные гвозди в подошву сапога, стиснутого меж его колен.
Наведался он туда чрез много дней от прибытия. А допрежь не соблюдал, отнюдь, наказ старшего родича: «Прибыв в Царьград, именуемый у них Константинополем, и разместившись, где и прочие с вашего судна, избегай прогулок по городу, допрежь не продашь весь товар! Иначе сразу же и заподозрят тебя…
Выполнив же все, что поручил тебе, можешь и расслабиться, расхаживая, елико душе угодно, до дня отплытия. Непременно не забудь о подарках жене, да о погремушках малому. И не увлекайся иным!»
Все приметы, обозначенные Путятой, оказались налицо.
Хозяин предстал малорослым и невзрачным: с куцей бороденкой, жидкой, и таковыми же усами, с карими зенками и прорехой на темени, величиной в гусиное яйцо. Еще и курнос.
И вряд ли начальство доверило бы ему скрытные задания в гинекее – женской части дворца василевса. Не преуспел бы он! Разве что став евнухом, пожертвовав заветным при исполнении служебных обязанностей…
Ощупав Молчана зраком, исполненным полного недоверия, хозяин не проронил и слова. Пришлось отворять уста незваному гостю.
– Кланяется тебе тот, у коего зажулил ты резану, да и не возвратил! – молвил Молчан тайные слова от Путяты.
Хозяин злобно зыркнул, однако вместо ясного ответа забормотал по иноземному, явно закашивая под непонимание. Путята и сие провидел!
И повторил Молчан, уже с прибавлением:
– Кланяется тебе тот, у коего зажулил ты резану, да и не возвратил! И сожалеет, что не лишил тебя зубов, еже приезжал ты запрошлым летом.
– Напугал сей ежа голым задом! – обрел вдруг хозяин родную речь. – А ты излагай по делу!
– Велено было мне передать: «Не тронь сыча в дупле: не время! Немедля, смени гнездо на иное! А филин сам прилетит!» Что означает сие, не ведаю.
– Еще бы ведать тебе! Соплей не вышел! – фыркнул хозяин. – Однако плохо расслышал я, кем послан ты. Опиши его…
– Твоих он на вид лет, хотя и без плеши. А ростом пониже ты. Очи голубые. Балагур и повадками хват, – уклончиво отобразил Молчан.
– Да, да, да – припоминаю, будто бы! Кажись, ведал я такового – вроде, и точно встречались запрошлым летом. Еще и убыток у него в зубах нижних…
– Никогда не зрел оного! – решительно опроверг Молчан.
– И быть того не может! Запамятовал ты… А! Се я сам перепутал с брадой его черной…
– Не черная она, а русая! – отреагировал Молчан, впадая уже в гнев.
– Твоя правда: русая! И зубы все на месте…
Он, истинно он, знакомец мой старый! А ты не серчай: порой хвораю памятью…
– Нет у него двух зубов сверху, коли так допытываешься. Еще и об его причинном месте вызнай! Не отрок пред тобой, а муж! Плюну тебе под ноги, и вон пойду! Побежишь тогда за мной по улице, – взъярился Молчан.
– Да будет тебе! Не гоношись! Уже и пошутковать невмочь…
– С иными шуткуй! А со мной – забудь! Ничем я тебе не обязан!
– Живо охолонился бы ты, окажись в моем подчинении!
Однако пора пресечь сию прю. Признаю: неправ был…
Тому же, кто направил тебя, передай, как вернешься – слово в слово: «Не трону! Сменю! А филин пущай поторопится!». Не вздумай позабыть!
Повтори, что сказал! Да громче! Не запнулся? Оное и лучше…
Что не перепутал, хвалю! Можешь передать сие направившему тебя…
Да не в родстве ли ты с ним? В чем-то смахиваешь ликом…
– В самом дальнем, – отчасти приврал Молчан, соблюдая конспиративную предосторожность, однако не заподозрив: все одно оплошал он, по разумению резидента Секретной службы вятичей в столице ромеев.
– Эх, ты, зелень! Зря себя мужем мнишь!
Я спросил, он и признался! А для сыска нет разницы, что лишь в самом дальнем. Аще состоишь в родстве, стало быть, дал ниточку, потянув за кою, можно распутать клубок, а за ним и на скрытное гнездо выйти!
А ежели начинается та ниточка с тебя, окажешься крайним – должны же кого-то назначить виновным, коли открыли дело, а клубок оказался ложным. И закончишь свои дни в узилище! – при том, что в граде сем тебе еще и гашиш подбросят: есть у них таковое средство.
Да кто ж выдает сокровенное первому встречному? А будь я ворог?!
Сразу очевидно: не из наших ты! Ведь из нашего не вытянешь таковое и клещами! Спроси у него посторонний, чихал ли он давеча, и то ни за что не откроется! Не говоря уже об икоте и вспучивании утробы от гороха…
«Совсем ополоумел сей скрытник! – вывел тогда Молчан. – Рядом с ним даже Путята – откровенный самый! Оный не разрешит подчиненному и до ветра сходить, допрежь тот не вспомнит тайного слова!»
Впрочем, расстались они почти радушно. Хотя хозяин взял с Молчана обязательство: никогда не заглядывать к нему впредь!
Обо всем, что случилось с ним вслед, не любил вспоминать Молчан, и всчески гнал от себя мысли о прискорбии том, обернувшимся печалями многими и могучим щелчком по тогдашней его гордыне, что наперед и к лучшему.
И неправедно винить его любому, претерпевшему от опрометчивости своей, блудной. Пусть припомнит свои курорты, когда жена оставалась дома!
Неискушенный провинциал на первом задании, оказался окружен он пучинами столичного непотребства. Утлый челн прежней его чистоты, врезался в айсберг царьградского разврата, коварно направленный навстречу ему двумя нештатными осведомителями ромейского сыска и ренегатом иже с ними. И прощай, порушенный «облико морале»! – доселе не початый, понеже всерьез никто на него и не покушался.
Сице и предался он творению прелюб! Хорошо хоть, живота не лишился…
Бесспорно, что Молчан понапрасну не внял предостережениям старшего родича, коему многократно приходилось жертвенно растрачивать себя, исходя из благородных надобностей скрытной его службы, во имя священного долга и высших идеалов, даже и в царьградских блудилищах, названных так пламенными обличителями из тамошнего монашества.
Однако далеко не каждому выпадает счастье состоять в секретных службах, жертвенных, равно и в действующем резерве под прикрытием, где растрачивают себя еще интенсивней.
И что там ни говори, соблазны всего слаще, когда по собственному влечению! А окорок куда заманчивее репы…
LXXIV
Справившись у доверенных соратников по налету у Волошни, зело почитавших его, ведь все стали в городище том уважаемыми людьми с постоянным доходом, а многие и обзавелись семьями, вышел Горазд, он же Гамаюн, а от рождения Жихорь, на Шестака, ноне Веденея.
Допрежь тот был из первых в любом налете и умельцем выпытывать любые секреты, держа жаровню под чуждыми пятками, а ноне, перевалив за тридесять, состоял владельцем немалого дома с баней за ним, кузни с тремя мастерами, однодеревки, куда вмещались шестеро – для водных прогулок и рыбалки, да и участка с прудом – под прибыльное разведение на продажу гусей и уток. Еще владел двуконной повозкой и породистым жеребцом для выезда.
Имелся у него меньшой брат, именем Осьмой – последыш. Шестак же, шестой у родителей, был старше того на три года. Прежде прохладно относясь к нему, Шестак проникся к Осьмому, когда тот, еще мальчонком, пискнул за него супротив взбеленившихся бездельных родителей.
А те умели токмо плодиться. И ленились даже придумывать имена своим детям, обозначая их как бы порядковыми номерами, начав с Первуши и Вторака. Вот и клянчили у кого могли и всегда спешили пораньше спихнуть на сторону сыновей, едва выходили они в установленный пятьнадесятилетний брачный возраст, избавляясь от голодных ртов и получая отступное за них.
Поводом для лютой ссоры, где Шестака зело чернили, стал его отказ жениться на перезрелой и побитой оспой дочери горшечника Гатеня. Сей посулил родителям за шестого их сына приплату из козы, двух несушек и поросенка на вырост. И не досталось им ожидаемых двух яиц в день, молока от козы – не обильного, а все ж не сравнить с козлом, и будущего борова для продажи на мясо, хотя загадка, чем откармливать его, равно и кур, ведь в семье никогда не оставалось объедков, а вылизывая миски, полировали их языками.
Мыслимо ли было упустить таковое богатство?! А упустили…
Минули годы. Шестак, сбежав из дома вскоре после распри, четыре с лишком года бродяжничал, питая тягу к странствиям. И кормясь от разовых подсобных работ в городищах и селищах на путях своих, равно и мелкого разбоя, когда встречал одинокого путника, добрался до Смоленщины, где сколотил из сверстников малую артель, промышлявшую на выездах с торгов.
И совпало, что незадолго пред тем прибыл в Смоленск беглый Жихорь, став в одночасье Гамаюном и начав формировать команду свою из местных.
Высмотрев Шестака, расположился к нему Гамаюн, обнаружив самородке от кистеня незаурядные данные вкупе с полным отсутствием сдерживающих нравственных начал. А вслед предложил ему охранную службу в безоговорочном подчинении себе, посулив и припугнув. И пошел младой Шестак в рост, ибо смекалист был и ловок, предусмотрителен и осторожен, дисциплинирован при исполнении приказов и не страшился проливать кровь.
А в знак особой симпатии Гамаюн поставил его надзирать над тем гулявым домом повышенной доходности.
Когда ж рванули они из Смоленщины с особо ценными товарами и домчали до Земли вятичей, Гамаюн доверил ему командовать скрытным дозором у реки Шоши. Чрез месяц его сменили. Вслед принял деятельное участие в четырех налетах, отличившись в них.
И затосковав вдруг, единою попросился у начальствующего отпустить его на недолгую побывку в родные места – в городище у реки Клязьмы, где не был со дня побега от родителей, поелику ностальгия возможна и у серийных убивцев. Гамаюн – внял и разрешил. Однако воспретил задержку с возвращением, предупредив: намечено большое дело и вскоре он будет нужен тут, состоя в доверии. Настрого же наказал Шестаку: ни слова, кто он, да откуда, даже и самым близким, у коих есть языки и соседи – всегдашние доносители сыскным, и пусть изготовится, что нескоро повидает те места вновь.
Прибыв, обнаружил он, что местный люд в основном живет нескудно – за счет развитых ремесленных промыслов, пристани для судов с товарами и большого торга на набережной; стало быть, есть кого пограбить, аще надобность. Доводя до встреченных знакомых с детства, что он, проживая в славном граде Муроме – не роскошествуя, зато и не голодая, заехал проведать родичей, начал искать Осьмого – единственного, кто ему интересен был; родителей же пожелал видеть не, хотя и дошло до него, что обнищали они, хуже прежнего, оставаясь в бездельности и перебиваясь подаяниями.
Не сразу, а нашел братца-последыша. Тот явно не процветал, обитая с двумя таковыми же в заброшенной прежними хозяевами двухуровневой полуземлянке с бревенчатым срубом, возвышавшимся от земли примерно на два локтя, и выложенным деревом дном.
Завидев старшого, однако не поприветствовав его, несмотря на долгую разлуку, взмолился Осьмой, что оголодал он – уж брюхо урчать перестало, и случится худое, аще не насытится разом!
И когда добрались они до набережной, а Шестак даже вприпрыжку едва поспевал за Осьмым, меньшой изумил бывалого злодея, в коего немало влезало, однако куда ему! Ибо тот умял в один присест два курника, по пирогу с визигой, с зайчатиной, с капустой, да и с яблоками, запив четвертью кваса!
Завершив, зычно рыгнул, и наконец высказал радость от встречи со старшим братом.
Из последующей беседы выяснилось, что Осьмой несчастен по жизни, зане постоянно не везет ему, а с юной женой пришлось расстаться, ведь выгнала его по козням своей матери, как, якобы, нахлебника и дармоеда, и не пустит обратно, ежели не станет кормильцем, чего не вожделеет он. Не берут его в торговое дело, не обучен он ремеслам, а в артель рыбарей сам не желает, понеже не умеет плавать и страшится утопнуть.
И с горечью осознал Шестак, что нет в последыше сем привычки к добычливому труду, аки у него самого, а склонностью к праздности пошел он в незадачливых родителей.
А все же меньшой брат! Надобно попробовать направить его в нужное русло – вдруг, и получится? Тем паче, имелись у Осьмого в детстве и некоторые достоинства, кои, возможно, не пропали еще. Не робок был, соображал отчасти, верховодил средь своих сверстников. И решил Шестак наскоро обучить брата тому, что искусно умел сам, трижды показав ему на деле, как вечерами и в сумерках грабить на окраинах подгулявших обывателей.
На четвертый – вручив кистень, стоял уже поодаль, будучи готовым прийти на помощь. И с удовлетворением увидел, что Осьмой справился и сам. Добыча оказалась небогатой, а все ж хватило бы на три пирога. «Отныне не околеет с голоду, – подумал наставник. – Вывел его на путь истинный!»
Меж тем, приспела пора для срочного возвращения. На прощанье Шестак научил меньшого, как привлечь ему для уличного разбоя и тех двоих, тоже бездельных, кои делили с ним убогое жилище.
Подарил ему тот кистень и еще два, втайне приобретенные на торге. А ножами пущай обзаводятся сами! Дал еще несколько практических советов, пожелал удачи в первом для него промысле, ибо иных и не пробовал он из лени.
И наказал:
– Увидимся вновь нескоро. Не пытайся искать мя, все одно не найдешь! И никогда не упоминай имя мое в разговорах! – не то без головы останешься, и никто не спасет.
Ежели решу передать тебе весточку, прибудет человек надежный. Верь ему, когда предъявит знак, тайный. Вот он! Ломаю гребень, купленный ноне: одна половинка – твоя, а себе оставляю иную. Когда встретитесь, приложи свою половинку, с коей никогда не расставайся, к той, что предъявит он. Все его слова моими будут! – исполняй в точности! И прощай на время…
Оный Осьмой и стал единственной зацепкой для Жихоря. Он не возлагал на нее больших надежд. Ведь за годы, прошедшие от встречи Осьмого со старшим братом, запросто мог оказаться тот в узилище, мог голову сложить, мог откочевать куда-то, и не сыщешь. Не мог он токмо остепениться и принять образ жизни добропорядочного обывателя – в сие Жихорь решительно не верил, обдумав рассказ Шестака об его меньшом.




