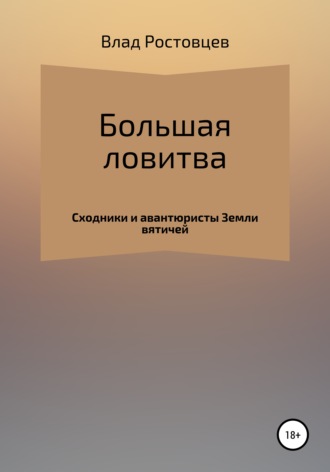 полная версия
полная версияБольшая ловитва
И не отвертеться ему! Вследствие чего каждый из трех нештатников получил бы вознаграждение в размере годового оклада тайных осведомителей низшей категории. Понятно, что Никетосу и Басалаю надлежало, по справедливости, отстегнуть Фоме по две трети от наградных, хотя не наработали они и на остаточную треть! Ноне ж и Юлии, будь у нее потаенная совесть и секретная честь, следовало отдать взад половину солидов, составивших ее долю из конфискованной мошны, за допущенный брак и перенесенный организатором стресс. Однако зело сомневался Фома в наличии упомянутых моральных качеств…
XXIX
– Да уж продолжи! – чуть не взмолился Молчан, сей миг осознав свою оплошку.
И прекрасно понимая вящее разочарование младшого, а рассвет уже проявился во всей красе, одновременно желая избегнуть даже малого раздора в канун боя, молвил уязвленный в душе Путята, снизойдя до Молчана:
– Утешься! Зане не утаю, что было с Булгаком, еже он упустил мя в Киеве. Буду краток, а то уж пора подымать отряд.
Послали его, разжаловав из тиуна, на исправление, в Царьград – под видом толмача. Там завсегда ошиваются посланцы от Киева. А Булгак шпарит по-гречески, не хуже, нежели я.
Добавлю, что наказание могло быть и строже, да в Киеве, пока шло долгое расследование, переменилась власть. И воссел Владимир-князь, поставивший в начальствующие над тайной службой киевской своих людей, близких ему еще по Новгороду.
А те, памятуя, как Булгак привечал их в Чернигове, замолвили за него слово перед Владимиром, дабы разжаловал, а все ж не упек в узилище. Понеже, применительно к чину тиунов, во всем княжестве Киевском только князь, и никто иной, имел право вершить суд над ними…
– Ты и язык греков ведаешь? Откуда сие? – не сдержался полюбопытствовать Молчан.
– В Киеве чему не научишься! Однако сами они именуют себя ромеями, – туманно ответил бывалый конспиратор.
И младший его родич понял: ничего он не скажет боле, а откроется не прежде, чем захочется ему самому.
– И никто не распознал его? – вернул Молчан рассказ в прежнее русло.
– Незачем и распознавать было: тамошний сыск загодя ведал, кто таков Булгак, еще и не приплыл он.
– А как же прознали о нем? – вновь не утерпел младший родич.
– Нашлись таковые, кои уведомили греков, – не утаил Путята, ничего боле не прояснив.
«Любопытно мне, кто сии таковые? Уж не сам ли Путята?» – мигом прикинул Молчан.
И ложной была его догадка! Старший родич, чудом успев умчать из Киева после предательства связного, зализывал в то время душевные раны, на кои придирчивое и желчное начальство периодически подсыпало соль.
И оные печали отчасти утолило лишь награждение мечом-скрамасаксом, аки почетным боевым оружием. А на перспективу ему посулили за грядущие подвиги щит, выкованный в совершенно секретной кузне!
К тому же подпал он под скрытую проверку бдительного руковдства, решившего досконально разобраться, не по путятиной ли оплошке – пока неведомой, однако теоретически вероятной, изменщик Немил, под оперативным псевдонимом Ярун, предал служебный долг. И преступил моральный кодекс бойца невидимого фронта, одновременно поправ и нравственные идеалы, свойственные, аки сказывают, пламенным промысловикам вражьих секретов, состоящим на службе в нашенском Центре, в разительное отличие от подлых иноземных лазутчиков – заведомо аморальных уже по определению!
Параллельно в конспиративной его конторе началось и куда более глубокое бурение сущности недавнего Хмары, носителя в Центре оперативного псевдонима Бова, на предмет, не вступил ли тот в Киеве на скользкую тропу, став объектом вражьей перевербовки и «двойным агентом».
Ведь мало ли?! Сегодня он – наш, а завтра – ворог-разложенец, клюнувший на чуждые нравы, гнусные дирхемы, вражьи, да голых девок! И наоборот.
Лучше уж – для вящей надежности и во избежание! – перебдеть с холодной головой и горячим сердцем, предварительно вымыв руки, дабы чистыми были при любом последующем вскрытии.
А резидента Ромейской империи в Киеве уведомил об убывающем Булгаке преемник Хмары под оперативным псевдонимом Мазай, получив оперативную информацию от совершенно секретного агента, близкого к Душице, влиятельной наложнице князя Владимира.
XXX
Грунтовка с буйством бузующих сорных трав меж колеями – се вам не автобан!
И живо заподозрил Молчан, начиная понемногу и ускоряться, ведь дорога шла под уклон, а ступать босиком по утрамбованному накатом колес повозок суглинку сущее блаженство в сравнении с передвижением по раскаленному уличному покрытию, что строительство вилл в окраинной низине далеко еще до реального бума и полного совершенства.
А тут же вспомнил он о градациях совершенства от Фомы и невообразимо захотелось узреть его воочию, дабы незамедлительно загрызть в самом буквальном смысле! Однако не в плане каннибализма, хотя одолел бы, кажется, в один присест, и цельного гуся, запив третью четверти хлебного вина, а из чувства праведного возмездия.
Ибо суровое добро, карающее за зло, непременно должно быть с пудовыми кулаками! А кулаки Молчана даже и не сжимались днесь. Касаемо же зубьев, те остались все же целы, и лишь четыре из них зашатались, являя очевидное – невероятное. Не зря, оберегая их, увертывался, как мог, и подставлял под нацеленные удары руце свои, пока не лишился чувств.
Что до единственной достоверной прорехи в нижнем ряду, сия являлась отметиной девятилетней давности от Некраса.
Заметив невдалеке ряды вертикально стоящих каменных плит, догадался Молчан, что они означают.
И подумал: «Каковая дорога ведет к ромейскому храму, уже ведаю я – чрез алчных, злобных и бесталанных побирушек! Каковая же ведет на погост в сей земле, еще не пройдена мной. А иного раза выяснить, может и не случиться…».
И возобладала в нем любознательность, превыше жажды и глада. Пройдя еще немного, обнаружил он новую колею, ответвлявшуюся от той, по коей двигался, и свернул на нее.
Вслед подошел вплотную, и с пристальным вниманием рассмотрел на ближних к нему местах погребений надгробные плиты с надписями, где значились имена усопших, род их занятий и добрые пожелания родственников, а иногда были и портретные изображения. Чудно было сие Молчану-язычнику!
А ощутив нечто трогательное в посмертных упоминаниях сих, впервые в жизни усомнился он, всецело ли правильны традиции вятичей, о коих Нестор-летописец поведал веком спустя: «И радимичи, и вятичи, и северъ один обычай имяху: … еще кто умряще, творяху тризну над нимъ и по семъ творяху краду над нимъ, и въсложахутъ и на краду, мерьтвеца сожьжаху, и посемь собравше кости вложаху в судину малу…».
«Может, и надобно б, – подумалось ему, – не токмо ограждать могильные курганы наши частоколом из столбиков, а и увенчивать их чем-то?»
Тут и услышал он громкий возглас, доносившийся от базовой колеи…
«Упустили, и уже не настичь! Десять бы клистиров Юлии, да подряд, дабы навсегда запомнила! А хозяину, загулявшему невпопад, тридесять плетей по седалищу, голому, вслед и солью посыпать!» – впал в бешенство Фома, осмыслив нависшие угрозы.
Аще является сходником сей беглец, за ним и иные стоят, ведь явно встретился с кем-то втайне! – по ротозейству Никетоса и неразумному падению Басалая от буйного осла. И вполне могут те иные, когда доберется он до них и уведомит, приступить к сведению счетов, вплоть до роковых исходов. А невозможно схорониться в Константинополе от каждого сходника-убивца!
Надлежит срочно делать ноги, либо ложиться на дно!
«Сей же день возьму на службе отпуск без содержания и рвану подальше от столицы! – оперативно рассудил Фома. – Предупрежу и Басалая с Никетосом, дабы затаились на ближайшие дни.
Загульного того не жаль мне, и не закручинюсь, когда его упокоят! А доберутся вдруг и до Юлии, хотя ничего не ведомо о ней тому вятичу, опричь имени и облика, не возрыдаю и о ней!»
И приступил к неотложным действиям…
Молчан подлинно оторопел! Ибо сей возглас прозвучал на его родном языке – в басовой тональности, неоспоримо уверяющей мужское начало.
И изрыгало оное начало столь непотребное, что никогда не употребляется всуе даже первейшими асами матерщины, кои выпускают из себя сокровенное лишь на неконтролируемой стадии аффекта с приставкой «супер».
«Свой! Земеля!» – набатом ударило в его извилинах.
И тут же, аки джинн, вызволенный из поллитровки с «Солнцедаром», а любой, кто не понаслышке изведал последствия от употребления оного напитка, называвшегося в обиходе «скипидаром», «клопомором», «тошниловкой», «рыгаловкой», да и лучшим красителем для заборов, искренне порадовался бы за шайтана арабской национальности, выскочил на первой космической скорости внутренний глас, мигом нарушив собственный обет!
И завопил – аж заложило слуховые отверстия нашего вятича: «Чего-й стоишь-то, лапоть?! Бегом!! Не то уйдет сей!!!»
Резко повернув и семеня изо всех сил, хотя подниматься не в пример хуже, чем спускаться, Молчан выгреб на дорогу в направлении уже от погоста.
И узрел, шагах в пятидесяти, мужа в длинной тунике с рукавами – среднего возраста и роста, однако неимоверной ширины в плечах, повернувшегося в его сторону и уже поднесшего десницу к короткому мечу-ромфиту на поясе.
– Да свой я! Не остерегайся! – крикнул Молчан, что было мочи.
По всему виделось: оторопел сей муж! А не подвинулся встречно. Ибо облик Молчана вызывал лишь явные подозрения, и ничего опричь!
И в десятке шагов расстояния недоверчиво спросил он гласом таковой мощи, что Молчан невольно подумал: «Будь и у меня сей, незачем втыкать шило в ослиный круп! Гаркнул бы в ухо, и тот пол-улицы опрокинул»:
– Откуда речь мою знаешь?
– Родная она мне! Вятич я! – воскликнул Молчан.
– Вот-та на! Ужель земляка встретил? А сам-то ты откуда?
– У реки Москвы мое городище!
– Ха! А мое у Нары. Слыхал о таковой?
– Не токмо слыхал, а и побратим мой из тех краев.
– А как звать его? Может, и мне знаком?
– Прозывается Шуем. Не в одной сече бились рядом…
– Шуем?! А с виду каков он?
– Широк в плечах, а до тебя далеко ему. По-соловьиному горазд – заслушаешься! В последнем бою отсекли ему малый перст на шуйце. Угрюм…
– Так ты побратим друга детства мово и юности, коего соловушкой звал! – вскричал земляк с громадным размахом плеч. – А я Нечай, из Варанги – варяжской стражи василевса. Слыхал об оной?
Еще бы не слыхать Молчану, когда о ней ведали не в одном Константинополе, а и далеко за пределами! Вся она, организованная правившим императором Василием Вторым, рассматривавшим ее как свою личную гвардию и стратегический резерв в сражениях, в основном состояла из варягов-русов, присланных из Киева князем Владимиром; были в ней и восточные славяне, наводившие на врагов ужас главным своим оружием – двуручными топорами, бравшими любые доспехи. И платили им токмо златом! – иное они отвергали.
Отбор в сию стражу был жестким, зачисляли самых лучших из нанимавшихся воев. И избранные те пользовались таковым респектом, что с ними, когда учиняли уличные дебоши, не рисковали связываться ни дневная вигла, ни даже ночная, пред коей трепетали все горожане, не относящиеся к знати.
– Пентарх я, пятью командую! – огласил вслед сей легионер, явно исполненный фанаберии. – А было, и в декархах ходил, десяток имел под началом.
– Ужель не угодил кому? – заподозрил Молчан.
– Твоя правда: не угодил! А виной тому – наговоры, зависть к доблестям моим и лютая ревность.
– Ревность-то при чем? – удивился жаждущий и оголодавший.
– При том! На пятый день от моего назначения заступил я в караул во дворце василевса с десятком своим. И тут прицепился ко мне начальствующий над всем караулом. Отпетая мразь! Вознегодовал за свою полюбовницу. А я-то чем повинен, что сама призвала меня к себе? Попробуй, не поспеши, аще дева ромейская просит, слезами обольешься вслед! Ведь мстительны ромейки!
Слово за слово, и попер он, остервенев. Однако успел чуть увернуться я, и подлый удар его пришелся не впрямую, лишь нос чуть свернул мне, да юшка пошла. Что оставалось? Токмо врезать в ответ!
А когда врезал, и рухнул он, и долго отливали его, пока не очухался, оказалось: челюсть ему свернул. Дело житейское, чего печалиться? Тем паче, оную ему все же поставили, куда надо, пущай и не сразу, а на третий день, ведь бестолковыми оказались два первых костоправа. А сей взбух! Наябедничал! И вернули меня в прежнюю мою должность – якобы, за избиение старшего…
Тебя-то как кличут?
– Молчан я, торговый гость.
– Торговый гость? – Нечай сначала прыснул, а вслед расхохотался в полный бас, не скрывая причины своего крайне неуважительного ржания.
– Зрю: все свои доходы на роже носишь! Счастье твое, что доверчив я. А вот дневная стража, угоди ты ей в лапы, могла и усомниться! – молвил он, от души высмеявшись. – И куда ж тащишься, босой и битый? Нет округ торга, где выдал бы порты свои за пушнину, и вряд ли найдутся охотники на них.
Так что приключилось-то? Колись! Пред земляком – не зазорно!
– Испить бы мне! – отворил Молчан уста, на коих уж и соль проступала, рассудив, что не время для сурового спроса за насмешки. Да и силы не те…
– Гранатовое вино сгодится? – осведомился Нечай.
Он еще спрашивает!
– Сам бы не отказался. А ведь нету! – уточнил земеля-подлец.
И Молчан подумал, что вслед за Фомой с радостью загрыз бы и оного!
– Да будет тебе, не куксись! Мне все одно возвращаться надобно за кольцом, что у меня стырили. Там и напою тебя, – утешил его уроженец городища у Нары. – Еще и накормлю, наказав воришек подлых и изъяв у них.
– Так тебя без кольца оставили? – с натугой в иссохшей гортани выговорил Молчан, изображая участие и предуготовляя ответку насмешнику.
– То-то и оно! А с чего б я, по-твоему, орал, сквернословя?
– Да мало ли… Вдруг грызанула за причинное место кусачая живность? Иному недоумеваю я: с виду могутный ты, еще и варяжский стражник – чай, и сам василевс у тебя в знакомцах ходит! Однако оплошал! И дивно мне…
– Ну, ты и змей! В рванье одном, а изловчился ж ужалить! Уел!
Зрю: непрост ты. Хвалю! Сам я велик разумом и уважаю таковых же. За то и пощажу! Не то сей миг раздавил бы тебя, сжав в жменю, дабы закапало из оной, – провозгласил потенциальный знакомец василевса, явно исповедая правило: «Скромность украшает токмо того, коему нечем боле украситься».
«Чую: оный не уступит бахвальством и Путяте!», – подумал Молчан.
– Не тронув тебя по благородству своему, всем на зависть и в удивление, открою, сколь наказан был за чрезмерную доброту, – продолжил Нечай. – Ведай же, что провел я ночь близ стен женского монастыря. О прочем узнаешь по пути, ведь должно поторопиться, пока воришки не заныкали мое кольцо. А дорого оно мне! – ибо в дар от любимой мною инокини, еще не давшей обетов.
Однако отнюдь не пренебрегаю и теми, кто уже дал их, став монахинями. Ведь широк я и душою чист в свободное от службы время!
Не зря ж столь любят меня монастырские девы, а с ними и послушницы! Подлинно на руце носят, и не удивляюсь тому, понеже таковых, яко я, не сыскать боле во всем Константинополе и окрестностях! А все ж дорожу сей инокиней, превыше прочих, и не таю от тебя сего, ибо не настоятельница ты ея…
Да ускоряйся же, ускоряйся, аще жаждешь! Быстрее дойдем, скорей и напьешься! Вон уж, за поворотом, и тот шалаш будет. Там и накрою их!
Представь, когда пробудился я – в кустах, недалече от потаенного лаза под монастырской стеной и виноградника, а высоко уж поднялось солнце, зрю: отрады моей и след простыл. Ведь невмочь ей пропустить общую молитву! И чую: на вые у меня нечто. Цап, а там – серебряная цепочка, пропущенная чрез таковое же кольцо. А ведь и не почувствовал во сне, как надевала оное.
И даже боле того растрогался, еже увидел рядом, на холстинке, кусок овечьего сыра, три просвиры – се хлеб их, выпекаемый для служб, и малый мех с вином – тоже церковным, однако отменно вкусным. Ночью и не заметил, что принесла их…
– Ужель до капельки выдул? – справился Молчан, на всякий случай.
– Еще б мне и не выдуть, когда заслужил! И не пропадать же добру! Однако не стал закусывать, а прихватил с собой сыр с просвирами.
«Может, еще не дожрал, тая за пазухой?» – возмечтал Молчан в последней надежде на чудо. А тщетной оказалось она, поелику Нечай тут же и поведал о судьбе сыра, просвир, кольца, а заодно и цепочки.
Оказалось, возвращаясь, наткнулся он на трех мальцов, выскочивших из-за дерев, росших поодаль. Оные явно были детьми побирушек, промышлявших в граде и возвращавшихся сюда на ночлег. А злобных попрошаек тех опасался и сам Нечай, а посему, пробираясь затемно на свидание, всегда брал с собой ромфит, хотя боевым имел иной меч, и поддевал кольчужку под тунику.
Обступили его те мальцы и начали выпрашивать еду, распознав, что не пуста его поясная сумка. Сжалился он, отдав и сыр, и просвиры, после чего прыгнул на него самый шустрый и начал обнимать – из благодарности, решил в простоте душевной Нечай, и еле отцепился. А когда, отшагав уже изрядно, заметил свою ошибку, тут и огласился он, с досады, на всю округу…
– Нет, опоздаю с тобой, квелым! Стой здесь, и жди! А увидишь, что пробегают мимо, закричи мне во всю мощь, – распорядился Нечай. И рванул!
Не сразу воротился он. Молчан зело засомневался, дождется ли, отчетливо ощущая, что ноги уже подкашиваются, и рухнув, нипочем не встанет!
А наконец, и земляк объявился! И в деснице держал он амфору! И в шуйце его лепешка была, немалая! «Не чудится ль мне? – подумал Молчан.
Не почудилось! И едва начал поглощать он волшебнейший из напитков, именуемый водой, а вслед откусывал от лепешки и снова пил, поведал ему Нечай, как добыл он оное. Когда увидев его, кинулись прочь воришки, сообразил он, что побегут под защиту старших, кои где-то поблизости несут охрану и готовят еду, ведь не на земле же ночуют дневные добытчики по возвращении их, и ужинают не воздухом. Да кольцо с цепочкой наверняка передали им.
И угадал! В глубине того леска обнаружились шалаши, откуда выскочили пятеро – трое женского пола и двое мужского.
Тех, что мужского, пришлось тут же и урезонить: одного – сапогом, ниже чрева, иного – кулаком в переносье. А пока оные корчились, обнажил свой ромфит, предостерегая вопящих, относившихся к женскому полу, от неразумных действий, и объяснил им: как пентарх Варанги, пресекающий злодеев по долгу службы, тут же обезглавит сих двоих, напавших на него при исполнении, вслед и уничтожит все шалаши, ежели не вернут ему кольцо с цепочкой, заплатив за моральный урон водой да едой.
И услышал он проклятия в три женских гласа вкупе с оскорблениями его мужского достоинства – пришлось и мечом взмахнуть, после чего одна из них извлекла из глубин своих лохмотьев кольцо, вторая – цепочку, а третья побежала за водой, принеся и лепешку, ведь к готовке еще не приступали они…
– Да не озирайся ты! – заключил победоносный добытчик. – Не рискнут они за нами вдогон! Ежели ж рискнут, всех порублю! – никого не оставлю. И начинай свой рассказ! Вельми любопытно мне, как увечат гостей торговых.
И поделился Молчан своими печалями, кое-что и утаив.
– Фома? Скриб в императорском дворце? Косоглазый и с переносьем, вмятым? – заинтересовался Нечай по завершении горестного повествования.
– Ха! Вем такового… Друг мой на него в большой злобе! Подсунул ему тот Фома девицу, не из дорогих, а вслед он все лето по лекарям ходил, и вельми потратился. А сводник сей отказался оплатить хотя бы половину расходов!
И хватит о сем! Пора выручать тебя из беды. Вот что надумал я. Доведу тебя до одного сада, а садовник знаком мне, где и схоронишься. Вечером принесу еду, питье и одежку с обувкой; там и заночуешь. А поутру, когда вернусь с ночного дозора во дворце, жди меня. Вместе пойдем: рядом со мной не страшен тебе ни один дневной стражник…
Что пообещал Нечай, то и вышло. А наутро забрал бедолагу из сада и довел до места его временного проживания в ромейской столице. Тамошняя охрана не обрадовалась ему, ведь надеялась, что не вернется и можно будет поживиться хотя бы частью от подарков, закупленных Молчаном.
А те пришлось распродать за полцены. Однако хватило лишь на пропитание до отплытия и оплату обратного пути морем до Меотийского озера; сие – с учетом четырех солидов, врученных героем Варанги пред отходом судна.
– Да ведь не вернуть их тебе, – начал, было, возражать Молчан.
– Вернешь Шую, аще встретишь. Доведешь, что от друга детства его – на память о проказливой нашей юности. Пущай поднимет чару за Нечая!
Дал бы тебе и куда боле, да и сии еле занял. Поиздержался я с зазнобами – хоть побирайся!
Доброго тебе пути! И отчего-то мню: видимся не в последний раз…
По возвращении и доклада Путяте, а сам тот примчался в городище по первопутку, попросил Молчан о встрече с Шуем. Однако отказал ему старший родич, сославшись, что занят Шуй и увидятся позде, как освободится тот от выполнения задания особой важности.
Освободился Шуй лишь в канун лета. И передал ему Молчан то, что наказано было, однако не солидами, кои не были в ходу на территориях вятичей, а серебряными дирхемами – в эквиваленте.
Дале не преминули они обменяться новостями, перетереть о Путяте, и отмечая свиданьице то, осушить за Нечая, коей при последующем общении представился ему много глубже, чем при первой встрече. А явно нарочитые бахвальство его и пофигизм наводили на мысли о скрытном и хватком уме под личиной простака и бузотера…
XXXI
– И долго ли он в том Царьграде толмачил? Сразу, поди, и выгнали оттуда? – ловко составил Молчан очередной вопрос свой, в надежде, что старший родич приоткроется чуть боле.
– Эх, и зелен ты! – высказал Путята с заметным сочувствием к явленной простоте. – Зачем же сразу-то? Надобно было сначала приглядеть за ним: куда ходит, с кем встречается, что вынюхивает. Понеже и дозволили ему греки целых два лета и две зимы шататься, таясь, поздними вечерами.
И каждый раз начинал с прогулки, будто бы, по улице Меса, главной в граде том. Шастает Булгак, вроде бы, а потом – ныр в проулок, по секретным надобностям своим, и ищи его, аки ветра в поле!
Настал, меж тем, срок, еже вконец зарвался Булгак, вербуя себе сходников и докладывая в Киев. Изрядно порадел он в Царьграде на радость своим начальствующим. Искусник!
Столь ловок был, что многое за ним не доглядели даже греки, перехитрить коих мало кому удается. Пришлось уведомить их еще раз…
Не стали они предавать его казни – там паче, публичной: не рвалась Ромейская держава ссориться с Киевом, – продолжил Путята. – А Булгак, сколь ни крути, был при киевских посланниках открытым толмачом, не скрытным.
Таковых можно лишь ненадолго бросить в острог, ихний, а позде, когда заявятся переговорщики от соплеменников их, придется все же отпустить, предписав незамедлительно и навсегда убыть, откуда засланы были.
Однако ромеи, а ими считаются и армяне, выходцы из Македонии, ведь Василий, нынешний правитель страны сей, именуемый василевсом, суть девятый подряд армянин на царьградском троне – причем, и по отцу, и по бабке по материнской линии, рассудили поступить по-иному – в памятное назидание всей киевской тайной службе.
И всех подручных Булгака, по сходничеству, коих сумели изловить, сожгли – туда им и дорога!
Еще и повезло им, несказанно! Ведь ноне за сходничество карают там лишь на костре.
А в прежние времена запекали в огромном полом быке, стоявшем на площади под названием Воловий форум, а пересекала ее та самая улица Меса, и отлит он был для наказания закоренелых злодеев. Их помещали связанными в чрево быка сего, закрывали вход и разводили снизу огонь…
Молчан аж содрогнулся внутренне, представив воочию!
Старший родич, зоркий, заметив некие физиономические изменения в младшем и неверно истолковав их, тут же добавил:
– Скорбишь, что подлый Булгак уцелел в тот раз? Порадую тя: уцелел, да не вполне!
Не сразу его, задержанного, хватились. Ведь не докладывал он никому, куда шляется в свободное от толмачества время.
И токмо на второй день полномочные киевляне забили тревогу и отправились наводить справки в присутственных местах дворца василевсов. Там им до них и довели, что к чему, и даже назвали место, где вытребовать оного.
Содержали его в некоем подвале, неподалеку от ипподрома – места, где при огромном скопище со всего града проходят гонки на колесницах.
Заметь: заточили Булгака без применения к нему пыток, на кои сам он очень охоч был в Киеве. И даже ни о чем не спрашивали! Лишь наказали…
Ведая, елико опасен для них сей злокозненный толмач, греки оставили ему чету вельми зримых отметин, дабы не сунулся он в Царьград впредь. Взяли, и лишили оного лазутчика десного уха, оставив к тому же и долгий след от раскаленного железного гвоздя на его шуюей ланите.
Завидев его таковым, возопили ходатаи: почто исказили лик киевлянина честного, в греческом сведущего?




