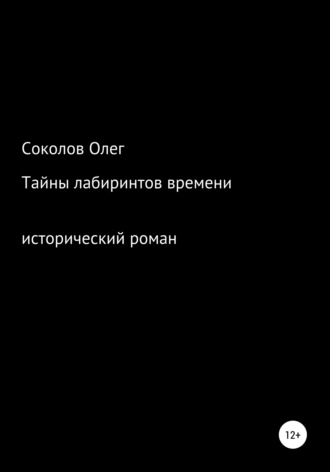 полная версия
полная версияТайны лабиринтов времени
На одиноко стоящей башне аскеры успешно отбивали атаки казаков. Они обливали их кипятком и горящей смолой, а казаки, усеяв трупами подступы к башне, даже не пытались больше ее атаковать. Они окружили башню и, обстреливая, не подходили к ней близко.
В коридорах самой башни шла безжалостная сеча. Казаки, выкрикивая ругательства, рубились с аскерами: на рыночной площади, на треугольной площади, на прилегающих к дворцу улицах и переулках, в домах и дворце, в крепости и на крепостной стене, в храмах и мечетях.
– Православные! Помогите!
Матвей оцепенел, рядом с ним лежали одни трупы, а голос доносился из-под земли.
– Это в погребах, под землей, – услышал Матвей из-за спины. Голос говорившего – был настолько слабый и хлипкий, что казак сперва подумал, что ему почудилось.
Матвей повернулся, скорее, для того, чтобы убедиться, что за ним никого нет. Рядом с ним стоял мальчонка, черный, как уголь.
– Я покажу, там их много. Они все русские, под землей сделаны темницы, а вход закрыт дверью. Я слаб – и не смогу ее открыть.
Матвей выбил дверь, и из темноты на него набросились аскеры. Бой был свирепый и скорый, татары дрались за свои жизни, но им не хватило ярости, которая съедала Матвея, жгла его изнутри, не давая остановиться, гнала казака вперед и отводила от него смерть. Бой закончен, татары мертвы, и казак остановился, ожидая, пока мальчонка обшарит карманы у татар.
Матвей почувствовал удар в спину. Первая мысль, которая пронеслась в голове – это камень. Матвей даже попытался повернуться и посмотреть, кто же стал кидаться кирпичами, но получил еще один удар. Горячая волна боли пробежала по телу, а по спине текла кровь. Казак рухнул на землю, сраженный случайными пулями.
Мальчик нашел ключи, открыл замок и отворил решетку, закрывающую проход в подземелье. Земляной коридор был забит полутенями-полулюдьми, они медленно выползали из своей могилы на свет божий.
Явор с казаками ворвался во дворец и с боями продвигался к комнате, за дверью которой находилась казна. Комнаты, захваченные казаками, были заполнены мертвыми татарами и казаками. Одна, вторая, третья… когда-нибудь они кончатся, наконец, или нет?
Хонька захватил порт – смог спасти от огня две галеры и четыре чайки.
Казаки сели в чайки и, обойдя город, высадились у северных ворот Кафки. Казаки резали татар среди пламени и дыма, охвативших порт, еще немного – и некому будет возвращаться домой.
Женщины, оставив детей в домах у греков, прибежали в город и теперь осаждали один из домов, уцелевших в этом городе. Они закидали женскую половину дома камнями и ворвались в него, круша все на своем пути. Вскоре во дворе дома лежали растерзанные тела: татарина, его детей и всех женщин этого достойного мусульманина, а из окон его дома вырывались снопы красного и желтого огня, валил серый и едкий дым.
Город издавал смрад смерти, похоти, сумасшествия и жажды разрушения.
Явор ворвался в последнюю комнату – вот она, казна. Мешки, полные золота, серебра и разноцветных камней, ящики со слоновой костью, меха и оружие, сияющее, словно солнце, бочки с янтарем и жемчугом.
– Выносите казну – и бегом в порт, Хонька захватил галеры. Грузите казну на корабль и не возвращайтесь сюда. Пришлите Матвея, Николу, Грыцька и Иванка!
Явор обернулся, за его спиной стояли казаки, почерневшие от дыма.
– Где сотники?
– Это все кто выжил, атаман.
– Давайте, казаки! Выносим казну и грузим на телегу – одна, я видел, стояла во дворе дворца, когда мы ворвались в здание.
– Она и сейчас там, атаман.
Город успокоился, он был разрушен и обескровлен. Телеги катились медленно, мешали трупы людей, да и кони не могли быстро тянуть такой груз.
Вечером, когда заря окрасила горизонт, ватажники на галере отчалили от пристани города Кафка. Над галерой реял стяг черноморских казаков.
Вот, что писал Эмидо Доттелли о казаках на Черном море в 1634 году: «Эти россы, называемые казаками, дабы мстить татарам, ежегодно набегавшим на них с целью грабежа, стали спускаться по морю на выдолбленных челнах, хорошо вооруженные и получившие название у татар «оза-козак». Поощряемые удачей своих предприятий, они стали собирать все большие суда – и в большем количестве. Казаки могут сражаться не только с отдельными кораблями, но и с целым флотом падишаха.
Они разрушают, грабят, жгут и умерщвляют татар и османов. Часто осаждают укрепленные города, берут их приступом и опустошают их, как это было в прошлом году в Юзлеве – единственном укрепленном городе падишаха.
Казаки нападают как днем, так и ночью, углубляясь вглубь страны, чтобы разграбить города и освободить как можно больше рабов.
На море ни один корабль хана, как бы он ни был велик и хорошо вооружен, не находится в безопасности. Чайки казаков, похожие на фрегаты хана, выдерживая жестокие бури и шторма, нападают на любое, по морю плывущее судно, грабят его и поджигают.
У казаков есть атаман, которому они оказывают невероятное послушание. Но и сместить могут, в зависимости от его поведения.
Казаки наводят ужас на побережье всего Черного моря, включая Стамбул. Казаки черноморские и запорожские – дружны между собой и порой ходят в совместные походы.
Ночью казаки ловят галеры хана на приманку, они разводят огромные костры, которые горят на турецкой или татарской земле. Судно султана идет на такой костер, как на маяк, а казаки, пользуясь этим, грабят его и топят.
Итак, по причине дурных портов, казацких чаек, ложных маяков – это море весьма справедливо называется Черным.
Черное море у татар почитается за главное море, потому что является как бы отцом, т. е. источником и снабдителем вод для всех прочих морей. В Черное море впадают великие реки Европы: Данубий и Нипро, а само Черное море через канал длинною в восемнадцать миль вливается в архипелаг, а затем и в океан, который является суть морских запасов земли.
Порт Тана – на картах казаков отмечен как Азов, он пока подвластен падишаху. Однако путешествие в Тану весьма затруднительно: кроме мелей и узкого прохода, галеры падишаха беспокоят казачьи чайки. Казаки, побеждая, османов подвергают разграблению и рабству воинов султана, а христианам, находящимся на галерах падишаха, предоставляют выбор: службу у них или выкуп, если те находятся на службе у падишаха, а не в неволе.
В 1621 году ногайцы попытались завладеть Бахчисараем. Турки открыли огонь из пушек и остановили ногайцев. Началась осада города. На двадцать восьмой день осады пришли казаки и разбили ногайцев. Турки же с радостью, думая, что пришла подмога, вышли встречать вызволителей. Закончилось все тем, что казаки водрузили знамя Христа на дворец хана.
Ногайцы три дня собирали армию в порту Кафы. Воины прибывали и прибывали к великому ужасу местных жителей. Казаки, узнав об этом, тотчас прибыли в город и рассеяли ногайцев по ветру. Город был освобожден и лишился десятка тысяч рабов, которые пополнили ряды казаков.
За последние десять лет татары, по приказанию хана, ходили разорять Московию, за это казаки не раз грабили хана и его города, предупреждая его, что они защищают Московию.
В 1634 году поляки и ханские воины вторглись в Московию в количестве пятидесяти тысяч воинов. Хан угнал двадцать тысяч рабов, тридцать тысяч реалов золотом, золотые украшения и посуда пошли в казну хана. А в 1635 году казаки, пройдя лесом четыре мили, появились на рассвете, к самому открытию ворот города Манкопа, где хан хранил самые драгоценные вещи и свою казну. Казаки захватили его казну и почти разрушили город. Это был не первый и, как сказали казаки, не последний захват казны хана. Казаки на обратном пути разрушили и ограбили ханский город Акриман, так как был он первым препятствием для казаков на их пути.
Черноморские казаки ходят в море на плавучих караульнях. Эти кочевые пикеты называются у них байдаками – платами, имеющими весла и руль. По бортам они прикрываются шерстяными щитами с отверстиями для ружей. На каждой такой караульне помещается до тридцати воинов с кухней и припасами. Такие караульни являются прикрытием кордона на море от галер хана.
Казаки имеют летучую морскую пехоту, она передвигается по суше до двенадцати верст в час, и с ходу может вступить в бой. Казаки высаживают со своих чаек такую пехоту на землю хана, а когда воины хана узнают об этом, казаки – уже в другом конце Крыма напали и разграбили какой-нибудь город».
– Я это письмо сам читал и не раз, потому песней отзывается оно в моей душе. Ну, что, записал ни-то, бурсак сказку мою? А я вот думаю, Онопко – пора мне заканчивать казакувать и до свого куреня подаваться. Жинка ждет, все очи проглядела, ожидаючи.
– Тю! Так ты женат? А дэж твий хутор, шось я нэ чув ранише о нем?
– Тут недалече, двести верст не будет от нашей станицы, ну, може, трохы дальше. Курень мой жинка назвала Яворским – от Винницкой станицы, в сторону Дикого Поля – верст двадцать будет. Женился я не по собственной воле, давно это было, но истосковалось сердце мое по родимым местам, да по жене своей ненаглядной.
Я уж год, как отслужил у запорожцев, а все неженатым ходил. Эта мне девка не так, а та – не этак. Раз мой отец здорово осерчал и говорит:
– Явор, или зараз женишься, или я тебя вовсе не женю. В ответ я тока плечами пожал. Мать, у печки расстроенная стоит, опять махотку разбила. Руки – то уже не те стали, ухват не держат.
– Иль не вишь, – говорит отец, – старые мы уже с матерью, в доме помощница нужна. Мать запоном утирается. Дюже ты тинегубый. А мне на старости с внучком побаловаться хочется.
Вздохнул я тяжело. Нету у меня к девкам интересу. Сказать бы, что больной, какой иль калека, так руки-ноги целы, глянешь – молодец молодцом.
Для меня родительское слово было крепкое. Как батяня сказал, так оно и будет: не даст благословения, если с этим делом еще тянуть буду. Пошел я на посиделки. То на одну девку посмотрю, то на другую. Все они одинаковые, и в каждой свой изъян есть. Не расцветает у меня душа, на них глядючи, не замирает сладко сердце. День хожу на посиделки, другой – никакого толку. Ни одну девку себе не присмотрел. Помаялся я еще один день. Наконец, не выдержал родительских укоров, оседлал коня, да поехал суженую искать. А это тогда считалось делом пропащим, если в своей станице девку не облюбовал, в другой – не каждому отдадут.
Вот, значит, еду от станицы к станице, да все без толку, ни одна мне девица не глянулась. Вижу как-то, посреди дороги девка стоит: замухоренная нечеса, лохмотами тока-тока срамоту свою прикрыла. Про таких в народе говорят: такая красава, что в окно глянет – конь прянет, во двор выйдет – три дня собаки лают.
– Возьми, – говорит, – меня с собой.
– А кто ты така есть, чтобы я тебя с собой брал? – спрашиваю ее. А та отвечает. Да так уверенно говорит:
– Я суженая твоя.
Дрогнуло сердце у меня от таких слов, но виду не подал. Рассмеялся:
– Больно прыткая. Ко мне девки клонились – не тебе чета, и то – ни одна не глянулась.
– Поэтому тебе до сих пор никто не глянулся, – говорит девка, – что я твоя суженая, а ты – мой единственный.
«Вот заялдычила, – думаю, – твердокаменная какая». И спрашиваю:
– Почему ты знаешь, что я твой единственный?
– А ты ко мне каждую ночь во сне приходишь.
Повеселел я.
– Ну, я-то крепко сплю. Сны мне не видятся -, а сам думаю: «Не приведи, господи, чтобы такая приснилась».
– Возьми меня, – говорит грязнуха, – не пожалеешь.
– Еще чо! – возмутился я. – Не возьму и не проси. Уйди лучше с дороги.
Молчит девка, но с дороги не уходит. Глянул на нее еще раз: уж дюже неприглядная. Запротивелось у меня в душе, забрезгало.
– Не балуй, – говорю, – уйди!
И хотел я ее объехать. Да никак! Не идет конь, встал как вкопанный. Я его в шенкеля да плеточкой – не идет. Что за наваждение? Подрастерялся я, в пот кинуло. И говорю:
– Мне все одно с тобой не по пути.– Повернул коня и пустил в галоп, да в обратну сторону. Сколько проскакал, не ведаю, только устал и перешел на рысь, в досаде весь, что все обернулось не по-людски. Что за случай такой вышел?
Вижу, церковные купола виднеются: знать, станица недалече. «Доеду, – думаю, – до станицы, в церкву схожу. И попрошу Господа дать мне встренуть свою суженую». Доехал, солнышко блескучее, погода играет.
Подъехал к храму, с коня слез, на себе порядок навел. Захожу, а народу никого, полумрак в церкви, свечи еле-еле горят. Тихо. Спокойно стало на душе у меня. Упал я на колени перед иконами, долго молился, вдруг слышу за спиной шепоток, оглянулся, а нету никого. А голос-то вроде бы знакомый будет. Никак опять она – та самая замараха – страсть вошла в меня, заиграла в душе злость.
Вышел из храма – сам не свой, а на улице ветер поднялся и пылью меня обдал, солнце тучей заслонилось и зябко стало, нехорошо. Вскочил я на коня и поехал прочь от станицы. Мысли тревожные, одна горше другой. Долго так ехал, очнулся – так вроде и смеркаться начало, надоть где-то на постой останавливаться. Вижу, копешка сена стоит – чем не ночлег? Зарылся в сено, веки смежил, но не идет сон, а тут луна вышла полная и льет белым светом на всю округу, не дает покоя. Вдруг слышу, сено зашелестело чой-то. Може, конь? Потом чья-то рука по лицу меня – лап, раз да другой. Занемел я, ни рукой двинуть, ни слово вымолвить. И голос: «Суженый мой…».
– Ведьмака! Изыйди, Христа ради, – отвечаю.
Схватил я шашку и махнул сгоряча – застонала дева, заохала, закричала-запричитала. Зацепил ее, видать, я шашечкой-то. Слетел с копешки, колотит меня, холодным потом обдает. Призвал коня, а в сторону копешки не оглядываюсь, боязно. На коня – и в бега!
Остальную дорогу мчал наугад, долго кружил по перелескам да по займищам, пока сердце свое успокоил. Ишь, какая ведь повадлива девица оказалась!
Вижу, вроде костерок на поляне горит и люди об чем-то гутарят. Подъехал потихоньку, прислушался и понял – разбойники добычу дуванят. Двое себе злато-серебро поделили, а молодому девица досталась. Молодой разбойник возмущается – зачем ему такая девица, иль в воровстве он не первым был. И до драки дело доходит, вот-вот сцепятся.
– Ну, коль она тебе не нужна, то мне – в самый раз, – прошептал я.
Вынул я пистоль и стрелил вверх, саблю достал, да крикнул-гукнул, свиснул и рубанул, что есть силы первого попавшегося выродка. Разбойники наутек и кинулися. А я девицу подхватил на коня – и айда прочь от этого места. Едем, значит, девица припала ко мне, сердечко бьется часто, как у воробья. Разнежился я, а тут обняла она меня покрепче за талию, вроде, как боится упасть с коня. А я и думаю: «Вот она, суженая моя». Слышу, она мне шепчет:
– Говорила я тебе, что твоя суженая.
Ба! Да это ж та самая девка-грязнуха. Да что ж за напасть такая, Господи! Ссадил я ее с коня, словно мешок сбросил:
– Доняла ты меня измором!
И опять в бега кинулся. Долго ли – коротко ли, а времечко прошло – вернулся я домой насупоренный, злой. Не нашел, кого искал. Мать меня встретила, посмотрела, и головой покачала, что тут говорить – единственное дитятко и так понять можно.
Вижу, девица по двору ходит. Спрашиваю у матери:
– Кто така?
– Да, работница наша, Варвара, сиротинка. Пришла к нам в хату, грязнуха-грязнухой. А счас гляди, какая чисторядная. Работа в ее руках – так и горит.
А я уже матерю не слушаю, насторожился. Подхожу к девице, смотрю на нее и желваками играю, плеточкой помахиваю:
– Кто така, говори?!
– Кто така, не знаю, – отвечает она, – сирота я, с малолетства по людям ходила.
Смекаю, голос вроде бы не тот, что у грязнухи, та натужно говорила, а эта будто колокольчиком прозвенела. И лицом Варвара бела, и чисторядная, и скромная, видать, вишь, глаза потупила.
Отошел я от нее и говорю матери:
– Ничего девка, узюмная.
Матери эти слова по сердцу.
– Мне Варвара, уже как родная стала, – говорит мать. – Ты к ней приглядись, как раз по тебе девка, право слово.
Махнул я рукой – мне, мол, все равно. И пошел с дороги прилечь. Вечером отец с поля приехал.
– Женить его надо – нечего боле с этим делом тянуть.
Сказал, как отрубил, и собрал отец на совет всех родственников, позвали и меня. Отец спрашивает:
– Кого за тебя будем сватать – говори, не -то я сам выберу и оженю?
– Лишь бы для вас была хороша, а для меня будет.
– А ты своего ума-разума приложи.
– Я из вашей воли не выхожу.
– Ишь, какой слухменый сделался! Иди! Совет будем держать.
Судили-рядили. Так-сяк… жена не сапог – с ноги не снимешь. Порешили: пусть жребий тянет. Ему век вековать, так пусть на себя и пеняет, если что не так.
Написали на бумажечках имена всех девок станицы, что на выданье. Мать настояла, чтоб и Варвару туда тож вписали. Свернули бумажечки трубочками и положили в красный угол под иконами. На том и разошлись. Чуть свет подняли меня родители и, помолясь, взял я жребий. Развернул, а там Варварино имя вписано. Вдруг защемило у меня сладко на сердце, облегчение на душе, как будто ждал этого.
Сели за стол, а Варвару пока не зовем. Отец покрякивает, мать довольна, по ее получилось.
– Ну, что ж, – говорит отец, – она с виду приятная, походка ровная, да не дура, кажись.
Мать ему вторит:
– Невеста справная, работящая и смирная. – Посмотрела на отца, чтой-то он насупурился и слукавила: – Мужу жена будет хороша, да мне, грешной матери, каков почет будет? – И всплакнула.
Клюнул на приманку отец, согбенную спину разогнул, бороду огладил, глазищами сверкнул. Есть еще сила в казаке, на убыль не вся ушла.
– Не бойся, старуха, я-то на что? Из-под моей руки не вырвется. – И, хлоп по столу кулаком, а матери того и надобно.
– Ладно, – говорит, и вздохнула облегченно.
Я рядом стою, кубыть – это дело меня не касаемо. Позвали Варвару и спрашивают, согласна ли за Явора замуж иттить? Та глаза потупила и отвечает – согласна, мол, и вышла из хаты с достоинством, кубыть дело это для нее давным-давно решенное.
В день свадьбы поехали мы в церковь, там батюшка и спрашивает:
– Дружелюбно ли венчаетесь?
– Дружелюбно, – отвечаю я.
– Дружелюбно, – вторит мне Варвара.
Стали колечками меняться. Сомнения опять запали мне в душу, и увидел я шрам на руке у своей невесты. Приехали домой – пир горой, а меня беспокойство мает, на Варвару смотрю – и мне не до веселья. Наконец, решился выйти, а дружка ее не пускает – не положено.
– Да, мне, – говорю, – до ветру, я мигом. А, то нутро от угощений себя оказывает.
Побежал я в баню, обыскался, а все одно нашел, что искал. Вот они, лохмоты Варварины, они самые. Бросил их я в печь и вернулся к невесте, а та спрашивает:
– В бане был? – и улыбается.
– Ага, был.
– Говорила я тебе, что сужена твоя.
Вздохнул я с облегчением и тож разулыбался:
– Да, видно, наши жизни с тобой давно пересеклись.
Тут гости горько закричали, и поцеловались мы.
Правду в народе говорят: суженую конем не объедешь, кому – кака доля достанется, так все и сбудется. И кому на ком жениться – как показано, так и будет, хоть вы за тридевять земель будете – ничего, сыщете друг дружку.
– Люба она мне, и все.
День живем, два, песни поем, а на третий спор у нас вышел. Жена-то хоть с виду некрепкая, а характер – до чего ж вздорный имела. Я ей – слово, она мне два, я ей два – она десять в ответ. Скажу я, к примеру: «Свари щец». Так она кашу сварит. Я ей: «Хочу блинов с каймаком», а она щей наварит. И пошла у нас жизнь – пупырыть на пупырыть – не жизнь, а мученье какое-то.
«Ну, ничего, – думаю, – ты настырная, а я тебя настырней». Вот и показываем друг перед дружкой свою дуроту, как заведемся, бывало, я ей – брито, она мне – стрижено.
Только в песне и сходились. Бывало, как заспиваем, вся станица слушает. Это, мол, у Явора во дворе так заливаются.
Пошли мы как-то в соседний хутор к свояку в гости. Оделись празднично, а по дороге опять стали спорить, да ругаться. Я ей – брито, она мне – стрижено. Речку надо было перейти, а мосточек жидковат, глядишь, вот-вот развалится. Я перешел через мосток первым, а с того берега ей кричу:
– Смотри, на мостке не трясись. Не ровен час, развалится, в речку угодишь. А жена, как до середины моста дошла – и ну раскачиваться да прядать. Мост и развалился, жена – камнем на дно. Я, в чем был, за ней сиганул, а течение быстрое – относит, нырял-нырял – все без толку. Вылез на берег, да закручинился и пошел к тому месту, где происшествие случилось. Иду и говорю в сердцах:
– Говорил я тебе, дура, брито – значит, брито.
Слышу, а из-за кустов мне в ответ:
– Говорила я тебе – стрижено.
Глядь, а жена моя, жива-здорова у кустов стоит, подол отжимает. Невдомек было мне, что жена против течения выплывет. Разозлился я, аж затрясся весь.
– Ах, ты, такая-сякая! Чтоб ты пропала!
Смотрю – нет жены. Куда девалась? Походил-походил вокруг, да около – под каждый кустик заглянул, нет жены, пропала. Горевать не стал, на сердце столько уж накипело, что не горюется. Пошел я домой.
Соседям говорю: «Пропала жена, нету, може, утонула, а може, сквозь землю провалилась, не знаю.
День прошел, другой – и совестно стало мне: как-никак, а все ж жена. Оседлал лошадь и приехал к тому месту, где с моей женой такие чудеса произошли. Вижу, на том месте, где жена стояла, деревце выросло, приклонился я к нему и загоревал.
– Говорил я тебе, брито – значит, брито, не послушалась.
А дерево мне в ответ жениным голосом:
– Говорила я тебе, что стрижено – значит, стрижено.
Схватил я, в сердцах, деревце, как травиночку из земли выдернул с корнем, бросил на землю и поехал домой. Не заметил, как моя лошадь пару листочков с деревца прихватила, дома расседлал лошадь и говорю: «В кого она у меня такая своенравная уродилась? Говорил же я ей, так нет…». А лошадь мне жениным голосом: «Стр-ррижено». У меня от этого слова земля кругом пошла. Отдышался немного. Взял лошадь за узду – в табун отвел и пастухам наказал, чтоб глаз с нее не спускали.
– А, я, – говорю, – пока пешком похожу.
На следующий день табунщик шкуру лошади мне принес:
– Вот, возьми, – говорит. – С яру твоя лошадь сиганула, не досмотрели. – И ждет, когда ругаться начну.
Я шкуру принял, слова в укор не уронил, только облегченно вздохнул, вернулся в курень, бросил шкуру на пол и прилег отдохнуть. Ну, думаю, все, конец потехе, по-моему вышло. Если брито – это не стрижено, а шкура мне вдруг жениным голосом: «А стрижено – это не брито».
Вскочил я как ошпаренный, -Все равно, – кричу, – я тебя доконаю. Потому что ты у меня, как кость, поперек горла стоишь.
А шкура заладила, – Стрижено! Стрижено! Стрижено!
Схватил я шкуру, да в печку сунул и огонь раздул, соломки еще подбросил – запылала шкура, в один миг сгорела.
Ночью заснул я мертвецким сном, а сквозь сон слышу, кто-то шепчет мне: «Стрижено, стрижено». Думаю, чудится, однако сон, как рукой сняло – прислушался, а из печки голос женин шепчет: «Стрижено…».
Догадался я – зола мне, такие поганые слова нашептывает. Смутило меня, вскочил с кровати, золу из печки выгреб, печку по кирпичику разметал, да за базы выбросил. Взял я мешок с золой, вышел на улицу, светать уж начало, куда бы, думаю – эту поганую золу выбросить? Ходил-ходил, яму нашел, бросил туда камень – дна нету. Самое-то, – думаю, – отсюда тебе, дорогая женушка, никак меня не достать, бросил туда мешок – как камень с души снял.
Домой вернулся довольный: отоспался, отъелся, да и, вроде бы жизнью довольным надо быть? Так нет, какая-то на сердце маета – сник я, телом опал и усы отвисли. Промашка у меня в этой жизни вышла, – думаю, – пойду – в яму сам брошусь, все равно без нее – не житье.Подошел к яме, пригорюнился.
–Соловушка, – говорю, – ты моя певучая, не слыхать мне более твово голосочка. – И только было собрался в яму сигануть, как слышу – гул в яме стоит, крики – то ли, кто плачет – то ли, кричит не своим голосом. Выскакивает из ямы черт: шерсть клочьями, хвост поджат, плачет, слезы размазывает по морде своей.
– Забери свою жену, – говорит, – нет нам житья в нашей преисподней, просто ад кромешный, а не приисподняя. Забери, а мы тебе впридачу золота дадим, сколько хочешь.
Обрадовался я.
– Отдайте мне мою женушку, – говорю, – так мне без нее пусто на сердце! И золото не помешает нашему счастью, а уж то, что счастлив буду, даже сомнений у меня нетуть.
Глядь – стоит передо мной жена, да жива-здорова, и говорит,– Стрижено!
А я головой киваю – ага, мол, стрижено. Сам руки к ней тяну, хочу обнять. А она не дается.
– Ну, если говоришь, что стрижено, тогда брито.
Я опять соглашаюсь.
– Брито, моя люба, брито.
Жена руками машет.
– Мне, – говорит, – с чертями интересней жилось.
Еле-еле уговорил ее домой вернуться – и зажили мы с тех пор припеваючи. Захочу, к примеру, щец, кричу жене, – свари мне каши, она мне щей наварит. Захочу блинцов с каймаком, кричу ей, – хочу щей, глядь, а блинцы с каймаком уже на столе. Не жизнь, а сплошное удовольствие. Раздобрел я: грудь колесом, усы торчком, смотрю соколом. Соседи завидуют – до чего же ладно живут.

