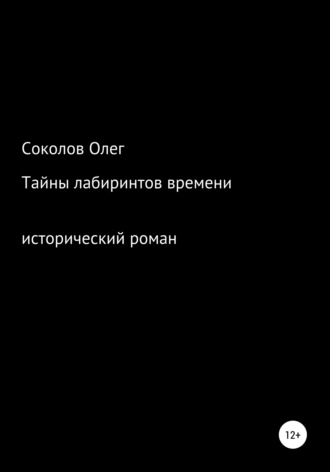 полная версия
полная версияТайны лабиринтов времени
Вот, как-то раз, приехал к нам с соседнего хутора свояк, еле на ногах держится. Посмотришь на него – подумаешь, в гроб краше кладут. Пока лошадей распрягали, я у него и поинтересовался, – Никак, кум, на тебе черти воду возили?
Вздохнул свояк и говорит в ответ, – Угадал, завелась в нашем хуторе нечисть – ни днем, ни ночью покоя не дает.
Подумал я, ус потеребил и говорю, – Этому горю только жена моя поможет, счас, – говорю, – я с ней словом обмолвлюсь, только в разговор не влипай.
– Жена, – кричу, – кум приехал, в гости зовет, да мне что-то не больно хочется. А та в ответ, – Еще чего! Надо поехать, если зовет. Не чужие – ить.
– Ладно, – соглашаюсь, – тогда я один поеду, а ты останешься и за хозяйством присмотришь.
– Еще чего, вместе поедем – за хозяйством соседка присмотрит.
Слушает кум, да удивляется. Собрались мы, принарядились – и чин чином в гости покатили. Только в хутор заехали, как увидели черти жену мою – и ну деру, кто куда. Народ на улицу вышел – праздник у людей, за спасенье нас благодарят, а мы слушаем, усмехаемся, да помалкиваем. Женушку свою обнимаю, смотрю – не могу насмотреться. Хороша женушка!
Онопко, не журись, станешь атаманом после меня. Думаю, на кругу завтра побратимы не откажут тебе в атаманстве. Омелько возьмет под свою команду пластунов заместо тебя. Как думаешь, справится?
– Справится, атаман, всенепременно справится! О нем в народе такие сказы бають, что чуть ли не колдун он, заговоренный от пуль; вырдолак, принявший облик людыны; старец, выпивший молодечного вина и умеющий с птицами балакать.
Пластун Омелько.
Пластун-казак – это разведчик: дюжий, выносливый, с чутьем зверя и умом человека. Его урок: открывать неизвестные тропы, броды в пограничной реке или болоте; класть и проверять приметы во всех походах; разгадывать следы противника и зверя; сидеть в секрете, не привлекая внимания ни зверя, ни человека; брать языка; вести поиск противника в голой степи.
Легкий на подъем и неутомимый, не знающий удержу после подъема, с неистощимым запасом военного опыта, скрытен и храбр, ловок и смекалист.
Вооружение пластуна состоит из тесака, штуцера, пороховницы на поясе, отвертки и шила из рога дикого козла; при нем котелок и скрипка или балалайка. Одежда потрепанная, вся в кожаных заплатках, сапоги из кожи кабана со щетиной наружу.
Пластун.
Гоняются турки за пластунами – ни один день, а догнать не могут, как сквозь пальцы уходит вода, так пластуны уходят от погони. Янычарам, навроде, как леший глаза отводит от следов, оставляемых казаками. Ну, не может быть, чтобы люди после себя никакого следа не оставили, думают турки, а они тоже – не дураки – или неучи какие были.
Пластуны выдохлись – еле ноги тянут, дойдут до камышей, зайдут по пояс в воду и стоят, ждут, когда турок подойдет. Турки бросаются в атаку, а на месте пластунов только шапки и башлыки, надетые на камыши. Пластунов и след простыл.
Турки верили, что пластуны с нечистой силой знаются, так появились легенды и сказания о невероятных способностях казаков-пластунов. Тактика пластуна, как говаривали старые казаки, уметь с волками разговаривать, шептаться с деревом, советоваться с землей, дружить с ветром и иметь лисий хвост, да такой пушистый и большой, чтобы следы умело за собой заметать, а главное, чтобы неприметный он был для чужого глаза.
Тот не годится в пластуны, кто не умеет: убрать за собой собственный след; заглушить шум собственных шагов; найти и вести по следу противника казаков на сухой, словно камень, земле; прочитать направление движения противника, когда он путает следы в снегу или на болоте, словно старый заяц.
Пластун меняет свой рост в лесу, чтобы уйти от погони. В высокой степной траве, в камышах он испаряется, становясь эхом для противника, птицей, выпорхнувшей из рук. Видит турок, что пластун зашел в болото, атакует его, а там только выпь прокричит, а казаков уже нет – испарились.
Пластун Омелько возьмет, бывало, ружье и скрипку – да отправится на охоту за кабаном. Убьет зверя, зайдет на хутор, и давай потешать девушек игрой на скрипке и байками о войне. Старые казаки любили Омелько, а когда узнали, что турки подстрелили любимого в округе казака и держат в плену, то любовь людей к его веселой душе спасла ему жизнь.
Сидит пластун в яме – думу думает, а какую, и сам не знает, слышит – хуторяне с турками торгуются. Старый казак заспорил с турком, отвлек его внимание, а хлопцы, тем временем, возьми – и вытащи пластуна из ямы. Казачки выкупили у турок скрипку, и пластун вновь забавляет хуторян, и воюет с басурманами.
Случай с Омелько – самый обыкновенный для той поры, и история его – самая обыкновенная. А началось все, когда Омелько смог уйти из своей деревни на заработки.
– Каждый купец на пристанях имел свою контору, вот я и принялся расхаживать, да прицениваться, – рассказывал хуторянам Омелько. – Хожу от одной к другой, везде мужики толкутся и глухой ропот слышен, куда ни кинься – везде сущие гроши платят. Купцы совсем обнаглели, у самих сундуки от червонцев ломятся, а у тех, кто им эти червонцы зарабатывает – животы от голода сводит.
Раньше было лучше: уйдет мужик на заработки, и жена знает, что вернется он, если, конечно, не пропьет все обратной дорогой, с деньгами. Можно купить лошадь – взамен старой клячи, которая соху еле тянет; коровенку еще одну; выводок цыплят или порося с хряком.
Крестьянин умеет прятать большую часть заработка от загребущих лап помещика или чиновника и у каждого свои способы имеются.
В конце концов, я прекратил ходить от конторы в контору и решил остановиться – все равно деваться некуда.
На столе, устланном заляпанной кляксами скатеркой, в беспорядке валялись испорченные перья, а за ним сидел приказчик, явно страдающий мигренью, от чего его персона выражала безмерную усталость, отупение и отсутствие интереса к происходящему. Когда к нему подходил очередной мужик, он, словно заговоренный болванчик, без всякого выражения лица бубнил условия найма. Большинство бурлаков – тут же посылало его к матушке.
– Совсем, клещ бумажный, зажрался… Ты хоть ведаешь, что такое бурлацкий труд? Потянул бы лямку – понял бы, почем лихо. На что крестьянин получал неизменный ответ, – будешь наниматься – говори имя, а нет, тогда проваливай.
Наконец, настала моя очередь. Приказчик после тарабарщины об условиях найма, не дождавшись от меня лая в свою сторону, удивленно поднял глаза и спросил мое имя.
– Омелько.
– Паспорт есть? Может, ты беглый?
– Паспорта нету.
– Беспаспортным платим меньше, потому как рискованно. Если дознается воевода, что берем на работу беглых – голова с плеч. Сзади раздался смех – все знали, что воевода закроет глаза на что угодно, когда деньгами их прикрывают. Купцы с удовольствием пользуются именем воеводы, чтобы практически не платить бурлакам.
Я согласно кивнул головой.
– Тогда получи в задаток копейку и распишись в договоре, если грамотный, а нет, так палец вымажи чернилами и приложи к бумаге, – он сунул мне под нос толстую книгу, пододвинул перо и чернильницу. Я долго мычал и мусолил страницы книги, перелистывал их неуклюжими пальцами.
– Не умеешь писать, так приложи палец, я же тебе говорил. Отдай книгу, бестолочь, – приказчик нашел нужную страницу, взял перо, написал что-то и, пододвинув ко мне книгу, ткнул пальцем в нужную клеточку. Я оставил свой чернильный отпечаток и крестик.
Через несколько дней баржи стали отходить от пристани. Цепочкой потянулись они по течению Волги, не обошлось и без неразберихи. При отплытии столкнулись две баржи, кормщики не хотели друг друга пропустить, а когда произошел затор, то дело дошло до драки между командами и бурлаками – бились насмерть. Буянов кое-как утихомирили, а суда растащили.
Прокопыч был у нас волом, главной тягловой силой, бригадиром и направляющим всего движения нашего общества. Человек немногословный, и силищу имел огромную, команды отдавал короткими и громкими словами.
– Отдавай! Не засаривай! Засобачивай! Тяни!
Бурлаки затянули песню про пса: «Белый пес шаговит, шаговит, черный пес шаговит, шаговит…»
Мужики подхватили охрипшими голосами, и начались бесконечные дни, полные непосильного труда и отупляющей боли в натертых лямками плечах. Больше двадцати верст в день пройти еще никому не удавалось, время ползет медленно. Ломовая и сонная жизнь наводит тоску и невообразимую скуку, а еще медленно заползающее в голову безразличие к окружающему миру. А и мир ли это?
От такой жизни постепенно тупеешь. Перепели все песни, которые знали: про дубинушку, да про калину или малину, про бурлацкую долю, да про хозяйскую дочку.
Бечева все время цепляется за кусты и деревья, тем самым затрудняя, а то и останавливая ход. Косные-то и дело ссаривали бичеву с препятствий. Когда баржа идет по гладкой воде, то мы, хоть и тянем лямку, но идем, отдыхая, да с припевками, а порой и в хорошем настроении. Баржа, что человек: когда растеряется и не знает, что дальше делать и как жить, с места не сдвинешь. Баржа, если остановилась, то ее сперва раскачать нужно, а уж она, если сдвинулась с места, сама нас подталкивать начинает.
На крутом обрыве, называемым горбатым, я вместе с еще одним новеньким – кашеваром Ивашкой, прошел обряд посвящения в бурлаки. Нас скатили вниз с обрыва, засунув в парусиновые мешки и пиная ногами. Мне показалось, что переломал себе все кости, пока скатывался, а в конце причастия чуть не захлебнулся в реке, влетев в воду со всего размаха. Я стерпел надругательство молча – ну, раз положено, так положено, чего уж тут. А вот Ивашка рассвирепел и полез в драку, досталось даже Прокопычу, хотя тот на голову выше Ивашки и, чуть, не в два раза шире в плечах.
Иногда ставили паруса, когда ветер подходящий, тогда залезали на баржу и заваливались спать. Не было приятней жития, чем в такие вот дни. Но, коли подул обратный ветер, то наша жизнь превращалась в ад кромешный. В такие дни мы молились, чтобы ветер встречный утих, а попутный крепче стал, да настолько, чтобы силушки нашей хватило тянуть дале баржу.
– Мочи нет, бросай якорь! Переждем непогоду, потом наверстаем, – скомандовал Прокопыч.
Однажды наша баржа, тяжело затрещав боками, села на мель. Снимали ее целый день, установив на берегу ворот, а наутро спина и ноги болели так, что я готов был скорее сдохнуть, чем пошевелиться, чтобы оторвать свое тело от земли и продолжить движение.
По вечерам разжигали костер, складывали в общую кучу пайки и вот уже кипит в котле каша. Мажешь ее медом и получаешь любимое и, единственно возможное, блюдо бурлаков-саламату. Разливаем по кружкам квас и как все наедятся, да жажду удалят – рассказываем байки о похождениях воровских казаков, о знаменитых атаманах, да о сокровищах, припрятанных в горах, в пещерах подземных, да в бескрайнем море Черном, на котором нет бурлаков, а одни вольные казаки гуляют.
Перед отплытием я приметил писаря, что меня на работу принимал, у нас на барже ошивался. Он с бурлаками не разговаривал, днем спал, а ночью пил с приказчиком и тянул дурным голосом, какие-то жуткие, воровские песни. За четыре дня до прихода в Казань, на противоположном берегу реки, мы увидели в кровавых лучах заходящего солнца высокую гору, окруженную чащей лесной. На вершине той горы виднелись развалины старой крепости.
– Гора дьявола! Гора дьявола! – пронеслось по цепочке бурлаков.
Все остановились и принялись креститься, и плевать через левое плечо. Послышался шепот, – проклятое место, живые туда не ходят, там одни вурдалаки с вампирами обитают.
– Об этом и так все знают, – ответил Ивашка.
– Все, да не все, – возразил я, – а если чего знаешь, так расскажи.
– Ладно, слушайте. В давнее время гора дьявола стояла на границе Руси и Казанского царства. По приглашению хана из Багдада – это город такой, приехал зодчий, что дома строит да крепости и дворцы для царей. Построил тот зодчий – неприступную каменную крепость на горе. Шибаном в этой крепости хан поставил своего мурзу, что, значит, по нашим чинам – все одно, что генерал.
Как его звали, никто уже и не помнит, а тогда и не знали. Крестьяне прозвали его Черным мурзой, и властвовал он над окрестными чувашскими и марийскими селениями, что раскинулись по берегам реки с обеих сторон. Каждый год мурза объезжал эти села со своей дружиной и собирал ясак. Не забывал он и на Русь набеги делать. Мурза злой был, и вместе с деньгами, да с продуктами – требовал от селений откуп за свою жизнь, да самыми красивыми девушками этих мест.
Когда, бывало, взбунтуется село, мурза приказывал одного из этого села прилюдно запороть до смерти. Если не помогало, и крестьяне лезли в драку, то дружинники мурзы сгоняли самых крикливых, или задиристых в дом, запирали и сжигали заживо. Этот человек был хуже сатаны, прости, господи.
Везде, где появлялись воины Черного мурзы, закованные в железные латы – бушевали пожары, и лилась кровь человеческая, а из замка слышались стоны людей умирающих. Ох и злые на этого мурзу были чуваши и марийцы, только сделать ничего не могли. Просили крестьяне русские дружины избавить их от мурзы, когда те приходили мстить за причиненный им разбой. Русские не отказывали в помощи, да и поживиться их начальники были не против, тоже, ить не дураки. Дружины ихние осаждали крепость, но взять ее так и не смогли.
Никто не знал, что творил мурза со своими наложницами, но живыми их уже никто и никогда не видел. Так продолжалось до тех пор, пока одной из пленниц не удалось бежать из крепости. Одному Богу известно, как ей это удалось.
Однажды крестьяне, проснувшись поутру, увидели, что у гумна лежит девушка, которую недавно мурза забрал себе в качестве откупа. Девушку спрятали, и стали ее спрашивать, что с ней случилось, и что с девушками делает мурза. Бедняга начинала кричать и рвать на себе волосы, но, придя в себя, смогла рассказать о тайном ходе из крепости в лес.
Мужики вооружились, кто, чем мог: кто вилами, кто топором, кто косой или ножом, кто рогатину схватил – и пошли к лесу. Незамеченными дружинниками Черного мурзы, по подземному ходу – они пробрались в крепость. Бой с воинами был жестоким, но обезумевшие от горя и страха крестьяне бросались грудью на копья и мечи воинов мурзы. Мужики перерезали всю дружину Черного мурзы, освободили всех его рабов, а изверга подвергли ужасным пыткам, а потом, еще живого, замуровали в стене крепости. Саму крепость разграбили и подожгли, но стену, в которой замурован мурза, не тронули.
Люди ушли с тех мест, опасаясь мести хана, и округа опустела. До сего дня никто не решается поселиться в этих местах, обходят люди стороной гору дьявола. Дальше, чем за двадцать верст от горы, стали селиться люди – и то, надо сказать, все беглые. К той горе и солдаты не подходят, и помещики не рискуют ставить деревни, а ведь им не раз уж власти предлагали, даже от налогов освободить обещались, но…
Говорят, что в лесах – возле той горы видели, скачущих во весь опор, всадников-призраков в черных доспехах, а в озере живут души замученных Черным мурзой. Девушки выходят из озера – и топят всех, кого найдут поблизости, мстя живым за свои страдания. Все знают, что на горе дьявола спрятаны несметные сокровища мурзы. Много народу ходило их добывать, но еще никто оттудова не возвернулся.
Тут у всех, кто слушал Ивашку, захватило дух.
– Так, ты был на этой горе, а может, жил в этой округе? – спросил я.
– Не он нашел энти сокровища! – заржал один из бурлаков.
– Да, нашел и решил подвязаться на каторжную работу бурлака, очень-то она мне по душе, а я не привык себе ни в чем отказывать. Барин я – или нет? Смех-смехом, а черных всадников видел, ну, как вас сейчас вижу.
– Врешь!
– Ей Богу, не вру! Раньше тоже не верил в эти байки, особенно про кикимор всяких, пока сам не побывал на горе дьявола. Я не за сокровищами ходил.
– Ну и дурак! Идти ежели, так за стоящим делом, чтоб, значит, судьбу свою повернуть, да жизнь лучшую узнать.
– Я спьяну пошел, что, мол, не боюсь я в проклятом месте ночь провести. Поспорил, значит. Взял с собой еды про запас и отправился в лес, темень там непроглядная.
Пришел я днем туда, а в лесу, точно ночь стоит и солнце никогда не восходит, залез я на дерево, чтоб солнце увидеть, думая, что его не видно из-за деревьев, что так густо растут. Глядь, а солнце тоже черным цветом окрашено. По зарослям, да по темноте быстро по лесу тому не пройти – только к вечеру добрался к крепости.
Глянул я на нее – и волосы у меня на голове зашевелились. Огромная и черная, хоть стены разрушены и бурьяном поросли, но крепость от этого еще страшнее, кажется. Внутрь я так и не пошел, побоялся, и расположился перед воротами. Развалился, значит, на траве, но сон не идет к глазам, сидел я, братцы, и пил всю ночь водку. К утру только дрема пришла, да и опьянел я знатно.
А дальше, все как во сне было: лес заволокло туманом, лягушки в болоте перестали квакать, птицы перестали щебетать, ветер утих и листья на деревьях не шевелятся. Из тумана выезжает краля – красоты неописуемой, а за ней четыре всадника на великолепных гнедых жеребцах.
Я заорал, как скаженный, и бросился бежать. Всадники – за мной, я – от них. Так и бегал, петляя, словно заяц, между деревьями. Бегу и слышу топот копыт за спиной, душа у меня спряталась в самой нижней точке моей пятки.
– Господи, ведь настигают меня, ей богу, настигают! – стучит, значит, в висках. И вдруг, я выбежал к оврагу: обрыв высокий, а внизу озеро. Ни о чем не думая, я прыгнул в воду, а когда вынырнул, то увидел, как всадники повернули коней и ускакали восвояси.
Что случилось дальше – не помню, только думаю, что меня спасли кикиморы назло черным всадникам.
– А ты не помнишь, чего с тобой те кикиморы сделали?
– Не, не помню, только меня чуваши той же ночью в лесу этом нашли. Говорили, что был совсем плох, едва выходили.
– Знатно те кикиморы тобой попользовались.
– Враки все это.
– Отдавай! Не засаривай! Засобачивай! Тяни! – команды оборвали нашу беседу.
Спустя четыре дня мы увидели Казань, и бурлаки оживились, настроение поднялось – и веселее потянули баржу, ускорив шаг.
– Ох, ребятки, и гульнем!
– Вы, как хотите, а я иду в «Медведя», хочу поесть похлебки из рыбы.
– А в «Маруське», все ж таки, лучше, чем в «Ерше» или «Медведе».
– Зато поят там – такой сивухой, что потом неделю будешь животом маяться.
– Не забудьте, что нужно проучить казанских! В прошлом годе они нашего порезали! Ну, ничего, теперь сочтемся!
– У нас с казанскими – древняя свара. Раньше все было по-честному, дрались стенка на стенку, до первой крови. Ни кастеты, ни ножи в ход не пускали. Мы всегда били татар и гнали их по городу, крича и погоняя, как погоняют свиней. Они свинину терпеть не могут. Прогоним, значит, и мы хозяева в городе.
В прошлом году все изменилось, перед общей свалкой произошел поединок двух лучших бойцов. С нашей стороны вышел Петруха, быстро одолел ихнего бойца – и давай его колошматить своими кулачищами. а тот и пырнул Петруху заточкой исподтишка. Мы бросились на татарву, а товарищ наш истек кровью и умер, пока мы дрались.
Встречать нас вышло все население города. Пристани были забиты сотнями подвод, и, то тут, то там собирались кучки подвыпивших парней с пудовыми кулаками. Они грызли семечки и враждебно смотрели на нас из-под насупленных бровей. В трюме нашей баржи, среди мешков с овсом, лежали связки тонких стальных прутьев, мы их заточили и спрятали под одеждой.
– В ход пустите только по моей команде, – скомандовал Прокопыч.
На берегу реки Казанка нас поджидала местная братва. Из ее рядов вышел кривоногий, но плечистый малый. По рядам бурлаков пробежал ропот.
– Это он зарезал Петруху.
– Куда идете, хлопцы, – спросил кривоногий татарин.
– На кудыкину гору, кудыкиных бить! – прорычал Прокопыч.
– Шли бы вы обратно на свои корыта и носа оттудова не показывали, а то и носопырку ненароком могут расквасить.
Прокопыч улыбнулся: верно, могут. Прокопыч даже не размахнулся, а так, плечом повел, и татарин с расквашенным носом отлетел, будто ветром того сдуло. И понеслась круговерть-гурьбинушка, в руках у татар появились заточки и кастеты.
– Кидайте прутья! – заорал Прокопыч.
В грозно надвигающуюся на нас толпу полетели прутья. Результат был ошеломляющий, повезло тем, кому они попали в ноги и руки. Страшные раны в шее, в животе стали для многих смертельными, а те, что были ранены в лицо, сразу по большей части погибли. Одному, я видел, стальной штырь попал в глаз, он упал прямо мне под ноги. Пришлось наступить на него, чтобы со всей братвой вклиниться в стенку татар.
В первую минуту мне сильно попало по лицу, и я свалился в грязь, но, схватив булыжник с мостовой, и не видя перед собой никого и ничего, я расчищал вокруг себя пространство. Когда передо мной возникал очередной противник, я валился ему под ноги – и что есть мочи бил между ног, а его кулак пролетал надо мною. Это, конечно, было неблагородно, но зато эффективно, и помогло сохранить зубы и ребра в целости.
На Прокопыче повисло несколько татар, они пытались его свалить и запинать ногами, но он раскидал их, словно медведь мух.
Ивашка, раскачиваясь как маятник, врубился в толпу местных задир, кулаки его летали, словно крылья мельницы, и татары сыпались на землю от его ударов.
Те из татар, что еще могли устоять на ногах, бросились наутек дворами и огородами. Городская стража, как всегда, бездействовала, хотя она, даже если бы и захотела, то все равно не смогла бы нас остановить.
Случайные прохожие пострадали не меньше татарских бойцов. Бурлаки неслись по городу в погоне за татарами, и никто не различал, тот ли это татарин, что пришел драться, или просто прохожий. Татары для бурлаков были все на одно лицо. Бурлаки вошли в раж и, врываясь в дома, начали грабить их.
На Казань напали русские бурлаки – и в очередной раз город был разграблен, а бойцы перебиты. После окончательного разгрома татар, чтобы остыть, мы искупались в реке, и пошли в трактир.
В «Медведе» – так назывался трактир из-за вытесанной статуи медведя, стоящей у входа в него – после обильного ужина мы растащили столы для плясок. Пиво сменила водка, которую мы пили, не закусывая. Трактир наполнился веселыми девицами.
Карлик взял в руки балалайку – и пальцы бойко забегали по струнам:
Собирался казак на войну,
Взял коня своего под узду,
Сабельку булатную надел,
И, как водится в народе, выпил и поел…
Двое цыган вывели в круг ручного медведя. Началось настоящее веселье, последнее, что я услышал – это крик: «Бей татарву!». И сознание мое померкло.
Я проснулся на берегу Казанки с дикой головной болью и почувствовал, как на голову льется холодная вода.
– Ну что, пойдешь дальше бурлачить или хватит с тебя нашей жизни?
– Бурлачить, – глупо повторил я, но ответа, видать, от меня так и не дождались. Второе просветление сознания – было не столь мучительным и уже более осознанным. Я лежал в светлой избе, и на мне было свежее исподнее. Дверь отворилась – и в горницу вошел Прокопыч.
– Жив и здоров, молодец? Еще раз спрашиваю: пойдешь бурлачить или со мной, я так на баржу возвращаться не желаю. Мне до Казани нужно было дойти, чтоб не словили и ухи не обрезали.
– А куды с тобой, ты вообще кто?
– Дед Пихто, что помещика зарезал. Заводи, братва!
В горницу пришли бурлаки и притащили писаря с баржи.
– Омелько, очнись. Так до тебя дошло – или нет, кто я такой?
– Ты беглый.
– Правильно, а потому скажу тебе: не один я пришел к той мысли, что пора к вольной казачьей жизни поближе быть. Ты-то, как с таким умением – и в бурлаках оказался, тебе бы в цирке выступать, в самый раз будет. Видел, как косил татарву, они на землю валятся, знай, в снопы собирай и вяжи, слова не скажут. Пиши, гусиная твоя душа, ишь, уши развесил.
Писаря, белого как снег, трясло от страха.
– Пиши пашпорт, – прорычал Прокопыч.
– Как имя твое, отрок? Откуда родом? Кто родители, и какого чина, звания?
– Омелько, сын Степана-крестьянина, свободный. Село Шогово Воронежской губернии.
Писарь дрожащими руками написал мне паспорт и его вытолкали вон из дома. Прокопыч поднялся и открыл окно.
– Вы гляньте на писаря, надо же так напиться, чтобы сил хватило только до калитки дойти.
– Спит, поджавши ножки. Хозяйка, на стол накрывай. Ты, Омелько, теперь с пашпортом, но я так и не услышал твоего решения.
– У тебя, атаман, уже и ватага собрана, и дело поставлено? Чего ж меня спрашивать, коль деваться мне все равно некуда. С тобой, конечно, где наша не пропадала.
– Что ж, вот и ладно. Глянь в окно. Видишь, девки белье стирают? Сторожевые мои. Они где белье то стирают? У самой пристани, а купцы посмеиваются над ними. «Дуры, – говорят, – ваше белье в этой воде еще грязнее станет, нежели было до стирки. А девки смотрят: какой струг якорь бросил, куда и что с него сгружают, да что на него грузят. Мы их товар ночью-то к рукам и прибираем.

