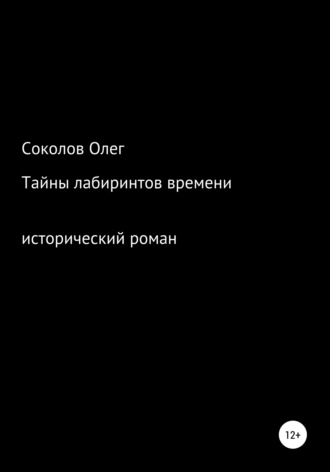 полная версия
полная версияТайны лабиринтов времени
– Видал, атаман, каков улов? В больших греческих шаландах рыбу ловим. Баштан разбили, арбузы – по пуду, и это – самые маленькие. Виноград посадили, так с лозы – бочка вина, ей богу, не вру.
– Онопко, заговариваешься и повторяешься.
– Так ты чув вже про нашу жизнь?
– Ага, и рассказал о ней мне ты.
– Пока поживи у меня, вон моя хата. Иди, дома нема никого, жинка ось тут, на майдане, а я – в шинок за вином.
Явора порадовало ладно устроенное хозяйство Онопко. Замечательная пара коней, волы, на солнце вялится рыба. Хата уютная, выкрашена, как и полагается, в белый цвет, на стене висит рушныця, сабля и ятаган.
Онопко накрыл на стол, и кроме традиционной соломаты и калачей на столе стоял горшок, в котором булькотало жаркое.
Пришли казаки к Онопко, узнав, что Явор вернулся. Кто хлебну краюху прихватил с собою, кто пяток огиркив малосоленых, кто пару цибулин, кто шматок сала из необъятных штанов выудил. Ну, а Микола, втихаря от бабы своей, из погреба штоф горилки прихватил. Как водится, выпили за Сичь, за атамана кошевого выпили, за братов, кто в боях несчисленных голову сложил, помянули. Ну, а дальше пили уже за все, что глаз бачил, да ухо слышало, пили и плясали. И, как положено, по казацкому звычаю, дедами запорожскими заведенному, пошли дале в дело побасенки казацки.
А тема возникла, казаки, такая, что поведать надобно было о выдающихся размерах существа там какого, либо растения, а хоть бы и фортеции какой, что видали казаки в походах. Вот Самойленко и молвит:
– Однажды, шановнии, прогуливался я по берегу речки Дунай. Вдруг вижу, мать честна! – огромный буйвол, величиной с гору, стоит на одном берегу реки, а сам вытянул шею, достал до другого берега и, представьте, браты, враз слизнул языком полосу ячменя с барского поля!
Тута Котенко заулыбался и говорит:
– Ну, это что, браты! Вот я видывал такой камыш, не то на Буге, не то на Днистру, что просто чудеса, да и только. Ствол у его длинный был, как горы Карпатския.
На что Самойленко с усмешкой ехидною заметил:
– А что, кум Котенко, по толщине тот камыш, мабуть, с твою хату был?
– Вот именно, – невозмутимо ответствовал Котенко. – А иначе из чего прикажете, кум, исделать веревку, чтобы продеть тому буйволу в ноздри, как не с того камыша?!
Тут уж не выдержал Перебейнос, да и вмешался в разговор:
– И вам, добродии, эдакие пустяки кажутся чудесами? Вот я, скажу вам, видел как-то раз столь высокое дерево, что макушкой в небо упирается, а ствол его – так был огромен, что за месяц не обойдешь.
– Быть того не может! – разом заговорили казаки.
– Не верите? – обиделся Перебейнос. – Тогда скажите, к какому же столбу привязывать вашего буйвола, шановнии?
Тута уж и дед Чернега вмешался:
– Вы все, казаки, говорите чистейшую правду… Бросьте ссориться. Но скажу вам честно – это еще не чудеса. Вот я видел огромнейший барабан казацкий! Такой барабан, от грохота которого сотрясалися целые страны!
Удивилися казаки – и давай приставать к деду Чернеге с расспросами:
– Какой же величины, диду, отот барабан, коль его грохот сотрясает целые страны?
– Посудите сами, шановнии: чтобы обтянуть тот барабан, едва хватило шкуры того самого буйвола с реки Дуная, а корпус его исделан из дерева, которое макушкой небо достаеть, ну, а камыш, ствол которого длиною с Карпаты, пошел на обруч.
Поняли туточки казаки, что Чернега умнее их оказался, но только и признаваться в этом не спешат.
– А скажите, диду, – ехидно вопрошают, – на что же, скажем, вешают ваш барабан, коли сбираются в его ударить?
– А вот про то – ваш покорный слуга Онопко знает, позвольте ему вам ответить, шановнии.
Обернули казаки головы – глядь, около тына Онопко спыть. Да так уважно слушаеть их разговор, тилькы хропака давит такого, шо чертям тошно. Казаки давай будить Онопко криками, способными лишить дикого коня мужества и сил, а как проснулся Онопко, так давай, милостиво – в знак согласия головой кивать. Потим Онопко протэр очи, усмехнулся и молвит:
– Барабан тот, казаки добрые, висить на мосту, по которому я часто с отцом своим покойным хаживал. Как-то раз остановилися мы, глянули с моста вниз, а мост столь высокий, что тот буйвол, про которого вы изволили рассказывать, показался нам совсем крошечным, не более блохи. Ствол камыша, равный горам Карпатским, был не длиннее волоска, а дерево, макушка которого в небо упиралася, казалось, панове, не выше гриба. Тут отец мой загляделся, голова у его закружилася, да и полетел он вниз. Три года оплакивал я отца. Когда же снял траур, пошел опять на тот мост, помянуть батька, смотрю – а он, бедолаха, все еще вниз летит.
Услыхали это казаки, аж рты поразевали – языками ворочають, а сказать ничего не могут. Тилькы дед со смеху давится:
– Байки ваши тилькы уши и греють вам, а вот послухайте, як сокольничего князя наказав казак. Расскажу я вам, браты, как лося из лесу тащил.
Одного разу, казаки, пошел я в лес – зайца там какого заполевать, бо в хате уже ничего съестного не оставалося. Зарядил рушницу, пороху да свинца в карманы засыпал, да и отправился на охоту.
Долго ли, коротко ли ходил – а нет дичины. Тут уже и смеркаться стало. Что ж делать казаку? Надо до хаты возвертаться. А только слышу вдруг – кто-то скрозь кусты продирается терновы. Да, так ломится, что только треск стоит. Ну, думаю, мабуть, медведь. Бо, кто ж еще сможет такой шум учинить? Быстро вытряхнул я из ствола рушницы дробленый свинец, что на зайца был приготовлен – и ну швыдче в ствол пулю забивать! Только забил, да шомполом прибил заряд, как, глядь, выбредает из кустов лось. Да, такой здоровенный, что рогами снег с верхушек сосенок сбиваеть.
Э-э, обрадовался я, да тута мясца, почитай, на увесь курень хватить. И приготовился стрелять.
Да, только не подумал я, как смогу всю энтую тушу, пудов эдак на пару десятков, из лесу в курень-то доставить. Да, ништо, решил, ужо доставлю как-нибудь. Подождал – и дождался, когда лось на поляну чисту выйдеть, да и пальнул пулею. Враз лось свалился, как подкошенный, бо я прямо в сердце ему запалил-то.
Только-только я к добыче своей шагнул, а уж из лесу выходять сокольничий князя, да с ним два егеря.
– А што, казак, – сокольничий молвит, – имеется ли у тебя, скажем, папирец, охоту в княжеском лесу дозволяющий? Мы ж, – говорит, – по твоим следам от самого куреня твово идем, чтоб тебя на горячем-то впоймать.
Лап-лап по карманам штанов своих широченных, на какие двенадцать аршин сукна ушло, и кожушок свой задрипанный облапил, и дажеть в шапку казацку заглянул на всяк случай.
– А нетути, – ответствую, – при себе папирца-то. Забув, мабуть, в хате. Бо шибко быстро сбирался, – говорю.
– Што жа, – говорит сокольничий, – ведем тогда мы тебя с добычею твоею к князю. А уж как он решит с тобою поступить, то одному ему ведомо. А только мыслю я так, што за лося-то из лесу княжьего получишь ты батогов. Эдак с полсотни.
– А князю подарок на стол рождественский – лось-то.
Эх, кой-как они вчетвером лося-то до куреня дотащили. Паром изошли все. Да около хаты моей и остановилися передохнуть. Бо уже никаких сил не было дальше тушу лосину-то переть.
– Эй, добри люди, – вдруг я себя по макушке хлопаю. – Да, вот же папирец-то, охоту дозволяющий! Мне его тиун-то княжий ишо в прошлом годе дал! Мы же с им други великие! Хочь его самого поспрошайте, друга мово сердешнаго! Вишь ты, заложил за подклад шапки-то, да и позабыл про это! – И бумажку сокольничему протягиваю.
Прочитал сокольничий дозвол-то княжий на охоту, так лицо у его сделалося, ровно буряк лиловое. Едва кондратий его не хватил от злости-то!
– А, штоб тебя! – проскрипел горлом простуженным, да пересохшим. – Пошли отседова! – рукою егерям махнул.
Вот так, казаки, я того лося-то до куреня и доставил. А как разделили того лося промеж семьями казацкими, так кажинной семье по десять фунтов лосятины-то и досталося. А мне, как охотнику удачливому, цельну задню ногу-то и определили. Ну, а хохоту, да надсмешков над сокольничим княжим с егерями, которые лося-то до самой моей хаты дотащили, так до самого Рождества хватило.
– А я расскажу, – вмешался Подопригора, – как тиуна княжеского гавкать научил. Э-э, добрые казачки, да кто ж в Сичи не слыхал о таком казаке, как я, да об моих проделках! Да, мабуть, и не только в Сичи. Обо мне рассказывают даже в Пологах, а может, ещё подальше – да, хоть бы и в самой Виннице! За что ж такая слава казаку, спросите? Ведь я-то ни богат, ни знатен. Всего-то и было у меня имущества, что весёлая шутка, да едкое словцо. Весёлые шутки я раздаривал казакам, да беднякам каким, чтобы им полегче жилося. Ну, а острые словечки, да едкие насмешки приберегал на другой случай.
Вот однажды шёл я мимо княжеского поля. Смотрю – десять служек княжьих надрываются вокруг огромного камня. Пыхтят, а сдвинуть не могут. Чуть в стороне стоит толстый тиун, управитель княжий, в тёмно-красном кунтуше из тонкой шерсти. Стоит себе, да, знай, покрикиваеть на служек: «Шевелитесь, лентяи! Вправо берите! Влево толкайте».
Служки – те уже еле на ногах держатся, а камень – ни туды ни сюды.
Тут я и подумал: «Э, да тута, бачу – у толстого тиуна для меня хорошая еда приготовлена! Вовремя я поспел». Подошёл я к тиуну и спрашиваю:
– Куды ж этот камень собрался переезжать? Неужто у князя камней мало, что энтот на новое место назначили?
Тута тиун на себя важный вид напустил, губу оттопырил и ответствует:
– Ума в тебе не больше, чем в энтом камне. Не видишь разве, что глыба лежит на ячменном поле? Вот я и велел унести её подальше. И, подумай, до чего измучился – битый час ужо здеся простоял, взмок увесь от напруги, а эти бездельники и на муравьиный шаг камень не сдвинули.
– А я бы этот камешек и один на спине унёс.
– Так унеси! – тиун говорит.
– Э, нет! – отвечаю. – Сперва схожу до дому, да пообедаю. Я завсегда стараюся перед работой поесть, а то после работы брюхо такой платы требует, что моему карману расплатиться не под силу.
«Нельзя же казака отпускать, – подумал тиун. – Уйдет – не вернется».
– Зачем тебе домой ходить? – говорит. – У нас на кухне столько еды – и на тебя хватит.
А только меня и не пришлося долго уговаривать. Привёл меня тиун на княжеску кухню, где стояли медные котлы с кипящей водой, и усадил рядом с собой на скамейку. Да и приказал служкам приготовить угощение. Один служка отломил большой кусок кулебяки с капустою, другой тем временем кинул в котел пшено промытое, да туда же – соль и масло. Забулькало в котле, да так смачно от его запахло, что у меня слюнки потекли. А третий служка принёс шкварки с цибулею, на сковородке поджаренные, да и закинул тож в котел.
Матинко ридна! У меня до того, уж как два дни маковой росинки во рту не державшего, едва обморок не приключился от того запаха, что с котла вышел.
Зачерпнул тута служка с котла кулешу, да и подал с поклоном тиуну и его гостю – мне, значит. Тут, конешное дело, я достал свою ложку из-за голенища чобота, да и принялся за еду. Ох, и знатно же я поел! За вчерашний день ел, ибо вчера не довелося пообедать. За сегодняшний ел – это уж как полагается. И за завтрашний день поел – на всяк случай. А пообедамши, отправилися оба на поле.
Я подошел к камню и говорю тиуну:
– Ну-ка, взвали ты мне его на спину – мне самому не с руки. – Тиун попробовал приподнять камень, да куды там – камень раз в пять больше его самого. А я покрикиваю: – Пошевеливайся! Вправо бери! Влево толкай!
Весь взопрел тиун с натуги, да только камень – ни с места.
– Эх, ты, слабосильный! – говорю. – И ведь прошу тебя об сущем пустяке – всего только взвалить камень мне на спину. А уж унести его с поля – моя забота. Ну, раз не можешь, что ж, ничего не поделаешь. Сам виноват.
С этими словами я и ушел. Узнали о его проделке в Сичи, и в соседних маетках княжьих. Целую неделю все смеялися. Все, кроме тиуна.
– Шелудивая собака! Сын паршивой собаки! – кричал он, смекнув, как провёл я его.
– Ах, вот как! – сказал я, прослышав об этом. – Собаку по лаю узнают. А только я, пока ещё, не лаял, а вот толстяк-тиун у меня залает.
И я зашагал в усадьбу княжеску.
Едва тиун завидел меня, как уже весь покраснел от злости. Такого ж колеру стал, как и его кунтуш. Но я протянул вперёд обе руки в знак приветствия и заговорил:
– Мудрый сперва выслушает, потом решит. Глупый сначала сделает, потом начнёт раздумывать. А ты, тиун, по всей округе запорожской прославился мудростью.
Тута возгордился тиун, нос к небу задрал, складки кунтуша на толстом брюхе расправил, да и кивает милостиво головой – говори, мол. А я продолжаю:
– Не даёт мне покоя, пан тиун, что угощение я у тебя съел, а отработать – не отработал. Есть у меня знатный подарок для тебя. Молви одно слово – мигом доставлю.
– А какой подарок? – спросил тиун, который больше всего на свете любил получать подарки на дармовщину-то.
– Собака, – ответствую. – Да, какая собака! Можешь всех своих стражников послать княжески поля пахать, потому как она одна – всех их заменит. Как почует чужого, так и загавчит «ку-ку, ку-ку».
– Эх, ты, поросячий хвост! – говорит тиун. – Какая же собака лает «ку-ку, ку-ку! Хорошая собака лает «гав, гав, гав-гав!».
– Что ж, – говорю, – придётся пойти спросить у людей, кто правильней гавчит – я или ты. А, уж кто правильно гавчит, тот и есть собака. Спохватился тут тиун, да поздно. Уж весь княжий двор от смеху животы надрывает. С тех пор он – даже имени моего боялся.
Посля каждой байки казаки, как и полагается, прикладывались к чарке. Явор и Онопко вспомнили и о письме к казакам князя русского:
«Не можно ли казакам на Черном море или Сечи Запорожской, мимо Очакова и Кинбурна, пройти лодками по морю Черному и оттудова в Дунай или хотя бы в Аккерман.
На каждой лодке иметь по писарю и записывать все ветра – сильны ли оные были или тихи? С какой стороны дули? Часто ли меняли направление? В каком расстоянии от крепостей, на глаз, от тех крепостей проходили? Какая глубина была? Плыли ли лодки сии близко от берега? Если да, то записывать, как выглядят те берега, где оные крутые и близко ли от оных стоят глуби, а где стоят отмели и косы. Как далеки оные от берегов? Где и какие селения, города и деревни? Где лодки ночлег имели и с какою выгодой для моряков, и с какими предосторожностями, и не было ли на них какого покушения, и чем оно отвращено?
В поощрении же казаков мне угодно пожаловать со своей стороны: тем, которые с первой лодкой пойдут – тысячу рублей, с другой – пятьсот, а остальным – триста рублей награждения на всех, сколько будет казаков в той экспедиции!».
– Выполнили мы тогда пожелание князя русского. А кто, господари казаки, ко мне в ватагу пойдет? Курень свой у моря поставлю, недалеко от станицы вашей. А как за зипунами пойдем, как злато-серебро добудем в походах славных, так и станицу расширим, и станет у нас главной – казачья станица Причерноморья.
У валунов расположились дозорные атамана Явора, сам атаман находился на своем бусе, а на палубе судна валялись казаки в одних шароварах, соорудив из паруса навес от солнца, они спали после обеда. Один из дозорных подал знак на корабль – это был молодой парень с небольшим чубом, называемым казаками-оселедцем, он прокричал:
– К атаману!
Явор вышел на палубу буса в шелковой красной рубахе и синих широких шароварах, перепоясанный кушаком, ноги были босы, а на боку висела турецкая сабля в серебряных ножнах и с рукоятью, инкрустированной слоновой костью.
– Кто меня звал, хлопцы?
– Прислали к вам толмача, – кивнул казак в сторону писаря, обряженного в черную рясу. – По-персидски, на татарском, по-турецки и по-англицке балакает.
– Греческий разумеешь, писарь? – спросил Явор.
– Владею, атаман.
– Был у меня писарь и толмач, но украл из общего котла, ограбил брата казака, и пришлось его засунуть в мешок с камнями, да в море бросить. Так и ушел на дно, не получив прощения. Виселицу строить некогда было, да и лень казакам потеть ради вора.
Писарь уставился на пушку, стоящую на палубе буса.
– Чего таращишься – это наша любимая гармата Маруся. Красавица поможет проломить стены Измаила. Откуда пришел к нам, ученая душа?
– Бежал от помещика.
– Небось, разбогатеть мечтаешь и вернуться, или просто на вольную жизнь потянуло?
– Хто ж разбогатеть не мечтает? Помещик несколько деревень в крепостном рабстве держит, сам на серебре ест, из золотых чаш пьет, а вот ведь тоже разбогатеть мечтает. Я еще хочу, на примере великих путешественников и завоевателей, которые имели при себе писарей ученых, чтобы те записывали их подвиги и поражения, служить тебе, атаман. Я хочу тоже писать летопись казаков для потомков.
– Э! Брось! Разбогатеть – вот чего хочешь, все остальное, может, и правда, да только кажется мне, что главное – это разбогатеть.
Ты что ж, думаешь, что мы караваны грабим? Так-то разбойные казаки делают или лихие людишки.
Так и не мечтай, персов, татар и турок воевать будем, а если останешься, то не только записывать будешь, а и сражаться – иначе нельзя. У нас повар, писарь, атаман, лоцман – все воины, сто чертей мне в глотку, ледащих не держим, в бою все равны.
Ныне воровских казаков на Черном море нету – перевелись. Был тут атаман один: и своих, и чужих грабил, а награбленное в пещере хранить стал да по катакомбам рассовывал, чтоб, значит, никто не взял награбленное. Много охотников за теми сокровищами под землю ушло, да никто пока еще не вернулся оттудова. Атаман же, когда ватагу воровскую побили, ушел в катакомбы за золотом своим и згинул. До сих пор плутает по энтим подземным лабиринтам его грешная, окаянная душа, и кого встретит, того душит до смерти, не отдает награбленного, дюже жадный он.
Ну, чего смотришь? Он из пещер не выходит, в море не плещется, не боись. Это я к тому, что на дурня разбогатеть не получится, понял?!
– Понял, атаман.
– Ну, раз понял, тогда, бурсак, и я хочу понять, что ты за птица, а ну-ка, расскажи о себе, а я послухаю.
– Случилося то весною, в травне, когда бурсаков отпустили по домивкам на лето. Я собрал быстренько свою котомку – и отправился на Привоз, где договорился с чумаками, что собирались ехать в Бахмут за солью, что возьмут меня с собою в обоз. Когда в знойном мареве степи показалась украина Дикого поля, всколыхнувшаяся серебристо-голубыми метелками ковылей, я спрыгнул с телеги, поклонился в пояс чумакам и зашагал прямо по ковылям к речке Нижняя Крынка, на берегу которой раскинулся мой родной курень. До речки было еще верст сто, но что это расстояние для молодых ног, устремившихся к родному порогу! Бодро шагал я до сумерек, лишь единожды остановившись у ручья в сумрачном овраге и съев, припасенный в дорогу, шмат сала с сочной луковицей.
Однако, проплутав в скальном массиве, коих немало раскидано по степи, понял вдруг, что заблудился. Дорога, по которой я шел в полном одиночестве, привела меня в скальник и затерялась в каменных россыпях.
Я стал искать кого-нибудь, кто мог бы указать мне нужное направление, но вокруг были лишь скалы и малые поляны меж ними, поросшие чахлыми, высушенными степным солнцем акациями.
Обессилев в бесполезных блуканиях, я опустился на большой камень и задумался над тем, как мне придется провести надвигающуюся ночь. Глядя на долину, расстилавшуюся вперед при последних лучах заходящего солнца, я вдруг заметил на холме маленькую хатенку, сложенную из плоских камней, которые иногда встречаются в степи и служат одновременно и жилищем, и молельней решившим удалиться от мира отшельникам.
Издали хатка казалась полуразрушенной и необитаемой, но, когда подошел к ее замшелым стенам, навстречу мне из отверстия, бывшего когда-то дверью, вышел очень древний старец с грязными седыми волосами, клочьями свисавшими с его затылка, в лохмотьях, издававших ужасное зловоние.
Будучи почти уже состоявшимся священником, я, разумеется, имел дело с самыми разными людьми и попадал во всякие ситуации, порою весьма рискованные. Поэтому брезгливость была не в моей натуре. Да и перспектива провести ночь на холодной земле, казалась для меня гораздо менее привлекательной, чем иметь хотя бы такую крышу над головой. Вот почему, приблизившись к старику, я поклонился и сказал:
– Здравствуй, святой отец. Да ниспошлет тебе Господь беспечальные лета. Не окажешь ли ты мне любезность – и не доставишь ли радость, позволив разделить с тобой на эту ночь твой кров?
Старец вдруг вытянул вперед руку с длинными, отвратительными, хищно загнутыми ногтями и пророкотал неожиданно мощным утробным голосом:
– Прочь отсюда, бурсак! Плевал я на все обычаи гостеприимства! Здесь не какой-нибудь постоялый двор, чтобы терпеть всякий праздношатающийся сброд!
– Ответить на это было нечего, я повернулся и побрел прочь, но едва сделал несколько шагов, как низкий голос уже мягче произнес: – Ступай в долину. Там, на краю, ты найдешь хутор, и, если тебе повезет, получишь там все необходимое. Я оглянулся, но старика не увидел. Тот словно растворился в воздухе. Так я направил свой путь в указанном направлении – и действительно очень скоро увидел маленький хуторок, который, как я мог разглядеть в сгустившихся сумерках, состоял не более чем из дюжины домов.
На краю хутора я встретил какого-то парубка, который проводил меня к старосте. Тот тепло приветствовал меня, ввел в свою хату и предложил отдохнуть. В большой горнице я увидел человек двадцать селян, но не успел как следует все разглядеть, поскольку староста его, сразу же, провел меня в маленькую отдельную комнатку, и девушки принесли еду и постель. Немного поев, я почувствовал, как сильно устал, и, несмотря на довольно ранний час, лег спать и тут же уснул.
Меня разбудили громкий плач и причитания, доносившиеся из горницы. Я приподнял голову с подушки и прислушался. В этот момент дверь отворилась, и появился хозяин с зажженной свечой. Он поклонился и сказал тихим голосом:
– Добродию, я староста этого хутора, как вы знаете. Но стал я им лишь несколько часов назад – вследствие печального события. Ибо еще вчера я был только старший сын. А сегодня, незадолго до вашего прихода, мой отец умер. Вы выглядели таким уставшим, что я не решился обременять вас своими заботами, прежде чем дам вам отдых и пищу. Те люди, которых вы видели – все родня моя и жители хутора. Они собрались здесь, чтобы почтить память умершего, но теперь они уйдут в соседнюю деревню, которая находится примерно в полутора верстах отсюда.
Я должен уведомить вас, что по нашему обычаю никто не может оставаться в хуторе на ночь, ежели днем кто-то умер. Мы приносим умершему поминальную еду, читаем молитвы, а затем оставляем тело в одиночестве. Дело в том, что в доме, где находится покойник, ночью всегда происходят какие-то странные вещи, поэтому мы думаем, что для вас будет лучше уйти вместе с нами. В соседней деревне мы найдем достойное место для ночлега.
– Сказав это, староста замялся, переминаясь с ноги на ногу. И вдруг продолжил: – Но все же, поскольку вы – особа духовного сана, то вам, пожалуй, не страшны демоны и злые духи. Если это так, и вы не боитесь остаться один на один с покойным, то, пожалуйста, располагайте этим домом до нашего возвращения утром. Все же, я хочу повторить, что никто из нас не осмелится задержаться здесь на ночь.
– Чрезвычайно благодарен вам за приглашение на ночлег и за вашу искреннюю заботу, – ответил я. – И мне очень жаль, что вы не сообщили о смерти отца сразу, когда я только постучался к вам вечером. Я действительно устал, но, поверьте, не настолько, чтобы это могло помешать мне выполнить свой долг священника. Скажи вы мне об этом заранее, я бы успел совершить обряды до вашего ухода. Но раз так уж случилось, я прочитаю молитвы после того, как вы все покинете хутор, а я останусь уже возле покойного до утра. Я не знаю, что вы имели в виду, говоря о странных вещах, которые происходят здесь по ночам, но смею вас уверить, что я не боюсь ни демонов, ни злых духов, ни чего бы то ни было еще, поэтому прошу вас не беспокоиться за меня.
После этих заверений мой хозяин, похоже, успокоился и горячо поблагодарил меня за обряды, которые мне предстояло совершить над телом усопшего. Подошли и другие родственники. Все еще раз поблагодарили меня за добрые намерения. Наконец хозяин сказал:
– Что ж, мы уходим. А вы, добрый человек, пожалуйста, будьте осторожны. И если все же станется чего-либо необычайное за время нашего отсутствия, мы просим вас обо всем нам, потом рассказать. И вот на хуторе не осталось никого, кроме меня, да хуторских собак и другой какой животины селянской. Стоя в дверях, я долго смотрел в ночь, во тьме которой, цепочкой растянувшись, мерцали факелы уходящих селян. Скоро они скрылись из виду, и я вернулся в горницу, где лежало тело умершего. Здесь была зажжена маленькая керосиновая лампа, в красноватом колеблющемся свете которой можно было различить неприхотливую поминальную пищу в простой глиняной посуде и в корзинках из ивового прута.

