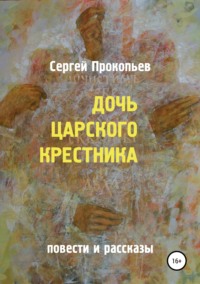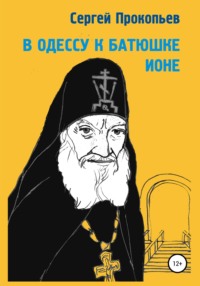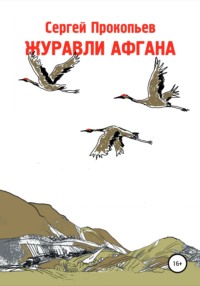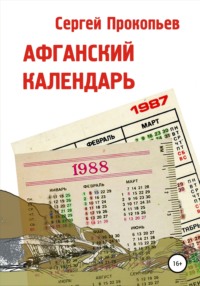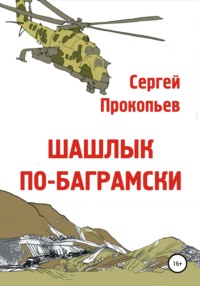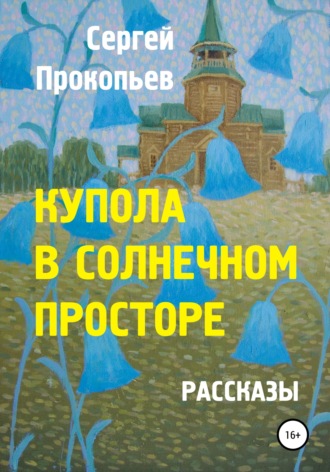 полная версия
полная версияКупола в солнечном просторе
Восемь месяцев прожила Анна в доме мужа. После чего её мачеха решила – хватит девку позорить. Запрягла лошадь и поехала к сватам. Не для того выдавали замуж.
– Поехали, Нюрка, – сказала, переступив порог дома сватов, – забирай сундуки. Чё с голахом жить.
Два сундука приданого привезла молодая в дом мужа. Два и увезла.
Как уже говорилось, имелось недоказанное подозрение, что Дарья, зазноба Михаила, руку приложила к беспорточным забегам возлюбленного по селу. Стоило Анне уехать домой, Михаил прекратил кроссы устраивать. А вскоре и вовсе Михаил на Дарье женился. От неё (как ни ждали односельчане) ни разу не бегал по ночной тиши в горной и подгорной части Волостниковки в бесштанном виде…
В случае с парой Ивана да Анны счастливого воссоединения не произошло. Иван, раздосадованный свадьбой Анны, вскоре заслал сватов в деревню Кокрять, там приметил деваху. Анна посидела-посидела на сундуках с приданым, да и уехала из Волостниковки. Оставаться в селе после неудачного брака было стыдно, да и бесперспективно – какой парень захочет брать в жёны ославленную. Село есть село, кто с сочувствием относился, а кто с подозрением: знать, скрытый изъян у девки, раз муж от неё сломя голову каждую ночь голахом сверкал пятками по улице. Уехала Анна в Ярославль к родственникам.
Пройдет время, три героя этой брачной истории окажутся в соседях. Анна будет жить со своим мужем в горной части в доме, что наискосок от дома Михаила и Дарьи. Жили в мире и согласии, когда Анна побежит с пирогом к Дарье, через день Дарья метёт подолом улицу, несёт в руках ответное угощение – домашнее печенье или ватрушки. Не сказать, напрочь вытравились из памяти села гонки Михаила в костюме Адама. Вспоминали старожилы как курьёзный и поучительный случай. Кстати, второго подобного не могли привести.
Дай Бог каждому так век прожить
– В роду у нас без малого все долгожители, – делилась информацией о родне Валя. – Умирали, как правило, в девяносто два, девяносто четыре те, кто на войне не погиб или в детстве не умер. Ну и бабушка моя Мария рано…
Валина бабушка по матери тоже возможно отмахала бы лет девяносто, сложись всё по-другому. Молодая женщина умерла в двадцать шесть лет после родов Валиной матери Анны. Той самой, от которой первый муж нагишом носился по селу. Повитуха неопытной оказалась, не поняла, что не весь послед вышел, часть плаценты осталась, женщина после родов начала гаснуть, причины никто не понял. Время дореволюционное, 1907 год, никаких врачей в Волостниковке, ближайшая земская больница в Симбирске, надо бы туда сразу везти болящую… Произошло заражение крови, и Мария умерла.
Мужу Василию было в то время двадцать девять лет. Он и глубоким стариком выглядел импозантно – широкой кости, поджарый, густые седые волосы, а уж в молодости, зрелые годы тем более орёл да и только. Родня забеспокоилась: как Василию без хозяйки, трое детей, младший вообще грудничок. Разузнали, в Матвеевке бедовала в батрачках девушка Ольга. Молоденькая, семнадцати лет от роду, но работящая, а живёт со старшим братом, родители один за другим умерли. Василий и лицом красивый, и телом крепок, и хозяйство вёл широко. Дом кирпичный под железной крышей, двенадцать лошадей, коров столько же, пасека для души. Зажиточный крестьянин.
Собираясь свататься, оделся подобающим образом, в пролётку коня запряг. Один поехал в Матвеевку, не парень прибегать к институту сельских свах. Невесту дома не застал. Домик был так себе, Ольгин брат на завалинке сидел. Василий представился, изложил цель приезда. Брат не сказал ни да, ни нет:
– Надо Олю позвать да спросить, пусть как хочет.
Кликнули девушку, та на работах была у зажиточного соседа. Вошла во двор, Василия обожгло: «Хоть бы не отказала». Ростом не отличалась, одежонка неказистая, оно и понятно, не с хоровода, а сама кровь с молоком, румянец на щеках, телом сбитая, чувствовалось, работа горит в руках.
– Вот, – указал брат на Василия, – сватает тебя человек. Вдовец, трое детей, пойдёшь?
– Пойду, – не раздумывая, тряхнула головой Ольга, – лучше на свою семью работать, чем на чужих.
Так у Анны появилась мачеха. Она и вырастила падчерицу. Выпаивала коровьим молоком, ночами не спала, когда болело дитё. Как за своей ходила.
Валя рассказывает, бабушка Оля на её вопрос: «Ба, как с дедом жила?» Отвечала, смеясь: «Дай Бог, милая, вам бы так! Насрать друг другу не сказали! В первое время как к дитю относился, шутка ли на двенадцать годков старше. Бывало, шлёпнет по мягкому месту, скажет: «Олюся, смотри!» Олюсей звал. А сам хохочет. Дай Бог каждому так-то век прожить».
Дала бы пирог, да лоб широк
Отец Вали, Егор Кузьмич, жизнь прожил хромым. Тоже история. До пяти не знал Егорка, что такое боли в ногах, носился без устали, как все сверстники. Мать его, Валина бабушка Лукерья Антоновна, женщина набожная, все праздники церковные соблюдала, службы не пропускала, и не только Волостниковский храм посещала, до Киева пешком доходила. А это не ближний свет. Полторы тысячи километров. В тот раз в Симбирск с товарками пошла. За нянек оставила старших дочерей, одной тринадцать, другой одиннадцать лет. Девчонки и годами не маленькие по деревенским понятиям, и ростом вымахали, да и росли не белоручками, по дому всё делали, в огороде первые помощницы. Не сомневалась Лукерья Антоновна, оставляя на них хозяйство, всего-то два дня её не будет. У мужа своих дел невпроворот, в обязанностях девчонок поесть сготовить, братьев накормить (был ещё семилетний Лёня), скотину обиходить. И надо такому случиться. Дома было прохладно, когда спать ложились, даже холодно. Толи плохо натопили, то ли высудили дом. Ложась спать брата Лёню с краю на полатях разместили, полушубком накрыли, а Егорушку между собой разместили, чтобы не замёрз. Эти дылды, а как ещё девчонок назвать, так уснули, что брату ноги отлежали. За день без матери всё успели – и с подружками набегаться, и по хозяйству наработаться, поэтому уснули мёртвым сном. А Егорушка что там – воробышек, можно сказать. Мать приехала, младшенький встать не может. Не держат ноги.
Заметалась Лукерья Антоновна, что делать? Слышала краем уха о лекаре в Тетюшах. Разузнала получше, в самом деле, многим помог. Но, сказали, задобрить хорошо надо, если не по нраву плата, не возьмётся. Нагрузила Лукерья Антоновна целый воз муки, мяса, крупы. Ничего не жалко для сынка. Месяц знахарь лечил и поднял Егорушку на ноги. Не так, что вприпрыжку побежал, а всё одно – опираясь на батожок стал ходить. «Пусть расхаживается, – сказал лекарь, – а через год ещё привезите». Следующий год оказался неурожайным, не с чем было ехать в Тетюши. Так Егор Кузьмич всю жизнь и проходил с батожком.
В 1921 году в Поволжье нагрянул голод. Гражданская война опустошила деревни да сёла, а тут ещё и голод. Егор с братом Лёней отправились в Ярославль на заработки. Лёне в ту пору семнадцать исполнилось, ещё не мужик, но рослый, сильный. Имелся изъян, глаза не было, но взяли в работники на конюшню. Егор с его ногами оказался невостребованным. Пошёл домой, а по дороге милостыню стал собирать. Тогда много нищих ходила от дому к дому, Егорушка пересилил себя и тоже стал просить. Мало подавали, но были сердобольные: кто картошку сунет со словами: «Спаси тебя Господь». Кто корку хлеба. Перебивался.
В то утро пришёл под окошко, постучал:
– Подайте милостыню Христа ради.
Женщина выглянула на стук. По рассказам Егора Кузьмича была средних лет, в платочке, с ясными глазами. Весело сказала:
– Дала бы пирог, да лоб широк.
На нет, что называется, и суда нет. К отказам Егор привык, не обиделся на «лоб широк», перекрестился и пошёл дальше. Вдруг слышит за спиной:
– Мальчик, мальчик, вернись, зайди-ка в дом!
Женщина увидела, как тяжело пошёл, опираясь на батожок, обладатель «широкого лба».
Усадила за стол, накормила, после чего отвела к своему брату, сапожнику. Через год Егор стал заправским специалистом по шитью обуви. Про ремонт и говорить не приходится. Вовсю шилом и дратвой строил сапоги, ботинки, туфли, ремонтировал износившуюся обутку. Так вот нежданно-негаданно обрёл специальность, которая до смерти кормила его и семью. Опять же, что значит «нежданно-негаданно»? Божиим промыслом, Божьей заботой, а как иначе. Бабушка Лукерья так и говорила внучке Вале:
– Божьей милостью не пропал в голод, наоборот, рукомесло приобрёл.
Маша-Валя
В июне сорок первого грянула война, объявили всеобщую мобилизацию, а какой из Егора солдат, но тоже призвали – в трудармию.
– Я, девчонки, шилом воевал! – говорил Егор Кузьмич дочерям. – Одна пара моих сапог точно до Берлина дошла, по немецкому логову походила. В сорок пятом ближе к осени, перед самой демобилизацией столкнулся в Казани с офицером, сапоги ему (подполковником тогда был) шил, а тут уже полковник. Иду мимо Чёрного озера, глаза в землю опустил, вдруг утыкаюсь в чью-то грудь. Поднимаю голову, полковник. На сапоги свои показывает: «Узнаешь?» Как же свою работу не узнаю. «До Берлина дошли!» – доложил и крепко руку пожал. Обещал ещё заказать, но не пришёл.
Всю войну Егор шил хромовые сапоги офицерскому составу в Казани.
А тогда в двадцатых годах, освоив сапожное ремесло, пожил какое-то время в Ярославле, вернулся в Волостниковку. Слава о Егоре-сапожнике быстро по селу разошлась, не сидел без куска хлеба. Анна счастья на стороне не нашла, вернулась домой, решив, что село подзабыло её неудачное замужество на Михаиле-голахе. Однажды понесла сапожнику ботинки, порядком прохудившиеся. Вечером отнесла, а на следующий день сапожник сам принёс отремонтированную обувь. Анна охнула, увидев Егора с её сапогами.
– Проходите-проходите! – зачастила.
Метнулась табуретку гостю подать, а он, от порога пробасил:
– Выходи за меня замуж.
Она так и замерла с табуреткой: верить или нет.
С детьми долго не везло. Первенец Василёк в семь лет полез искать на полке конфеты, лавку пододвинул к полке, на край встал, потянулся и полетел, а внизу чугун ведерный стоял, ударился мальчишка о край и сломал руку. Медицины в деревне никакой, начали сами вправлять руку, ещё хуже сделали – повредили, умер Василёк от гангрены. И Аркашеньку родители сгубили. Было тому три с половиной годика. Хоронили дальнего родственника по линии Егора. Лето, жара, взяли Аркашеньку с собой, ребёнок пить захотел, захныкал. Не подумав, дали студёную колодезную воду? Умер Аркашенька от крупозного воспаления лёгких. Восемь сыновей родила Анна. Василёк и Аркашенька дольше всех прожили, остальные за три-четыре дня сгорали.
Валю мать родила в 1944 году. В трудармии Егор не полноценным солдатом служил, не знал что такое «отбой», «подъём». Сапожная мастерская при военной части находилась, а жил сапожник на квартире в подвальном помещении у татарина. Анна ходила зимой по Волге в Казань. Возьмёт мужу муки, крупы, картошку боялась брать, замёрзнет по дороге, на санки сложит добро и идёт. Как же не подкормить хозяина домашним, не больно сытно в трудармии. Егор, конечно, подрабатывал шилом, ну да всё равно домашнее есть домашнее. И мужика своего повидать хотелось. Путь неблизкий. Дорога та самая из песни: «Вот мчится тройка почтовая, по Волге-матушке зимой». Троек не было, но на лошадях ездили. Где подвезут Анну, где пешком пройдёт.
После одного такого похода забеременела.
Родила девчонку на исходе мая. Соседка и говорит:
– Нюра, раз дети у тебя не живут, надо, чтобы нищенка девчонке имя дала. Не ты, а нищенка. Тогда жить будет.
Нищие частенько ходили. А тут нет и нет, Анна закрутилась по дому, дочь, насосавшись молока, уснула, вдруг стук в окно:
– Подайте Христа ради.
Анна выхватила дочь из люльки, окно раскрыла и подаёт нищенке:
– На!
Та отпрянула, руки за спину спрятала, боясь ненароком взять «подаяние» с ручками да ножками.
Из калитки дома напротив вышла женщина, обратилась к нищенке:
– Возьми, милая, возьми и в дом занеси. Детки у неё не живут, ты уж не откажи. Дай девочке имя. Хозяйка тебя накормит и с собой положит.
На таких условиях нищенка приняла малышку, занесла в дом. А та спит себе, не ведает, что судьба её решается.
– Как назовёшь? – Анна спрашивает.
Сама хотела Машей назвать в честь своей матери, которая умерла, родив её.
– Валей, – сказала нищенка. – У меня сестра была Валя.
Так Маша стала Валентиной.
Через семь лет мать родила Анна ещё одну дочь – Нину. Той сама имя дала, без нищенки обошлись. Нина тоже крепко за жизнь ухватилась, по сей день живёт да радуется.
«Живые помощи»
Ещё одна история из военных лет. Она по линии Валиного дедушки Василия. В браке с Олюсей-батрачкой родилось у него шестеро детей. Даже семеро, но Шурочка в девчонках от тифа умерла. Два сына: Евгений, Пётр, и четыре дочери: Нина, Дуся, Маруся и Лена.
– Тётя Дуся – моя крёстная, – рассказывала Валя. – Они с тётей Марусей двойняшки, но не одноклеточные. Крестная вылитая мать, а тётя Маруся на отца походила. Она была сердечницей, в шестьдесят семь лет умерла. Тётя Лена девяносто три года прожила. Тётя Нина – семьдесят шесть. Крёстная, тётя Дуся, с двадцать девятого года, крепкая ещё, в Самаре у дочки живёт.
Богатая Валя на родственников. Правда, дядю лишь одного знала – Петра. Так-то было три. Дядя Иван у деда от первой жены, что при родах Анны умерла. Всех троих братьев – Ивана, Петра и Евгения – призвали на фронт в июне 1941-го, по возрасту подходили, уже не парни – мужики. Провожая внуков на войну, бабушка по отцу, бабушка Агаша, надумала снабдить внуков 90-м псалмом, как говорила – «Живыми помощами». Будучи неграмотной, попросила соседскую девочку в трёх экземплярах написать молитву под диктовку. В награду за работу – пряников пообещала. Девчонка с радостью согласилась.
– Вот вам каждому «Живые помощи», – раздала внукам тетрадные листочки. – Носите при себе, как час свободный выпадет – читайте. От пули хранит, от сабли вострой, лихих людей и всякой напасти. А я здесь буду за вас Бога да Богородицу просить.
Надеялась, возьмут внуки, не на покос отправляются – на войну. Жили, не перекрестив лоб, да одно дело дома, другое под вражеские пули идти. Все крещёные. Родились в те времена, когда ещё и в дурном сне не снилось, что церковь могут закрыть.
– Не надо мне! – отодвинул от себя молитву Иван. – Сказки это. Меня и так не убьют.
Бабушка хотела сказать: «Думала, ты хоть сейчас поумнеешь», – и промолчала. Однажды попросила Ивана, лет шестнадцать ему было, написать церковные записки:
– Ванечка, напиши, завтра родительская суббота, пойду в церковь, помяну своих.
Иван не отказался, написал, бабушка подала в церкви записки. После службы священник подходит.
– Аграфена Серафимовна, Серафим и Полина твои ведь родители?
– Мои, батюшка.
– А записку кого просила писать?
– Внука Ивана.
– Больше не проси шельмеца.
Иван имена, что бабушка называла, аккуратно внёс и сделал приписку от себя лично: «Товарищи родители, хрена не хотите ли?»
Иван в молодости витийствовал в комсомольцах, а на работу был с ленцой. Жену себе под стать взял. Отец, видя такое дело, быстренько отделил молодых, домик им поставил, скотину дал – живите своим хозяйством. Евгения ленивым не назовёшь, но тоже в комсомольцах ходил. Пётр более того – в партию вступил. Евгений, как и брат Иван, не взял псалом.
– Зачем мне это, – сказал.
Коммунист Пётр молча взял листок с молитвой, аккуратно свернул вчетверо и положил в карман.
Иван и Евгений погибли в первый год войны. Пётр частенько между боями доставал текст псалма, читал. Не сказать, все напасти его миновали. Семнадцать осколочных ранений досталось большому телу. Пару осколков до смерти носил. А прожил восемьдесят два года. Четверых детей поднял, образование дал. Сын его Иван в Волостниковке живёт, Валя к нему обязательно заходит, когда на родину удаётся съездить.
И Валину маму война отметила ранами. Не пулевыми и осколочными, да тоже всю жизнь напоминали о себе. Осенью сорок первого возили девушек да женщин под Сталинград окопы рыть. Места болотистые. Застудилась, заработала полиартрит. Всю жизнь на руках и ногах шишки носила. Ходила с трудом, а в семьдесят шесть лет обезножила, едва передвигалась по дому. Но жила до девяноста двух лет.
Вторая жена умрёт – третью не надо
Родовой ли грех был в семье Лукерьи Антоновны, Валиной бабушки по отцу, или что, но бед выпало на них много. Потому-то, скорее всего, бабушка Лукерья с молодости ходила по святым местам. Сыну Егору ноги сёстры отлежали, Лёне в мальчишках глаз кнутом выбили, Серёжа тоже без глаза жил.
– С друзьями ничего лучше не удумали, как на кнутах биться, – рассказывала Валя о своём дяде Лёне. – Двое на расстоянии длины кнута встают и ну охаживать друг друга, норовя по телу стегануть. Доигрались, что дяде Лёне глаз выхлестали. Даже в трудармию не взяли, дядю Серёжу одноглазого взяли, а его нет, всю жизнь у лошадей провёл, и в войну колхозным конюхом был.
Сергей глаза грудничком лишился, в зыбке лежал, старшие сёстры дурачились, одна в другую бросила пригоршню сора от пшеницы, и попала в зыбку, в лицо брата. Врачей не было, потерял мальчишка глаз. Говоря по-сибирски, пимокатчиком стал, валенки научился валять, в трудармии этим занимался. Его в турдармию призвали, а сыновья на фронт ушли. У них с женой Клавдией было двое детей – сыновья погодки. Парни что учудили, прибавили себе лет, чтобы на фронт уйти. Не могли дома сидеть – Родина в смертельной опасности. Патриотами школа воспитала. Парни рослые, их забрали, и года не воевали, один за другим погибли. Осталась Клавдия совсем одна в Волостниковке, здоровьем не блистала, а тут такое горе. Бедствовала женщина. Лукерья жила с Валиной матерью, как-то отправила её к снохе:
– Нюра, сходи к Клавдее в Подгорнова, попроведай горемычную, да колосков ей отнеси. А то помрёт от голоду.
Колоски собирали в поле после жатвы.
Отправилась Анна в подгорную часть Волостниковки. Стучала-стучала. Позвала соседей, открыли, а Клавдия мёртвая, от голода, от горя (похоронки на сыновей получила) умерла женщина.
– Дядя Серёжа привез из трудармии Степаниду, – рассказывала Валя, – у той дочь Люда, лет двенадцати. Недолго этим составом жили. Степанида заболела туберкулёзом и умерла. Дяде Серёже советовали отдать в детдом падчерицу, дескать, чужой ребёнок, ты мужчина, ей в детдоме лучше будет. Он отказался: «Я Стеше обещал, не брошу». Дядя Серёжа в валяльной мастерской работал вместе с тётей Грушей. У той муж погиб, жила с дочерью Зоей, ровесницей Люды. Говорят: первая жена умрёт, вторая умрёт, третью не надо. Да как одному жить, ещё и приёмную дочь растить. Дядя Серёжа в третий раз женился. Хорошо они с тётей Грушей жили. Девчонки рано самостоятельную жизнь начали, в ФЗО в Ульяновск пошли. Сначала Люда уехала, следом тётя Зоя. Я её тётей звала, намного меня старше, с Людой мало в девчонках общалась, а к Зое в гости часто в Ульяновск ездила.
– Дядя Серёжа, наверное, лет сто прожил, – продолжает Валя вспоминать родственников. – Как ни поеду в гости в Волостниковку, обязательно заеду в Матвеевку к дяде Серёже. Спрошу: «Дядя Серёжа, сколько тебе лет?» Скажет: «Семьдесят восьмой, Валечка, идёт». Лет десять пройдёт, приеду, он снова: «Старый я уже, Валя, семьдесят восьмой идёт…» Мама моя лет десять как умерла, я в Волостниковку приехала, дяде Серёже снова «семьдесят восьмой», а он маму года на три младше всего был. Мама в девяносто четыре умерла. Тётя Груша была на пять лет младше дяди Серёжи, умерли друг за другом, она через год после него. Мой дед Василий девяносто четыре года прожил. Сам картошку сажал, полол, окучивал, по дому всё делал. У него чирей в паху сел. Дядя Петя говорит: «Тятя, давай отвезу в район, вырежут, что мучаешься». Вырезали, а потом пошёл на перевязку к фельдшеру в Волостниковку, медсестра, отдирая присохшую повязку, задела вену, кровь как хлынула. Она молодая, неопытная, испугалась, побежала в контору хирургу звонить, а он давай её успокаивать: «Что ты хочешь, девяносто четыре года деду, пора костям на место». Так бы ещё жил, кабы не чирей. Бабушка Оля, мамина мачеха, после него долго жила, на двенадцать лет младше его, умерла в девяносто два года. Все долгожители. И бабушка Лукерья девяносто два прожила.
Лукерья Антоновна последние тридцать лет слыла в районе целительницей. С чего началось. Отправилась в Киево-Печерскую лавру, под шестьдесят ей тогда было. Киево-Печерский монах научил наложением рук да молитвой грыжу лечить. Со всего района приходили болящие. Врачи говорили пациенту, если тот с грыжей обращался к ним: «У бабушки Антоновны были?» Скажет болезный: «Нет». «Ну, сходите сначала к ней, если не вылечит, к нам приходите, мы разрезать всегда успеем». Лукерья Антоновна говорила: «Если не резано врачами – вылечу. А если резано – не вылечу».
– Смерть свою бабушка Лукерья почувствовала заранее, – рассказывает Валя. – Позвонила моей маме: «Нюра, приезжай, пока я живая, через три дня помру». Может, хотела маму научить лечить или что, да мама безграмотная была. Подарила маме старинную икону святой мученицы Гликерии. Она сейчас у меня. Святая с крестом в руке, волосы по плечам, диадема на голове. Бабушка Лукерья полушутя говорила: «Это я вымолила Космодемьянскую церковь». В Кокряти, а это в трёх километрах от Матвеевки, где последние годы жила бабушка у дяди Серёжи, была церковь в честь Косьмы и Домиана, её в тридцатые годы закрыли, а в 1946-м вдруг открыли и больше не закрывали. Меня в ту церковь на причастие водили в классе третьем. Бабушка Лукерья нарадоваться не могла – храм рядом. Это не в Киев идти… Там её и отпели…
Праздничная
У Лукерьи Антоновны была сестра Мария. О её сыне Васе-Васечке, Валином дяде, Валя мне тоже рассказала. Обычно любимый сын в семье младшенький, с Васей, или как его мать звала – Васечкой, произошло наоборот, первенец для матери стал самым дорогим. Любовь к нему не затмили ни две дочери, родившиеся следом за Васей, ни младший сын Михаил. Мария крепко молилась, чтобы война поскорее окончилась, её Васечку не призвали. Ревностно следила за продвижением наших войск, подгоняя их наступление, радуясь, когда радио передавало о победных боях, освобождённых городах. И всё же не так быстро двигались фронты к западной границе. В сорок четвёртом подошёл Васин год. Мария не подавала виду, но переживала сильно. Погибли два её двоюродных брата. Едва не каждый дом в селе был отмечен похоронкой.
Васечкина война окончилась первым боем. Жахнул снаряд, Васю и его друга, нарыло землёй, контузило. Завалило Васю вместе с одноклассником Федей Борисовым. Призвали парней разом, попросились в один взвод. Но похоронная команда обнаружила одного Васю, нога торчала из-под земли. Пошли в сумерках по полю боя, увидели ногу, потянули – живой, откопали. Вася был без сознания, его отправили в госпиталь. Вася в себя пришёл и первым делом спросил о Феде Борисове. Друга похоронная команда не заметила.
Вернулся Васечка домой с медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Вскоре фронтовик женился на однокласснице Тасе. С пятого класса сидели за одной партой. Тася ещё в пионерах решила для себя, что Васечка будет её мужем. Вася об этом не думал, а Тася думала. Васиной маме Тася нравилась. В Тасе видела то, что та и не подозревала в себе. В девушке с неприметным лицом, нос уточкой, волосы с рыжинкой, Мария Антоновна чувствовала свой характер, а значит, для Васечки – идеальная жена. За Тасей не пропадёт Васечка, который имел светлую голову, но и ветер в ней присутствовал.
У Таси с Васечкой родился сын Веня, а вскорости пришла разнарядка на учёбу, одновременно и Васечке, и Тасе. Предлагалась учёба в торговом техникуме в Костроме. Школу оба окончили хорошо, району нужны были торговые специалисты. Однако свекровь невестку не отпустила:
– Куда это ты собралась, а ребёнка на кого? Васечка пусть едет, грамотность дело нужное. С головой парень, не на ферму ему скотником работать, а ты дитё расти.
Не хотела Тася одного мужа отправлять в неведомый край. Ой не хотела. Сколько одиноких женщин и в их селе, и вообще по белу свету. Молодые вдовы, чьи мужья погибли, девушки, чьи парни не вернулись с войны… Мужчины нарасхват… Как тут одного отпускать? Да ничего не попишешь, свекрови виднее. Тася была готова и с ребёнком ехать в неведомый край, в Кострому эту самую, считая – всегда можно выкрутиться.
Васечка уехал легко. К семейной жизни ещё не привык, а тут представилась возможность посмотреть незнакомые места, пожить без материнского и жениного догляда. Письма писал короткие, сообщал, что занятия начались, город нравится, три раза ходил в кино.
– Ишь, в кино он ходит, – без энтузиазма прокомментировала сей факт Мария Антоновна. – Учиться надо, а ему кино подавай.
Тасе тоже не понравилось увлечение мужа кинематографом, но она промолчала. Поддакни, можно было тут же услышать: «Что ему всю дорогу за учебниками сидеть!»