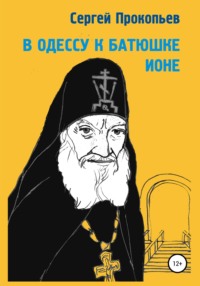полная версия
полная версияКупола в солнечном просторе
В сорок шестом вышла замуж за деда. На пять лет старше его, а ещё и с дитём, однако при таком обилии свободных женщин (мужчин-то война повыбила) дед выбрал её…
Что я в детстве понимала? Скажем, в доме были серебряные ложки с буквами ВШ. На мои вопросы бабушка пожимала плечами. Не могла она сказать, что это инициалы Вассы Шанской, её тёти, тарской купчихи, уничтоженной в тридцать седьмом году. Были предметы кузнецовского фарфора. Огромное вытянутое блюдо под осетра. Тётя Тая перед смертью подарила внучкам по золотой царской десятирублёвой монете с изображением с одной стороны двуглавого орла, с другой – императора Николая II. Её мать, моя прабабушка Уня, перед смертью вручила дочери эти монеты. Тётя Тая передала мне также икону – старинный складень, деревянный, с резьбой. Сказала, что это наша родовая икона от её тётки Марьи, монахини. Прожила тётя Тая девяносто семь лет и в своей памяти умерла. Я к ним приходила за месяц до её смерти, тогда мне складень передала и золотую монету.
Бабушка говорила, когда стало можно, от Шанских вывезли при экспроприации тридцать семь подвод добра. Лишь какие-то вещи остались. У бабушки стояло старинное зеркало, от пола до потолка, с тумбочкой, в деревянной раме, с искусной резьбой по контуру. Были разрозненные предметы посуды, тот же кузнецовский фарфор. Они выглядели музейными экспонатами среди нашей посуды.
На примере бабушки, её сестёр, той же тёти Таи, видно, насколько они были воспитаны по женской части – все идеальные хозяйки. Рукодельницы и стряпухи. Мастерицы на кухне. Какие баба Катя делала пироги! А фаршированные икрой караси! Здоровенные рыбины… Это когда нерест шёл… Чистятся, фаршируются икрой, зашиваются. Сколько было рыбы в моём детстве… На рыбзаводе ящики под стерлядь специального формата. Одни под стандарт пятьдесят сантиметров (меньше – не стерлядь), другие – девяносто сантиметров. Дед ловил с напарником, тоже ветераном войны, к ним на берег с рыбзавода приезжала машина, забирала ящики с рыбой.
А маринованная стерлядь! Коронное блюдо. Трёхлитровыми банками бабушка мариновала и закатывала, как огурцы. Хранили в амбарах. Помогала бабушке мариновать. Сначала убираешь шипы. Берёшь рыбину за хвост, три раза опускаешь в кипяток, а потом – в холодную воду, после чего спокойно пальцами убираешь шипы, сходят легко. Рыба режется на крупные куски, варится. Бульон процеживался и кипятился заново. Добавлялся уксус, перец горошком, соль, рыба укладывалась очень плотно в банку и заливалась рассолом. Какое это объеденье зимой! Я выросла на такой пище.
Долго шла я грешная к церкви. Диплом был по храмам Тобольска. Софийский собор, церковь Михаила Архангела, церковь Семи отроков Ефесских… Первая серия картин после института о храмах – Суздаль, Ростов Великий, монастыри… В Ростове Великом решила креститься. Обратилась к батюшке Евстафию, он крестил. Хороший батюшка. Но далеко… Выше говорила про Мишу Иконникова, с которым столкнулась на Алтае, он работал на кордоне Беле. Убеждал меня, что нельзя жить без Бога. Я ему плела, что Бог любит всех и без церкви, он в душе, в сердце, при чём тут попы. Он говорил о живой вере, о необходимости каждодневного обращения к Господу, жить с ежеминутной памятью о нём. Я и сейчас слепая, тогда, страшно вспоминать, какой была. Вдруг он приезжает в Омск, находит меня и говорит: «Поехали к отцу Александру». Уговорил. Еду и думаю: куда еду? Зачем? Всё бросила, сорвалась. Умел Миша убеждать. Приехали в Иваново, с вокзала на автобусе тряслись. Сельский храм в стадии восстановления. Печка топится. Священник заканчивает вечернюю службу, во всём храме кроме него четыре бабки. Мы зашли, отец Александр воскликнул: «О, Миша приехал, и чадо моё привёз!» Я думаю: какое чадо?
Службу окончил. «Ну, – говорит, – подходи к кресту». Потом повёл нас к себе домой. Всю ночь мы с ним проговорили. Это была беседа и исповедь. Рассказывала, как родилась, росла, как чудила в институте. Он стал моим духовным отцом. Раза два в год приезжала к нему. Часто звонила, вопросов накапливалось много. Это потом он скажет, что с Мишей отпускать меня не хотел. Миша, конечно, неуравновешенный… Отец Александр уговаривал его остаться, дескать, она торопится, ей на работу, а ты поживи ещё… Боялся за меня. Со мной ничего не произошло, доехали без приключений, да через месяц звоню отцу Александру, он сообщает: «Миша убил человека». Вернулся в заповедник. На главной усадьбе около конторы зашёл разговор о Боге. Одна женщина понесла непотребное. Миша загорячился. Спор превратился в базарный скандал, с взаимными оскорблениями. «Ты, глупая женщина, – Миша ей, – не понимаешь, так рот свой поганый закрой!» Бесы с обеих сторон разыгрались. Она в долгу не осталась. Знала самое уязвимое место противника, начала хулить Бога. Миша закричал: «Повторишь, я тебя прикончу!» Она повторила на истерике. Он схватил топор и ударил… Сразу расплакался: «Вызывайте милицию, я убил человека».
Я начала анализировать, почему так произошло? Он за ручку привёл меня к отцу Александру. Если бы не он, так и жила без церкви. Может, за это пострадал? Вмешался в борьбу духовных сил. Повернул меня к Богу и за это поплатился свободой. Принялась названивать с вопросами отцу Александру. Он запретил строить догадки: «Господь через Мишу привёл тебя в церковь. Для тебя это главное. А у Миши своя жизнь…» Миша получил серьёзный срок – тринадцать лет. Мне кажется, после лагеря у него один путь – в монастырь…
Батюшка Александр учил чтить память родителей. Однажды высказалась ему, мол, с мамой-папой не повезло, они вроде были, не отказались от меня, на самом деле я им, получается, по жизни не нужна была. Отругал за мою пренебрежительную интонацию…
Но что правда, то правда – воспитали меня бабушка и дедушка. Тема эта никогда не поднималась дома, тётя Тая кое-что прояснила. В восемнадцать лет мать-студентка влюбилась без памяти, бабушка стеной встала – не благословляю. Чем потенциальный зять не пришёлся – история умалчивает. Родители мои не сахарную совместную жизнь прожили, ой, не сахарную, да крест свой донесли, под одним памятником лежат. Бабушка по отношению к моему отцу непримиримую позицию держала до конца дней. Нет и всё. Мама убёгом вышла замуж. Любовь любовью да забеременела. Ни кола, ни двора, ни чашки, ни ложки. Она учится – в одном общежитии живёт, он учится – в другой общаге перебивается. Какой ребёнок? Куда с ним? Перспектива увеличения молодой семьи на одну единицу в моём лице не обрадовала папу с мамой. Бабушка тем более на дыбки. Аборты тогда не приветствовались, да у бабушки везде знакомые – родственница работала в тарской поликлинике. Дед выслушал женские доводы-выводы… Он по жизни многословием не отличался, мог долго кивать головой на бабушкины аргументы, но решения принимал единолично. На её рассуждения с ахами да охами постановил: «Никакого аборта! Выбрось из головы! Пусть рожает, ребёнка сами воспитаем». Бабушке шестьдесят, дед на пять лет младше, однако это обстоятельство не смутило – «пусть рожает».
В две недели от роду оказываюсь у них. С этого почти нулевого возраста росла у бабушки с дедушкой. Детство прошло как мало у кого. Дед работал сначала охотоведом Тарского района, потом – инспектором рыбоохраны. Человек тайги, рек, озёр… Честный, сильный, всё умеющий, всеми уважаемый… Взяли меня от мамы, рассчитывая кормить грудничка с молочной кухни. А я против такого питания – ору, выплёвываю. Что делать? Рот у меня, как рассказывали, не закрывался, кричу, пуп надрываю – есть-то охота. Дед взял бутылочку, набрал из кастрюли тёплый чистый стерляжий бульон и дал бабушке – корми. Я припала к соске. Пила один стерляжий бульон. Как уж там нежный желудочек ухитрялся воспринимать… Только переваривал за милую душу, мордаху на бульоне отъела знатную… Есть фото в полгода – конкретный щекотряс…
Боже, что это было за солнечное время! Потом много дров наломала. Семнадцатилетней восторженной дурёхой уехала от бабушки с дедушкой в институт. Да ни в какой-нибудь – на художника учиться, я ведь рисовала хорошо, школу художественную окончила… И угодила в богемную среду. Чего только не было, корки такие отмачивала – до конца жизни есть в чём каяться. Колбасило в институте… После него тоже не один год кидало из стороны в сторону. Только и спас фундамент – бабушка с дедушкой…
За дедом в детстве гонялась жутко. Закатывала истерики – если не брал на рыбалку. Какое это было счастье жить в рыбацкой избушке, лететь по Иртышу на моторной лодке, проверять сети, с утра до ночи пропадать на реке…
В тот раз он с вечера стал собираться на рыбалку, я к нему: возьми. Пообещал. Вот-вот должен был пойти метляк, а это значит – море рыбы. Я это знала и хотела «море рыбы». Слово деда всегда было железным, но что-то случилось. Может, я была не совсем здорова, бабушка настояла оставить ребёнка… Не знаю. Не помню… Мне всего-то седьмой год… В школу ещё не ходила.
Утром просыпаюсь – ни деда, ни его сапог, ни рюкзака… Сердце оборвалось от обиды: обманул, уехал, не взял… Глянула в окно – бабушка у грядок на огороде. Ничего ей не сказала, платьишко натянула и сорвалась. Большак проходил в пяти минутах от дома, добежала до него, стою на обочине в нетерпении, ЗИЛ бортовой показался. Что уж такое наврала водителю, как уговорила подвезти? Совершенно не помню. Получается, убедительно врала – взял. А ехать тридцать километров. Ещё и подсадил, кабина у ЗИЛа высокая.
Сошла на повороте. Увидела избушку деда и попросила остановиться… Чёрный бор, заливные луга, а внизу, на самом берегу, точкой избушка деда. С горы чешу к ней. На мне платьице короткое без рукавов, сандалики на босу ногу. Лечу, а навстречу из-за Иртыша, умирать буду – не забуду, вываливается огромная чёрная туча. Казалось, я против этой громадины в полнеба песчинка, муравей, снесёт меня… Иртыш на глазах становится белым, вскипает под дождём, от него движется в мою сторону сплошная стена ливня. Небо над головой стремительно затягивает чёрным, низким… На заливных лугах в разных местах одиноко росли старые перекорёженные высоченные талины. Одна прямо на моём пути. Много раз била в неё молния – ствол чёрный, обожжённый… Я в страхе понеслась к ней – спрятаться, укрыться. Вдруг из тучи падает огненная стрела, вонзается в ствол, талина вспыхивает ярким факелом. Треск грома. Я остановилась как вкопанная. До сих пор ярко вижу те цвета. Луг, поросший клевером… Лист у клевера сверху зелёный, с изнанки белёсый… Ветер бьёт по лугу, хлещет, будто вознамерился смять его, смести. Под сумасшедшими порывами море клевера платиново-зелёное… Небо низкое, давящее, молнии рвут его, талина ревёт огнём…
А у меня в голове: только бы добежать до деда, только бы до деда. Пулей полетела через бурю к избушке… Каким-то чудом не заблудилась в сплошной стене больно бьющего холодом дождя. Ухитрилась не потерять направление, выбежала точно. Вся мокрая заскочила к деду. Он не мог поверить – я одна: «Где бабушка? Ты с кем?» Выглянул за дверь, удостовериться – на самом деле одна я… Потом накрыл меня тулупом, принялся поить горячим. Топилась печурка, шумел чайник. Мне, натерпевшейся страху, сделалось необыкновенно хорошо – наконец-то в полной безопасности.
Бабушка приехала на следующий день на машине рыбзавода. Как она кричала! Сутки не знала, что со мной. Никакой связи, конечно, не было. Сначала всю Тару оббежала… Не могла и подумать, что одна в такую даль сорвусь… Трёпку задала знатную… И дед не помог. Ему тоже досталось, что сразу не повёз внучку обратно.
Несколько раз бралась за картину – луг с талиной-факелом, гроза, девчонка в платьице… Не удаётся, как ни пыталась, передать того состояния девочки… Ужас, но и восторг от разбушевавшейся стихии, ликование… Будь я скованная страхом, разве запомнила бы так ярко происходящее… Пламя, ударившее из талины, в которую упала с неба молния, ливень, хлещущий по Иртышу…
Зато портрет молодого деда написался. В простой солдатской гимнастёрке с орденами присел на брёвна возле нашего дома… Всё – война окончена. Про фронт никогда не рассказывал. Сколько раз обижалась. У многих деды приходили на классный час с медалями, орденами. Выступали. Нам задавали сочинения о войне. Обязательное требование – расспросить ветеранов… Дед отказывался от классных часов, не хотел для сочинений вспоминать. На митинг в День Победы ходил. Надевал ордена – два Красной Звезды и два Боевого Красного Знамени, орден Великой Отечественной войны. Но никаких трибун, воспоминаний о боевых походах. Офицер СМЕРШа, он не любил распространяться. Прошёл всю Европу, война для него закончилась в сорок шестом. После Победы год добивал бандеровцев на Западной Украине. Вернулся в Тару израненный… Помню, я уже в институте училась, ему под восемьдесят, приехала на пару дней в Тару, а у деда осколок зашевелился. В те годы дед уже совсем старик, высох весь. А боль настолько сильная – страшно смотреть. Скулы сожмёт и терпит. Пот со лба. В глазах мука, аж побелеют. Но молча…
В глубокой старости рыбачить не мог, зимой стал валенки подшивать, вся округа шла к нему. У меня работа была «Подшивание валенок». Центр композиции – рука. Подошва валенка, большого мужского валенка, наполовину прошитая… И рука. Сильные, узловатые пальцы напряжены – тянут капроновую нить. Шов надо зафиксировать так, чтобы пришиваемая подошва намертво впечаталась. Дед всегда голой рукой (и не порежет, кожа дублёная) тянул нить. Картина удалась. Вот где попала точно. Не собиралась продавать, без моего ведома ушла… История гадкая. Хитрован один устраивал выставку. Обидно, мы тысячу лет друг друга знали, а он так дёшево поступил со мной. Я тогда сделала серию картин о храмах – Суздаль, Ростов Великий, Абалакский монастырь. Даже икону написала. Дома у деда с бабой нашла на чердаке старинную доску. Была когда-то светская картина, краски облупились… Зато доска… Шедевр… Кедровая, десятилетиями просушенная, сто не сто, но лет восемьдесят ей было. На этой доске написала Спаса. Первая моя икона. Угораздило выставить её. Ничего не соображала, светская выставка, я высунулась с иконой. Нельзя было передавать в чьи-то руки. Я ведь знала, что это за руки… Но гордыня, она вперёд меня родилась… Хотелось выпендриться. На презентацию выставки сходила и сразу уехала…
Приезжаю, этот делец даёт мне какие-то копейки. Потом узнала, икону продал за две тысячи долларов. Как орала на него. Это была истерика. Выставлялась с условием – не продавать. Ни «Подшивание валенок», ни тем более – икону. Немец купил. В девяностые годы они постоянно паслись в Омске среди художников, по дешёвке скупая картины. Художники жили впроголодь, рады были малому…
Дед никогда не сидел без работы, никогда не сидел, сложа руки, всё время что-то делал. Славились среди рыбаков его сети. Зимой их постоянно вязал. А какие корзины плёл! Пятнадцать лет как умер, а до сих пор его корзины можно встретить в Таре. Заготавливал тальник, очищал от коры. Каждая корзина как игрушка.
Настолько тонко чувствовал природу и знал её… Собираем малину в тайге, мне лет тринадцать. Малинник огромный, полосой тянется. Малина рясная, собирать такую – одно удовольствие. Вдруг слышу, на другой стороне кто-то ходит. Место глухое. Кто может быть? Стала смотреть в ту сторону, и обдало страхом: голова, мехом покрытая мелькнула в малиннике – медведь собственной персоной. Тоже ягоду собирает. Не в корзину, само собой, лакомится. У страха глаза велики, но показалось – здоровенный экземпляр. Да какой бы ни был, медведь он и есть медведь… Дед по моему виду понял – я распознала конкурента, тихо говорит: «Собирай без всяких, хватит и нам, и мишке». Учил меня: «Если ты никого не тронешь в тайге, и тебя никто не тронет. Страху смотри в глаза и никогда не бойся».
А природа, в которой, благодаря ему, росла. Избушки ставились в самых красивых местах: озёра, Иртыш, тайга… Считаю, он, как человек, живший с природой, знал Бога. Хотя поминал Господа только в самом крайнем случае. Когда кто-то выводил деда из себя (бывало, и я), выводил так, что его терпение достигало точки взрыва, он произносил: «Прошу тебя, ради Христа». Не кричал, не психовал, но если звучала эта фраза, значит, всё – край, больше никаких споров и прений…
…Год назад на Яблочный Спас на выставке в Беле на небе появилось три радуги. Батюшка служил молебен, а три огромные яркие дуги встали над тайгой, горами, озером… Батюшка опустил кропило в ведёрко со святой водой, и в этот самый момент с неба полетели капли слепого дождя. Всегдашнее чудо слепого дождя. Нет ни тучки, ни облачка… Все подняли лица навстречу небесной влаге. Батюшка, сделал короткую паузу, потом взмахнул кропилом – капли с неба перемешались с каплями святой воды…
Слава Богу за всё…
Купола в солнечном просторе
Воспаление хитрости
В детстве мы решительно ставили диагноз тем, кто филонил от уроков, увиливал от мытья полов в классе, – воспаление хитрости. Имелся ещё один подобного рода диагноз – воспаление левой пятки. Через много-много лет вспомнился последний по грустному поводу, без всякого юмора: пятка стала болеть. Пусть не левая, как в школьном диагнозе, правая, да от этого не легче. Похожу или пробегу четыре-пять километров в оздоровительных целях – даёт о себе знать. Утром сделаешь первые шаги, она в ответ вякает, что ей больно. Поначалу наделся, само пройдёт. Будь острая боль, с низкого старта побежал в поликлинику, а тут расхожусь и забываю. С год так продолжалось, терпимо и ладно. Но дальше – больше. Пятке наплевательское отношение к её персоне не по нутру пришлось. Потребовала к себе повышенного внимания. Особенно – после Крестного хода. В ночь убийства царских страстотерпцев, Николая II и его семьи, хожу с Крестным ходом. Маршрут длиной в двадцать три километра, от Успенского кафедрального собора до храма Царственных страстотерпцев в посёлке Новоомский. При ходьбе пятка вела себя нормально, шёл себе и шёл, зато на финише отыгралась. Литургию отстоял, потом трапеза, после неё поднимаюсь из-за стола и получаю скандал – пятка отвечает резкой болью. Не просто, как было ранее, скромно напомнила о себе, я в наличие, прошу любить и жаловать. Возмутилась, пополной: мне плохо! И началось, чуть перехожу – инвалид. И левая пятка приняла болевую эстафету правой – начала вякать.
В церкви знакомая прихожанка участливо поинтересовалась: в чём причина хромоты брата во Христе. Доложил. Через неделю после литургии другая прихожанка, Валентина, подходит, узнала о моих пяточных страданиях и поделилась личным опытом. Сама побывала в аналогичном состоянии и вылечилась. Ей помог коктейль из йода, глицерина, уксуса и воды. В равных пропорциях сливаешь и щедро мажешь пятку.
– Хуже не будет, – оптимистично сказала Валя, – побочных эффектов не ощутила. Попробуйте. Даст Бог, и вам поможет.
Я человек системный, принялся за самолечение. Однако результатов не ощутил. Убеждал себя: чуток полегче, но стоило хорошо походить и, что называется, «снова – здорово» – болят пятки.
Сочувствующие на приходе стали настоятельно советовать пойти к врачу. У тебя, говорят, брат Сергий, шпоры. Надо показаться хирургу, болезнь не смертельная, назначит физиолечение. Лазером тебе шпоры разрушат, будешь опять козликом прыгать.
Делать нечего, поковылял в поликлинику. Однако рентген шпоры не вывил. Хирург, дядечка за пятьдесят, у которого, судя по виду, пациенты давно сидели в печёнках, сказал, что это у меня связки барахлят и выписал медицинскую желчь для примочек. Иди, дескать, и не морочь мне голову. Только что не сказал о «воспалении хитрости». На фоне переломов, травм, рваных ран, полосных операций моя пятка выглядела пустяком, отвлекающим серьёзного доктора от серьёзных дел.
Пол-литровую бутылку желчи я до капли извёл на пятки – не помогло. Лето и осень хромал. Валя каждый раз в церкви интересовалась моим состоянием по части ступней. Подошла зима, надо заметить, лыжные прогулки, коими в снежный период борюсь с гиподинамией, меньше отражались на пятках, почти не болели.
Валиным раствором продолжал время от времени смазывать пятки, не питая особую надежду на целебность уксусно-глицеринового-йодного коктейля с добавлением воды. Рассуждал: хуже не становится, а вдруг подействует благотворно. Но следующим летом поймал себя на мысли – пятки если и чувствуются, незначительно. Причём, правая почти что выздоровела, левая не совсем.
Доложил Вале о своих наблюдениях. Она порадовалась за меня. Медицинский диалог состоялся по пути домой после литургии. Само собой разговор с человеческих немощей перекинулся на Валину родословную. Я поинтересовался, каким образом её закинуло в Омск, Валя стала увлечённо рассказывать о родном селе под названием Волостниковка, что в Ульяновской области. Следовали один за другим удивительные случаи, героями коих в последние сто с лишком лет были её бабушки, дедушки, родители и дяди с тётями. В который раз я убеждался: история каждого рода имеет столько поразительных поворотов, в коих угадывается забота Господа Бога о нас и проявляется борьба тёмных сил со светлыми. Многое, как ни ломай голову, невозможно объяснить, подходя с меркой человеческой логики, только и остаётся поражаться глубиной и сложностью Божьего мира.
Чё с голахом-то жить?
Девушку звали Анной, парня – Иваном. Место действия – Симбирская губерния, село Волостниковка, время действия – двадцатые годы прошлого века. В те времена Волостниковка располагалась в двух уровнях. На горе одна часть, под горой – другая. Что там, скажете, всего две улицы. Да не следует спешить с выводами о размерах поселения. На горе из одного края улицы в другой скорым шагом добрый час идти, семь километров с домами по правую и левую руку. Бегом, само собой, быстрее получится. Подгорная улица, звали её в народе Подгорная, короче раза в два. А тоже время потребуется из конца в конец проследовать. Бегом не всякий за пятнадцать минут уложится.
Анна жила на горе, Иван в подгорной части. Глаза у Ивана, что небесная синь, над ними чуб волной цвета спелой пшеницы. И Анна не замухрышка. Голос – переливы серебряных колокольчиков, русая коса до пояса. Иван нравился Анне, и Анна – Ивану. Была ещё одна пара в Волостниковке, что девушка, что парень, с наступлением утра, подгоняли время к вечеру – скорей бы на поляну к парням и девчатам, она с замиранием сердца мечтала увидеть суженного, он – зазнобу. Дарья заглядывалась на статного Михаила, балалаечника и песенника, а Михаил, несмотря на таланты, всякий раз сладко обмирал при появлении черноокой Дарьи.
И всё бы хорошо, кабы не мнение родителей по поводу семейной жизни своих чад. Родители Анны и Михаила, не вдаваясь в сердечные привязанности детей, решили между собой, что Анна с русой косой и балалаечник Михаил самая парочка – баран да ярочка. Про барана с ярочкой образно говорила разбитная сваха, принимавшая участие в свадебном сговоре. Ударили родители Михаила и Анны по рукам, закрепили договор доброй чаркой, дело покатилось к венчанию. Дарья с Иваном остались за бортом.
Провёл священник три раза Михаила и Анну вокруг аналоя на виду у полной церкви. Что там говорить – красивая пара. Один другого стоил. Михаил высокий да широкоплечий и Анна не из мелких – ростом всего на чуть-чуть пониже и телом справная. Такая и детей нарожает полный дом, и работы никакой не испугается. Исключительная пара, если со стороны судить.
Кто навёл порчу, кто «сделал», как говорили в Волостниковке, неизвестно. За руку никого не поймали, но грешили на Дарью. В брюки Михаилу ухитрились неизвестные воткнуть на свадьбе незаметно двенадцать иголок, в подвенечный наряд Анны – всего три. Помешал ли кто невесту нашпиговать колдовским металлом или так по рецепту полагалось, не знаю
И началась бесовщина. Как ночь, Михаил раздевался и вместо того чтобы к жене под одеяло нырять, выскакивал в чём мать родила из дома и летел вдоль по селу. Жили они в нагорной части, не сказать, на окраине, ближе к средине, но километра четыре Михаил точно преодолевал, если не успевали перехватить и затормозить, а то и Подгорную улицу мог присовокупить в пробеге, и там сверкал по темноте телесами. Пусть фонарей на улицах не висело, не слишком разглядишь особенности телосложения бегуна, но всё одно и смех, и грех. Осенью по грязи задавал стрекача, зимой мороз не мороз летел босиком в банном наряде, весна пришла, ему нипочём лужи, ледком прихваченные. Такая одержимость.
Семья не оставалась равнодушным наблюдателем. Жена Анна, отец Михаила с матерью, две сестры, как начинало смеркаться, караулили бегунца, стараясь на корню пресечь забег. Днём Михаил вёл себя нормально, никуда не рвался, работал за троих, аппетит, дай Бог каждому, с темнотой делался сам не свой. А попробуй удержи гренадёра. Анна с сёстрами Михаила навалятся, он их раскидает, как котят, и за ворота. Они следом – поймать, остановить, вернуть домой болящего.
Только и разговоров по селу о Мишке-балалаечнике да жене его Анне, по-деревенскому, Нюрке, от которой нагишом в лунном свете ударяет во все лопатки. Как вечер, любопытные гадают: полетит Мишка сегодня вдоль по улице в чём в баню ходят или родственники воспрепятствуют. Матери дочек своих гоняли, чтоб не висли на заборах, в ожидании нудистского забега.