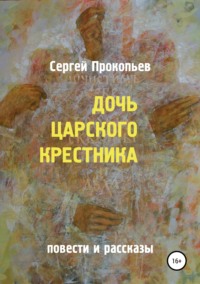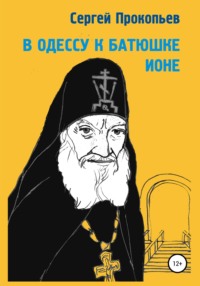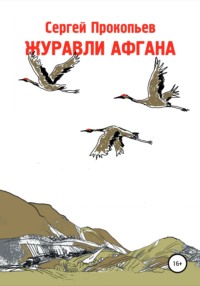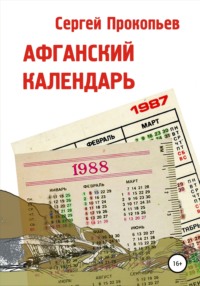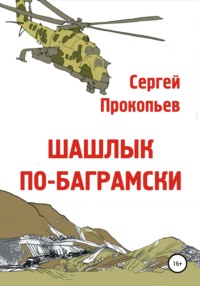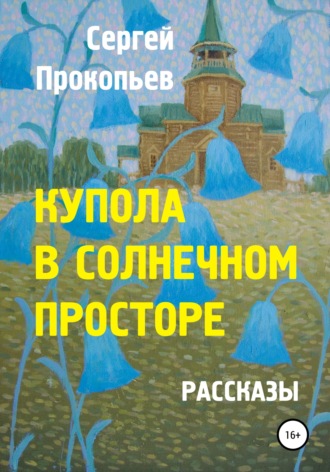 полная версия
полная версияКупола в солнечном просторе
Тася ещё раз побегала глазами по скупым строчками письма, когда вдруг услышала:
– Тася, а что это ты тут сидишь? Муж один на чужой стороне мается, в кино ходит, а она здесь рада радёшенька.
Тася не успела произнести: «Мама, вы ведь сами были против моей учёбы», – как прозвучало категоричное:
– Собирайся да поезжай к нему, всё равно молока у тебя в грудях нет, с Венькой вашим сама справлюсь.
Два раза Тасе говорить не надо было. Через два дня она стояла перед Васечкой с деревянным чемоданчиком в руке, а он ошарашенно хлопал глазами: не сон ли видит.
Вася четыре года учился, Тася обеспечивала бытовые тылы – кормила сытно, одевала добротно. Без дела не сидела, работала нянечкой в больнице, отделочницей на стройке.
Вернулся Васечка домой дипломированным специалистом, коих в то время почти не было. Быстро пошёл по служебной лестнице, вскоре заведовал всей торговлей района. Жил Вася легко, возможности имел большие, а в друзьях было всё районное начальство. Вася успевал и дело вести, и бражничать, и по женской части был охоч. Послевоенная статистика, как уже говорилось, была не в пользу женщин, но Тася с этим мириться не хотела, била зазнобушек мужа смертным боем, если попадались под руку. Одну как-то взялась поленом охаживать. Схватила у печки полено и айда… «Ты меня убьёшь!» – кричала застигнутая на горячем бабёнка, взывая к Тасиному разуму, дескать, сама пострадаешь – посадят. «Ничего, – успокаивала Тася, пытаясь побольнее достать соперницу, – у меня в больнице подруга, вылечит!»
Зазнобушек била, Васечку не трогала, лишь костерила за мужское непостоянство. На что он делал невинные глаза:
– Тася, ну что ты такая-то? Я тебя ни на кого не променяю. Ты у меня праздничная. А это так, будни! Не обращай внимания!
Такой вот празднично-будничной теории семейной жизни придерживался Васечка. Однако не значит: в праздники Вася неотступно следовал данной философии. Расскажем случай. Веня как раз в институте на третьем курсе учился. Сын в родителей светлой головой удался, школу без малого на отлично окончил, и поступил в Куйбышевский авиационный институт. Васечка, бывало, приедет в Куйбышев, который ныне Самара, в командировку, и сразу ведёт всю комнату общежития, в которой жил сын, в ресторан. Тася мужу сумку снарядит с продуктами для сына, это само собой, это непременно доставлялось по назначению, а кроме этого Вася обязательно приглашал сокурсников Вени в лучший ресторан, кормил, поил студентов.
– Что я не знаю, – скажет, провозглашая тост за учащуюся молодёжь, – как без мамки и папки на студенческих хлебах выживать. Я-то с женой учился, не бедствовал, а товарищи всю дорогу впроголодь. Когда кишка кишке романсы поёт, какая наука в голову полезет? Голодное брюхо к учёбе глухо! Ешьте не стесняйтесь, если что – ещё закажу!
Так проведывал Васечка сына. Вдруг Веня получает телеграмму от матери: «Отец не у тебя?» Двадцать девятого апреля Васечка поехал на денёк в командировку в областной центр и не вернулся. Первомайские праздники по городам и весям страны советов идут с красными флагами, транспарантами и духовыми оркестрами, а Васека пропал. День, другой, третий. Тася всех на ноги подняла…
Вернулся пропащий на пятый день с побережья Чёрного моря. И опять шерше ля фам. За полгода до этого на курсах повышения квалификации познакомился с иногородней коллегой… К ней и умотал на праздники. Рассчитывался в пару дней обернуться, да понравилось у зазнобушки, загулял.
Имел Васечка большие возможности по торговой части, но ни сам, ни Тася не относились к натурам – тащи всё под себя, делай из дома музей ковров, хрусталя, посуды, мебели. Погулять Вася любил, на это больше использовал служебное положение. Дома, конечно, тоже не табуретки вместо стульев стояли, но и не склад дефицитных товаров…
Тася всю жизнь старалась работать подле мужа, долгое время заведовала складом райпотребкооперации, гоняла Васечкиных зазноб, покрывала его материальные издержки. В один момент почувствовала, надо уезжать, пока не загремел Васечка в места не столь отдалённые, вытаскивать его из порочного круга. Рванули через полстраны в Омск к Вене. Окончив институт, Веня распределился в Сибирь. Жил с женой и ребёнком не в хоромах, в малосемейке, квартирка с комнаткой в одиннадцать квадратных метров и кухней на две табуретки. Были такие жилплощади, да и сейчас ещё стоят те дома. Мизерные полезные метры никого не смутили, втиснули в них ещё один диван и зажили патриархальной семьёй в три поколения: внучка, сын с невесткой и Тася с Васечкой.
Тася развернула бурную деятельность, потащила Васечку в горпромторг, в результате стал он директором небольшого продуктового магазина. Где Васечку едва не подставили, играя на его пристрастии к вину. Была бы Тася рядом, не допустила, но самой не удалось в тот же магазин устроиться. Своевременно хорошие люди подсказали, дело пахнет керосином. Тася оперативно выдернула мужа из ловушки и определила на шинный завод в снабжение. Жилищный вопрос тоже решила, сначала ухитрилась поменять дом в Волостниковке на квартиру в той же малосемейке, где Веня жил, а потом выбила Васечке как ветерану Великой Отечественной войны полноценную двухкомнатную квартиру. И оказалась в соседях у племянницы Вали.
Вася умер раньше Таси.
– Быстро Васечка собрался, – говорила о смерти мужа Тася. – Совсем быстро. То, бывало, сто граммов водки попросит перед обедом, а тут приуныл, слёг и за неделю собрался. На прощанье по голове меня погладил, рука плохо слушалась, но погладил, а по щеке слеза побежала-побежала. Любил меня, Васечка.
Тася не отстала от военкомата, пока памятник мужу не поставили как ветерану войны, и от Вали не отмахнулась, когда та стала говорить, что Васиной душе теперь нужна молитвенная помощь. На слова племянницы о жизни в ином мире Тася забеспокоилась:
– Как же Васечка без меня там? Он такой неприспособленный.
Она давала Вале деньги на поминальные записки, панихиды, сорокоусты, годичные поминовения, на церковь жертвовала понемногу.
– Молись, Валечка, – просила, – чё уж мне людей смешить в церкви, да и ноги плохо ходят, а ты поминай моего Васечку.
Узнала, что на помин души кладут на канун, стала регулярно выдавать Вале деньги, дабы купила что-нибудь. Вариант с кануном очень понравился, записки дело эфемерное, а тут вещественным поминают её Васечку.
За два дня до смерти Таси Валя привела к ней священника, он исповедовал бабушку, причастил.
– К Васечке сразу попаду? – спросила Тася, причастившись. – Ты уж, батюшка, помолись, постарайся, мне сразу к нему надо! Много у греховодника было зазнобушек, да я-то законная, мне коло него быть, а не этим шалавам. Он всегда говорил: ты у меня праздничная!
Батюшка кивал головой, как бы соглашаясь с Тасей, незачем приводить умирающей цитаты из Евангелия, что не будут в иной жизни сходиться и расходиться, и одному Богу известно, кого какая участь ждёт…
Купола в солнечном просторе
Валя считает, рай ей в детстве-юности показали. Были у неё подружки Надя да Тамара. Что одна бедовая, что вторая оторви да брось. Нет, хорошие девчонки, но не тургеневские барышни, скромницами не назовёшь. Что уж им взбрело искупаться в тот день? Да всё то же – захотелось удаль свою показать. Сентябрь в тот год отличался жарой, до последних дней в летних платьях ходили. И вдруг за несколько часов резкая перемена погоды: сегодня солнце припекало, назавтра снег пошёл и холодно враз сделалось, впору валенки доставать. Волостниковка в то время уже стояла на берегу Волги. Куйбышевское водохранилище наполнилось до краёв, забрало у Волостниковки подгорную часть, село сделалось прибрежным. Всю жизнь, собрался на Волгу, готовься поход совершить. Пять километров по прямой, тут красота полная – спустился с пригорка и ныряй, плавай или удочку закидывай, судака лови. «Красота» Валиных подружек и сгубила.
Снег выпал, девчонки в пику погоде надумали купаться. Учились в десятом классе, сразу после уроков пошли на берег. Валя наотрез отказалась, и подруг отговаривала, те не послушались. Плавают и зовут:
– Валюха, айда с нами, вода чистое парное молоко! Теплотень! Теперь до лета не поплавешь, сколько ждать. Айда!
Вода, может, и парное молоко, да волосы девчонки порядком намочили, продрогли, пока одевались, домой шли.
Надя умерла весной. Экзамен выпускные начала сдавать, а потом положили в больницу и умерла.
И Тамаре купание даром не прошло, начала болеть. Замуж за хорошего парня вышла, жили ладно, а умерла беременной. По селу говорили: ребенок несколько часов шевелился в мёртвом чреве, хотел воскресить мамку.
Вале после смерти Нади стал сниться сон. Высокий глухой забор, а перед ним Надя. Улыбка во всё лицо, рукой призывно машет:
– Валюха, айда к нам, знаешь как здесь хорошо!
Валю разбирает любопытство, куда это подруга зовёт? Взлетает на забор, Бог ты мой – белым бело до самого горизонта, чуть розовым подкрашено. Небо ярко-синим стеклом, и яблони, облитые белым с розовыми вкраплениями. Миллионы цветков сложились в огромное лёгкое облако, над самой землёй они висит, а под ним трава изумрудным ковром. Голос Нади зовёт-зовёт. Подругу не видно, только медовое: «Айда к нам! Айда!»
У Вали само-собой:
– Не пойду! – вырвалось.
Каждый раз просыпалась после этого сна с тревожным чувством.
Сон повторялся несколько раз. Валиной матери не понравилась навязчивость умершей подруги.
– Ехай, Валентина, в Омск, а то Надька призовёт к себе. Она при жизни была прилипчивая, вечно тебя куда-то втравливала, вот и сейчас банным листом привязалась!
Вроде, нелогично. Омск, где жила Валина тётя Маруся, само собой, далеко от Волостниковки, да разве расстояние может стать препятствием для сновидения? Как бы там ни было – стоило Вале стать сибирячкой, Надя потеряла к ней какой-либо интерес, прекратила заманивать в зазаборные кущи.
Вместо рая увидела Валя в Сибири ад. Вышла замуж, родила и, как у бабушки в далёкие дореволюционные годы, возникли проблемы с последом. В два часа ночи отличный парнишка появился на свет, четыре с половиной килограмма орущего веса, пятьдесят два сантиметра орущего роста. Всё нормально, всё по плану – акушеры мамочке что надо обработали, что полагается зашили, собрались везти в палату, вдруг кровь как хлынет. Доктора перепугались, побежали звонить главврачу.
Душа Валентины, не дожидаясь начальства, устремилась к свету, который призывно вспыхнул далеко впереди. Преодолевая плотную тьму, полетела к спасительно яркому пятну. Летит по высокой траектории, а внизу пропасть. Без конца и края, а в ней страшное – наполнена стонущими и плачущими людьми. Душа спешит, торопится миновать жуткое место, боясь рухнуть, сойти с орбиты, оказаться в стенающей темноте.
Валю били по щекам. «Не смей умирать!» – доносилось до неё откуда-то сбоку, издалека. Слышала и продолжала полёт над бездонным адом.
Вдруг всё исчезло, увидела врачей.
– Ты это прекращай, Валентина, – строго сказал пожилой доктор, которого не было, когда начинала рожать. – Сына богатыря родила. Жить надо!
Сына, как только оклемалась после родов, понесла с тётей Марусей в церковь – крестить. Но сама к церкви тогда, в шестидесятые годы, не прилепилась. Утвердилась в мысли – ад есть, рай тоже, значит, есть Бог, но не больше. А в девяностые едва иеговисты Валю к себе не заманили. Активизировались они во всех районах города, все свои силы бросили в народ, следуя принципу: нет ничего краше личного контакта, из уст да прямо в уши. По улицам сновали, в квартиры звонили, беседы неторопкие вели. А ещё агитки бросали в почтовые ящики, письма, написанные детской рукой, оставляли. Дескать, дяди и тёти, вы себе что думаете, живя в атеизме? Валя брала журналы, брошюрки, листала на досуге красочную литературу, но сопротивлялась, не шла на собрания. Что-то удерживало. И всё же любопытство пересилило. Дай-ка, решила, посмотрю одним глазком, что там у них. Солнечным золотоосенним днём подошли к ней две молодые женщины. Одна лет тридцати пяти, чернявенькая, голос ручейком льётся. Вторая постарше, тоже приятная на вид. Одним словом, уговорили Валентину. В двух остановках от её дома Дворец культуры, в нём в тот вечер собрание свидетелей Иеговы (не любят они, когда иеговистами называют) проходило. Валя и подумала, дай-ка схожу.
Распрощалась с агитаторами, прошла шагов десять, потом непроизвольно подняла голову к небу, и Бог ты мой – в просвете между белыми облаками храм трёхкупольный. Низ утопал в облаке, а купола с крестами сверкали в солнечной вышине. Пальцы сами собой сложились для крестного знамения, рука пошла ко лбу.
В ближайшую субботу Валентина поехала в церковь, а потом вблизи её дома поставили Поклонный крест и заложили новый храм, в котором мы с Валентиной и познакомились, благодаря «воспалению левой пятки».
Под крылом Архангела Михаила
Господи, дай нам батюшку
Нина Николаевна жила в последние годы на два дома, на две губернии. Зимой в Омске, а на лето уезжала в Приволжье, в село Михайловка. Родная земля, известное дело, магнит, где бы ни был, притягивает. В Михайловке у Нины Николаевны старшая сестра, племянники, да и домик там пять лет назад прикупила. Ладный с весёлыми ставеньками, живи да живи, но в Омске своё притяжение наличествует – сын, внуки, квартира и могилка мужа, с которым полвека прожили.
Лет десять назад в Омске в пяти минутах ходьбы от Нины Николаевны освятили церковь. Один раз зашла в храм, другой и стала регулярно по субботам-воскресеньям посещать службы. До этого ездила по праздникам в кафедральный собор, а тут каких-то пять минут ходьбы. И как в деревне – все друг друга знают.
Вскоре привлекли Нину Николаевну на клирос, регент, дочь настоятеля, предложила попробовать, клирошан не хватало. Слухом Бог наделил, на лету схватывала, голос тоже какой-никакой имелся, и упрямства не занимать: дала себе слово – во что бы то ни стало освоить церковное чтение, чтоб не хуже других бабушек-клирошан. Жила одна, каждый день часа три, а то и четыре читала вслух псалмы да молитвы. После завтрака садилась за Псалтирь, после обеда в сон клонило, но подремлет, омоется сном, после чего так славно читалось. И под вечер открывала Псалтирь. В результате читать стала бойко.
Если вернуться к родному селу Нины Николаевны, имелся в нём один феномен. Церковь закрыли, когда ещё матушка Нины Николаевны в девушках на вечёрки бегала – в 1929 году. Началась поголовная коллективизация, ну и вменили сельскому батюшке отцу Василию агитацию против колхозов. В частной беседе прихожанин попросил у него совета: вступать в колхоз или нет. Батюшка не дал благословения. Дошло до властей. Отца Василия отправили в лагерь, там и сгинул, матушку с детьми выслали, храм в честь архистратига Михаила закрыли. Однако слово Божье продолжало звучать в Михайловке. Иконы и церковные книги активисты прихода снесли в дом к слепой Варваре и глухой Марфе. Были две убогие женщины в селе: Варвара пела на клиросе, а Марфа убиралась в храме. Жили они вместе, в их доме по воскресеньям и церковным праздникам стали собираться женщины да старики на молитву. И дьякона почему-то не тронули облечённые властью защитники передовой идеологии. Забыли, похоже. Он тоже приходил в домик к Марфе с Варварой на молитву.
Дьякона приглашали над покойником Псалтирь читать, перед погребением на кладбище литию служил. Слепая Варвара вместе с женщинами-помощницами пела. После кладбища перед трапезой обязательно молились и песнопения исполняли.
«У меня была подружка Клава, – вспоминает Нина Николаевна. – На поминках извертимся с ней. Женщины как начнут петь да молиться, на добрые полчаса не меньше растянут, а мы изнываем: когда уже закончат, да можно поесть. Годы-то голодные после войны…»
Надо сказать, не один раз приходилось сталкиваться с подобным – церковь закрыли, но коллективная молитва не пресеклась на селе. Не удивительно, когда о подобном рассказывали староверы-беспоповцы из Тюменской области. У староверов в генах заложено претерпевать гонения. Однако и у них возникали проблемы – настоятелем, который ведёт службы, мужчина положен быть, однако дореволюционные деды-наставники поизносились, поумирали… Следует заметить, мужчины чаще верховодят в более-менее комфортных условиях, а когда по голове могут дать, слабый пол берётся за дело… Женщины-староверки из своих рядов стали выдвигать наставниц, которые собирали вокруг себя молящихся…
Это что касается приверженцев старой веры. Недавно друг, Миша Поляков, рассказал. Он из Татарии и крэшен. Я уже где-то рассказывал, ну да ладно – повторюсь: крэшен татары настойчиво называют крещёными татарами, сами крэшены с этим категорически не согласны. Считают себя отдельным тюрским народом, который мусульманство никогда не исповедовал и обратился в христианство из язычества. Родной язык у них татарский, фамилии и имена русские: Ивановы, Поляковы, Новиковы, Миша, Галя, Таня, Игорь… Был мой друг в Татарии на поминках родственника. Районный городок Мамадыш, поминки современные – в кафе. Однако за отдельным столиком сидели бабушки, первое слово дали им, и они добрых полчаса пели, читали молитвы, поминая усопшего. Насколько канонично всё это звучало – не знаю, мой друг Миша в церковь заходит только свечку поставить, но, как он пояснил, в его родном крэшенском селе, в котором церковь закрыли и разрушили лет девяносто назад, из поколения в поколение передавались церковные книги и старушки-крэшенки вели службы мирским чином на татарском языке.
Вот и в Михайловке родничок слова Божьего не иссякал всё время, пока страна жила под красным флагом. Однако лет пять назад отошла ко Господу последняя сведущая в церковных делах бабушка – фронт оголился.
Самое обидное, за год до этого администрация отдала верующим под временный храм бывшее здание фельдшерско-акушерского пункта. Если углубиться в историю дома, первоначально он принадлежал тому самому священнику отцу Василию, репрессированному большевиками за противоколхозную агитацию. Через много лет снова зазвучала в нём молитва. Батюшка Евгений, настоятель храма в районном селе, благочинный округи, освятил церковь в Михайловке. Иногда приезжал служить в ней, но крайне редко – раз в полгода сподобится и то хорошо.
Околоцерковные бабушки уговорили в регенты Ираиду Речкину. Ираида сама не из девушек, недавно седьмой десяток разменяла, хоровик по образованию, в далёкой юности окончила культпросветучилище. При прежнем регенте, она пела на клиросе, но не вникала в тонкости службы, интереса не было. Поэтому, когда взяла руководство на себя, сильно не утруждалась, составила свой, как говорила, «сценарий службы». Нина Николаевна приехала из Омска, пришла на Николу весеннего, постояла на службе, по завершении оной спрашивает:
– Ираида, а мы кого сегодня праздновали?
– Как кого – Николая Угодника. Ты что не знала?
– Я-то, положим, знала. Странно, что ни тропарь ему не пропели, ни кондак?
– А надо было?
Такая Ираида. Нина Николаевна пыталась донести до неё, что знала сама. Ираида с неохотой слушала поучения. На следующий год весной Нина Николаевна привезла кой-какую богослужебную литературу из Омска. К тому времени в селе стали поговаривать, что надо бы церковь построить, что мы хуже других, батюшку попросить у епархии. Нина Николаевна женщин, собирающихся с Ираидой во временной церкви, сагитировала молиться, чтобы настоящую церковь построили и батюшку дали. Ираида согласилась и «в свой сценарий», в сугубую ектению добавила: «Господи, дай нам батюшку. Господи, дай нам церковь».
В большом дворе бывшего фельдшерско-акушерского пункта поставили поклонный крест на месте будущего храма.
Самое интересное, молитва михайловских бабушек-старушек была услышана. Сначала нашёлся спонсор на строительство церкви. Деньги выделил, подряд со строителями заключил. На месте поклонного креста был установлен закладной камень будущего храма. Происходило это в торжественной обстановке с участием и под руководством благочинного отца Евгения. Через неделю началось возведение деревянного храма.
Бабушки воспринимали это как чудо, вскоре и батюшку епархия прислала в Михайловку – отца Валериана.
Настолько всё ладно покатило, что обязательно должно было произойти что-то из ряда вон. Это «из ряда вон» не заставило себя долго ждать. Случилась настоящая драма епархиального масштаба по дискредитации и защите честного имени батюшки Валериана.
Но всё по порядку.
Отец Валериан поначалу обрадовался – есть основа клироса, да быстро понял – каши с михайловскими клирошанами не сваришь. Самая продвинутая среди них Ираида переучиваться не захотела, дескать, и так сойдёт. Молодой батюшка в дипломатии был не силён, сказал: «Так не сойдёт, это церковь, а не глухая клубная самодеятельность!» И на раз отстранил строптивого регента-дилетанта, забрал у Ираиды ключи от церкви.
Сей факт Ираида восприняла болезненно. Она себя чувствовала на коне в последние годы, едва не второй человек после главы администрации. К ней шли, ей кланялись, её просили. Не один раз сетовала: «Эх, если бы ещё можно было крестить да венчать!» Во-первых, с отстранением от церкви лишилась своего рода развлечения в не столь богатой на события сельской жизни. Службы проводила следующим порядком: соберутся женщины-бабушки во временной церкви и добрый час судачат, рассевшись под иконами, новости сельские перебирают, косточки односельчанам перемывают… Только наобщавшись досыта, Ираида скажет: «Всё, девочки, хорош лясы точить, давайте работать!» А во-вторых, лишилась она ощутимого приработка. На похороны стариков-старушек мало кто из села не звал «церковных женщин». И большинство молодых с их участием хоронили. На поминки тех же стариков и старух «попеть» обязательно приглашали. Значит, есть нередкая возможность (село большое) поесть вкусно, да и денежку непременно дадут.
Разуверившись в местных певчих, отец Валериан стал приглашать супружескую пару из Климовки, где служил до Михайловки. В этой паре за женой было регентство, муж помогал в алтаре. Кроме этого батюшка привлёк в алтарники парнишку из многодетной семьи. У Нины Николаевны душа радовалась, когда Славик выходил из алтаря в роли свещеносца. Важный да серьёзный. Батюшка учил его читать на церковнославянском. Славик жил через три дома от Нины Николаевны, семья такая, что мать ещё ничего, а отец крепко выпивал. Учился Славик неважно, однако к заданиям отца Валериана серьёзно относился, в церкви подходил с вопросами к Нине Николаевне: как правильно читать. А то домой к ней прибежит. Батюшку не решался лишний раз беспокоить.
Батюшка и сам ещё учился. В педагогическом университете. Приход ему дали сельский, со всеми вытекающими финансовыми последствиями, нужен был приработок, точнее – заработок. Батюшку пошёл в школу учителем.
Батюшка Валериан
Батюшка рос в неверующей семье, родители советская интеллигенция в первом поколении. В школе акробатикой занимался, в смешанной паре едва мастером спорта не стал. Учился по всем гуманитарным и точным предметам твёрдым хорошистом. Мог бы и лучше, да парень есть парень. Поступил в педагогический университет на физико-математическое отделение. Толчком к вере стал художественный фильм про Иисуса Христа. Показ устраивали протестанты. Кто-то из знакомых пригласил Валерия, он из любопытства пошёл.
Перед началом сеанса на сцену вышел пастор. Что-то длинно говорил… Кроме лёгкого раздражения (скорее бы уж фильм начинали) в душе ничего не оставил. К церкви Валерий относился свысока. Храмы воспринимал сугубо как архитектурные сооружения, которые украшают угловатые от современных построек города, но не более того. Стоят пирамиды в жарком Египте на радость непоседливых дяденек и тётенек, которым только и дай поглазеть на экзотику да запечатлеть себя на фото-видеотехнику на её фоне. Имеются каменные истуканы моаи на острове Пасхи, тоже можно сфотографироваться и выложить в «Одноклассниках». Православные храмы тоже из этого ряда… О себе тогдашнем отец Валериан вспоминал: «Был темнее тёмного – молитвы воспринимал, как прибаутки. Кому-то песни застольные дай попеть, другому по нраву задорные частушки под перестук каблуков, а кто-то предпочитает “Отче наш” или “Господи, помилуй”».
Озарений, откровений после просмотра фильма не последовало. Жизнь продолжалась по накатанному: зачёты, экзамены, тренировки, соревнования. И всё же невидимая работа шла в сердце. Однажды поймал себя на мысли: почему у него в жизни всё ладно? Принялся перебирать знакомых по школе, улице, спорту. Один подсел на наркотики, нормальный парень вдруг за короткое время опустился. Второй погнался за лёгким деньгами, связался с мошенника, угодил в тюрьму, там заболел туберкулёзом. Соседа укусил энцефалитный клещ. Поехал за город на шашлыки и стал инвалидом. Друг по спорту поломался на тренировке, перенёс две операции на позвоночнике. Один двор, одна школа… Вместе бегали на реку, ходили в кино, играли в футбол… Его будто что-то хранило… Случались ситуации, когда или-или, но обходилось. Может, думал Валерий, на самом деле есть Высшая сила, которая к нему благоволит. Тогда по законам логики, дабы и впредь везло, надо благодарить эту Силу, благодарить Бога. А значит, установить связь с Ним.