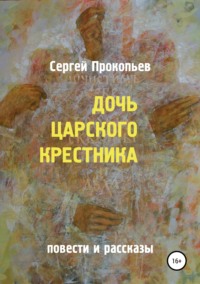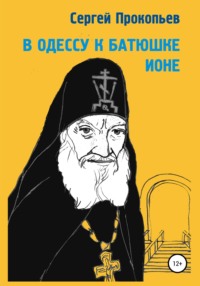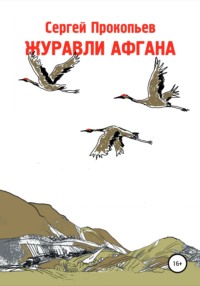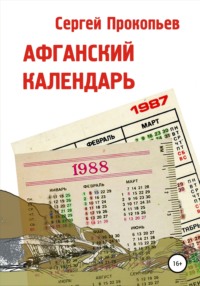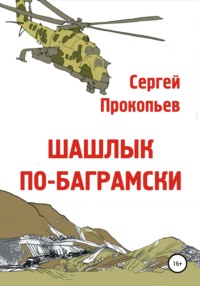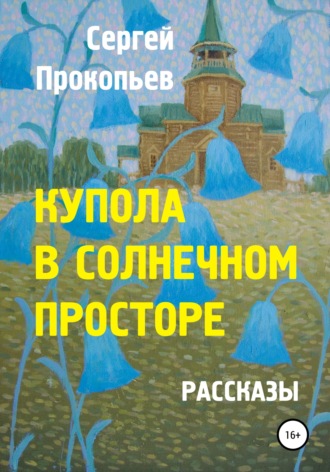 полная версия
полная версияКупола в солнечном просторе
Другим человеком от него возвращался, как живой воды напьюсь. Батюшка обыкновенно поворчит: «Чё ты ко мне ходишь? Езжай в Татьяновку к матушке Варваре, или в Тамбовку к батюшке Василию, или в Ольховку к игумену Феофану… Нечего ко мне ходить! Кто я такой? Неграмотный поп».
Господь сподобил такой радости – знать батюшку Стефана. Последние два года жил он в Омске. Ослаб для тайги. Но всё равно летом приезжал в Сосновку, не мог без неё. На восемьдесят пятом году умер. За два дня до смерти столкнулись, выхожу из Крестовоздвиженского, навстречу от ворот шагает батюшка в подряснике, крест на груди. Я до этого звонил Николаю: с батюшкой хочу увидеться. А тут вот он. Обнялись. Зазвал в трапезную на чай. Посидели, повспоминали, дело под вечер, батюшка предложил переночевать у него, я, дурашка, отказался, домой торопился уехать. «Да успеешь ты домой», – убеждал остаться, как чувствовал – в последний раз виделись. Через два дня Николай Хорев звонит – батюшка Стефан умер. Причастился накануне и умер. Разве чудо, что я нежданно-негаданно столкнулся с ним в церкви в тот раз. Бог сподобил напоследок встретиться с батюшкой. Да и вообще он чудо в моей жизни.
На Александра Невского
Объявили посадку на автобус Артёма. Попрощались, Артём, припадая на левую ногу, пошёл на посадку. В СИЗО, было дело, досталось его ноге, старая травма время от времени напоминает о тюремных буднях. Уходя, Артём пригласил в гости: «Приезжайте, не пожалеете». Давно собираюсь съездить в его село. Много наслышан о нём, хотелось посмотреть деревянный храм, которому больше ста лет, побродить по тайге. По-настоящему медвежий угол, в котором живут люди, вопреки всем реформам, уничтожающим деревню. Непросто, тяжело порой, но живут. Сколько идолов придумала себе и провозгласила России за последнее столетие. Сначала поклонялась им, потом сбрасывала, равняла с землёй. Сейчас Москва придумала «цифровую экономику», которая должна привести нас в светлое будущее всеобщего благоденствия. У Артёма на это счёт «своя диссертация»:
– От лукавого всё это, а лукавый, сам знаешь, под свой знаменатель норовит свести всё и вся, под своё число подогнать. А мы должны по воле Божьей каяться, молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать, благодарить и любить всех. По себе чувствую, Господь наставляет, укрепляет, силы даёт. В семинарию вчера зашёл, на службе в семинарской церкви помолился. Какое чудо – литургия. Вам городским хоть каждый день ходи на литургию. Для меня – редкая радость. До слёз радость. Чудо. Помолюсь, и снова жить хочется, в будущее идти. Детей растить, скорби терпеть, в тайгу ходить, водку пить… Прости меня, Господи, грешного, бывает невтерпёж захочется…
Второй раз встретились с Артёмом тем же летом, точнее осенью – двенадцатого сентября. Хотя по юлианскому календарю – лето, лучшее время согласно «диссертации» Артёма. Я отправился в автомобильный Крестный ход по северу области. Конечная точка маршрута – храм в честь Александра Невского в селе, где жил Артём. Крестный ход возглавлял владыка. Погожим ранним утром кавалькада машин с иконами на лобовых стёклах, на капотах большие наклейки с цветным изображением русского витязя, переправилась через Иртыш на пароме и по разбитой дороге поехала в село. Церковь встретила паломников колокольным перезвоном. Два хоругвеносца стояли на высоком крыльце, один из них – Артём, серьёзный, в пиджаке.
Деревянный храм, построенный в самом начале XX века на средства фонда императора Александра III, стоял на краю села, на возвышенности. В ограде, соревнуясь высотой с колокольней, тянулись в небо красавцы кедры. Экзотикой они не являлись. Метрах в двухстах от церкви текла таёжная река, по высокому берегу рос густой кедрач.
Крестный ход был великим событием для православных села, в текущем году ни разу не служилась литургия в их храме, и вдруг архиерей, священство. Сослужили владыке четыре батюшки, диакон, хор. Одно жалко, православных в селе осталось совсем немного. Местные не заполонили церковь.
После литургии, когда паломников пригласили в школу на трапезу, я остался в опустевшем церковном дворе и дал разыграться фантазии, представил, как лет сто десять назад, до всех революций, в такой же престольный праздник шли в храм сельчане. Церковный двор был обращён к селу, оно лежало внизу как на ладони, лишь одну часть закрывала сосновая рощица.
Я представил нарядных баб и мужиков. Чинные, торжественные преисполненные значимости праздника они двигались по улице. Тут же дети, парни и девушки. Село переселенческое, белорусы с особым говором, уже частично сибирским, представили губерний центральной России, тоже с характерной речью. Небо такое же серенькое, как сегодня, утро тихое, безветренное. Звонарь-пономарь поднялся на колокольню, взялся за верёвки, зазвучал благовест, звон поплыл над домами, многочисленными дворовыми постройками, огородами, уходя в тайгу, подступающую со всех сторон, и затихал в кронах высоких дерев.
Для разросшегося села храм стал маленьким, перед войной 1914 года подумывали, а не пора ли строить новый, сегодня в основном приезжие паломники стояли на службе. От силы десятка полтора местных набралось. Артём пришёл со всей семьёй. Лишь старшей дочери не было, контрольная по математике, и приёмной, училась в колледже. Три малышки, две из них школьницы, третьей лет пять, не маялись на службе, стояли смирно. Младшая время от времени садилась на корточки. Артём с женой стояли позади дочерей. Девочки друг за другом пошли к Святой Чаше. Артём проследил, чтобы правильно сложили руки, что-то прошептал на ухо каждой.
В наших разговорах Артём несколько раз повторял: «Не достоин я их, не достоин. Но слава Богу, они у меня есть».
Яблочный Спас
рассказ художницы
Пятнадцать лет назад осенила бредовая идея – устроить выставку картин омских художников на Преображение Господне. Не в галерее для праздношатающейся публики, а на Алтае, на горе – для Творца. Ни больше, ни меньше. Дерзновенно задумала продемонстрировать Богу плоды наших трудов. Посмотри, Господи, как мы распорядились талантами, Тобой нам грешным данными.
В Алтайском заповеднике на центральной усадьбе Яйлю и кордоне Беле на горных террасах, что у Телецкого озера, стоят яблоневые сады. Чудес на Алтае много – это одно из них: кругом суровая природа – леса, тайга, морозные зимы, а здесь полноценные многогектарные сады. Телецкое озеро в горной котловине создаёт в самый раз для яблонь климат. Плоды такие, что всем яблокам яблоки. Самому Сталину, говорят, отправляли в Кремль яблочки алтайских гор. Место чистейшее. Ничто не коптит, не дымит, только и можно добраться по озеру или на конях. В тридцатые годы прошлого века заложили сады, и лучше не надо…
Алтай очаровал меня с первого раза… Лесистые горы, прозрачные струи водопадов, стремительные по камням несущиеся речки… И Телецкое озеро. Само по себе чудо! Десяток раз поменяется за день. Вот оно само спокойствие, в утреннем тумане продолжает ночной сон. Тишина разлита кругом… Или днём нежится гладь воды под высоким солнцем… Ты сидишь на берегу и так благостно на душе от умиротворяющей красоты. Но вдруг погонит ветер низкие тучи, закроет горы, вода растревожится… По местному поверью, поверженный богатырём дракон лежит на самой глубине, время от времени чудище напоминает о себе, начинает недовольно ворочаться, и тогда на озере непогода.
В первый раз ехала на Алтай рисовать, да краски так ни разу и не достала. Зато фотоаппарат не выпускала из рук – поминутно щёлкала… Жадно забивала флешку фотоаппарата красотами в надежде дома, глядя на снимки, вдохновиться и рисовать… Пребывала в постоянной восторженности… Горная речка, на берегу баня. Напаришься и в воду… Речка неглубокая, быстрая… И время исчезает. Звёздное небо, ледяная вода… Ты распадаешься, расщепляешься на молекулы, атомы… Растворяешься в звёздной темноте, в ледяной воде, тайге, что от берега уходит в горы… Ты есть, и тебя нет. Полное ощущение единства с огромным миром. Такое испытывала только в храме.
Алтай надарил столько радостей!.. Бегала в восторге, восхищалась – одним, другим, третьим…
Потом год мечтала о новой поездке… Второй раз Алтай встретил сдержанно: ага, снова приехала, это хорошо, теперь можно и поговорить. Вкусное тебе показал, пора к серьёзному приступать. Жила в другом ритме, за фотоаппарат поминутно не хваталась, не скакала с квадратными глазами: ой, радуга! Ой, водопад! Что там ещё за поворотом? Давайте-давайте… Красота воспринималась не калейдоскопом.
Приехала на кордон Беле и пять дней жила без планов и беготни, бесцельно ходила по окрестностям, смотрела, немного рисовала. Августовская благодать, теплынь воздушными волнами накатывает землю, солнце золотым яблоком, озеро серебряной чашей, и Золотая гора – Алтын-туу – зелёной глыбой над другим берегом возвышается. В саду ряды яблонь, да такие рясные. Возьмёшься за ветку, чуть тряхнёшь, яблоки скороговоркой на траву…
Никаких мыслей о выставке ещё не было. Но что-то сдвинулось именно на Алтае. Перед самым отъездом познакомилась с Мишей Иконниковым… Будто кто-то специально задержал меня на кордоне Беле для встречи с ним, чтобы через полгода он уговорил отправиться в Ивановскую область к отцу Александру. После чего минует ещё полтора года, прежде чем задумаю выставку, а батюшка Александр поддержит и даст благословение.
Пришлось побегать с проектом, поуговаривать официальные лица, напирала на экологию души, её воспитание красотой, духовное возрастание… Скажу без ложной скромности: была бы не я, если не пробила, не убедила.
Нашла спонсоров, оплатили автобус. А если дорога бесплатная, получается дёшево. Съездить на Алтай на таких условиях, это практически даром. Поэтому братья-художники откликнулись с удовольствием. Пятнадцатого августа прибыли в Яйлю – тепло, солнечно, настоящее лето… Всё восхитительно. На лугу зароешься лицом в траву – можно часами каждую травинку, каждый цветочек разглядывать. И тишина… С неба ли нисходит на горы или от озера поднимается под облака? Великомученица Варвара поражалась красотой дольнего мира с высоты башни, куда заточил дочь отец-язычник. Любовалась лесистыми горами, быстрыми реками, гармонией ночных светил и запал в душу вопрос: кто сотворил сие великолепие?.. Кто Творец красоты. Великомученица, оказавшись заточённой в башню задумалась, нам вообще некогда задумываться при наших скоростях…
Дождь начался девятнадцатого августа под утро. Небо беспросветно затянуло. Льёт и льёт. Местные говорят: гора в тучах (Алтын-туу) – значит, на неделю непогода. На метеостанции такого же мнения: дней на пять зарядил, меньше у нас не бывает. Художники приуныли. Те, у кого с собой было спиртное, стали прикладываться к фляжкам. Трезвенники откровенно занервничали: что за выставка в дождь? Я не только братьев-художников сагитировала, пиар-компанию развернула – телевизионщиков притащила. Они изнылись: вот, приволоклись за тыщу вёрст дождя хлебать! Им надо сюжет из командировки про выставку привезти.
Я в психе. Взбаламутила, сорвала, заманила людей – и что? Пошла в сад, упала под яблоней лицом вниз, разревелась: «Господи, если Ты есть, помоги… Видишь мой позор, сорвала столько людей, наобещала…»
Лежу, реву, благо никто не слышит… Кто в дождь потащится в сад? Не знаю, сколько провалялась… Было настолько больно, настолько обидно. Ведь хорошее дело затеяла… Потрачено столько времени и сил… Так была уверена – всё получится, всем понравится… Реву, прошу: «Господи, у тебя нет ничего невозможного… Если Ты есть…» Дерзнула глаголить: «Если Ты есть…» Я в дождевике чуть не до пят, в резиновых сапогах… Вдруг чувствую – что-то изменилось в мире. Тихо. Поднимаю голову – с яблони редкие капли падают… Вскочила на ноги и на кордон… Народ в волнении – дождя нет, а я запропала… Достали картины. Развешали, кто как сумел. Кто на лестнице, кто на яблоне, кто на копну сена пристроил. Кто шпагат натянул – на нём развесил. По озеру дождь лупит – как шёл, ни на минутку не прервался – а у нас ни капельки. Чудо, натуральное чудо. Тучи над поляной расступились, солнце лучами брызнуло, засверкали капли на траве, листве…
Местное население поначалу никак не реагировало. Исключительно для себя первый раз выставка получилась.
На следующий год узнала, что восточный берег Телецкого озера самый дождливый во всей Западной Сибири. Микроклимат кроме тепла ещё и влагой отличается. Летние дожди – постоянное явление. Снова утром на Яблочный Спас небо нахмурилось. Плакать в сад больше не побежала, ещё в Омске надоумили для нужной погоды акафист читать. Попросила ребят-художников, кто хоть немного воцерковлён, дала им сборник акафистов: читайте по очереди. Тоже чудо. Пока читают – нормально, стоит прерваться – дождь начинается. Я сделала рекламу выставке в Горно-Алтайске и на многих турбазах. К открытию гости на катере приехали. Удивляются: кругом дождь, а здесь благодать. Изумительно выставка прошла. Вот Алтын-туу над озером возвышается, а вот гора на картине. Рядом холст «Телецкое». Зритель постоит рядом с ним и обязательно переведёт взгляд на само озеро, которое лежит внизу. Кто-то длинные бусы из маленьких яблок сделал, на шею повесил. Кто-то золотой фольгой обернул плоды и раздаривает: берите райские яблочки. Все счастливые, улыбаются… Хорошо… Солнце, зелёная гора, пахучий, дышащий августовским раздольем ветер… Мы пару тазов пирожков с яблоками (на то он и Спас – начинать яблочки есть) напекли, чаю наварили… Художники и кто в гости приехал – все в эйфории… Местные видят – народ веселится, тоже подтянулись.
На третью выставку ещё больше народу приехало. Художница с Барнаула батики привезла. Серия называлась «Радуга». И все-то картины излучали радость, счастье. Думаю, а что если всю серию в форме радуги развесить. Начали искать подручный материал (палки, ветки длинные), да как ни ухитрялись – рушатся конструкции. Осени меня идея раньше, можно у местных было что-то взять, тут время поджимает… Мне ещё свои картины развешивать… В конце концов расставили батики на одном уровне – не получилось радугой.
Я в тот год гуашь привезла. Дождя нет, да небосвод чистым не назовёшь. Развесила. Люди подходят, что-то спрашивают, отвечаю, сама вверх посматриваю, для гуаши влага – смерть. Для любой картины, для гуаши подавно. Тучки по краю неба ходят. Лучше, думаю, перестраховаться… Только завернула в плёнку картины – дождь. Слепой. Солнце, а он реденький, меленький, золотой… Как благословение. И вдруг во всё небо радуга встала… Вы пытались батики под меня развесить, я сама картиной на вашей выставке…
С Хакасии приехал Саша Зайцев. Он на Алтай впервые попал, ошалел от переизбытка чувств и захотел на флейте поиграть. В Хакассии освоил хакасскую, мечтал на алтайской попробовать. Раза три спрашивал у меня: «Где бы взять?» А я откуда знаю. «Поспрошай у местных», – говорю. Получилось как в сказке «Изумрудный город». По просьбе трудящихся волшебник Гудвин реализует желания. Саша в доме у местной женщины поселился, пошёл покурить, смотрит в сенцах на полочке в пыли и паутине флейта. Единственная на весь посёлок и именно в доме, где Саша остановился. От мужа хозяйки инструмент остался. Саша вытер, продул и заиграл.
Но сказка продолжается, в соседний дом к родственникам из Новосибирска приехала студентка консерватории, флейтистка. Пришла на открытие выставки. Дождь закончился, радуга в небе, тепло, даже жарко. Под горячим солнцем аромат от трав и цветов поднимается, яблочный дух к нему примешивается… А девочка на флейте (сама, как флейта изящная) играет «Город золотой»:
Под небом голубым есть город золотой
С прозрачными воротами и яркою звездой,
А в городе том сад, все травы да цветы…
Все восторженные, счастливые… Музыка, запахи, картины. Яблочный Спас…
На четвёртый год приехал отец Сергий, из села Турочак. Как всегда дождь моросит. Он достаёт свечи, ставит на столик икону, начинает молебен, тут же тучи разлетаются, на небе образуется чистое пространство и оттуда солнце…
На пятый год привезли мы из Омска в Яйлю «странствующий аил» – передвижной выставочный зал. Я сама проект сделала, по нему склеили огромный с прозрачным верхом складывающий шатёр в форме алтайской юрты – аила. Устанавливается максимум за два часа. Поставили, развесили картины в аиле, небо в тот раз не прояснялось ни на пол часика. Постоянно дождило. Яснее ясного было показано: раз не верите – пожалуйста.
На следующий день на катере приехал епископ Барнаульский и Алтайский Максим со свитой священников, поклонный крест привезли. Я владыку тоже этим проектом проняла. Надо, говорю, установить поклонный крест. Он сразу согласился. За счёт епархии изготовили крест. Установили, владыка освятил. Посмотрел нашу выставку. Сейчас в Яйлю уже часовню возвели.
Через год в Беле поклонный крест водрузили. На катере привезли, а дальше километра полтора круто в гору тащить. Мужчины по трое-четверо несли. А он большой, тяжеленный. Володя Чупилко потом признался: «Теперь-то собственными руками и спиной знаю, что такое крест нести». В Беле когда-то стояла часовня, её в конце XIX века возвёл по завету священник Михаил Чевалков. Поздней осенью на лодке отправился он по Телецкому озеру в Чулышманский мужской монастырь, да попал в шторм, а потом лодчонку льдами зажало – ни назад вернуться, ни вперёд продолжить путь. Отец Михаил взмолился Николаю Угоднику и пообещал часовню в Беле поставить, если выберется из ледовых уз. Внял молитве страждущего святитель Николай – лёд расступился, и открылась водная дорожка… Так была поставлена в Беле часовня в честь Николая Чудотворца. В советское время, конечно, разрушили. Мы водрузили на её месте поклонный крест, отец Сергий из Артыбаша освятил, а через два года на Беле построили деревянную часовенку.
И такой след наш «Яблочный Спас» оставил…
Четырнадцать лет подряд ездим, кто-то потерял интерес, соскочил, добавились новые люди… Большинство ребят-художников креститься толком не умели в первых поездках, теперь спокойно акафист читают… Так стараюсь во славу Божью…
Совсем недавно поняла, как служила Богу моя бабушка по маме. Я в десятом классе училась, когда впервые увидела её молящейся. До этого ни одного слова о Боге не слышала от неё. Но сколько помню себя каждое воскресенье бабушка по-своему славила Бога… Это я значительно позже поняла, тогда думалось, просто гости приходят…
…По воскресеньям к нам приходили бабули. Баба Нюра, совсем маленькая старушка, головка к плечу наклонена. Было странно слышать от неё, что в детстве летучей кошкой лазила по деревьям. Ходила, опираясь на палочку, одна нога плохо сгибалась, спина с горбиком. Ещё одна воскресная гостья – тётя Лида – жила через дом, почти слепая. Приходила совсем-совсем одинокая баба Клава. А также тётя Паша с соседней улицы.
Накануне бабушка заводила тесто. По дому распространялся запах квашни. Потом его сменял аромат горячей сдобы, пирогов. Раскрасневшаяся бабушка орудовала у печи. В пышущий жаром зев уныривали чёрные до блеска противни, унося на себе белые шанежки, каральки, печенюшки (их вырезала бабушка из раскатанного теста широкой рюмкой, а для красоты три-четыре раза поверхность накалывала вилкой)… Печь закрывалась заслонкой. Если я оказывалась дома, ноги сами приносили на кухню, где в нетерпении ждала, когда первый противень ловкими движениями бабушкиных рук будет выхвачен из знойной темницы… Сижу наготове со стаканом молока. И вот долгожданный момент – начинаю уписывать, запивая молоком, обжигающе вкусные шанежки…
Давно хочу взяться за картину… Утро, обязательно яркое. На полу на широких вишнёвого цвета плахах солнечные пятна… Белёный куб печи с чёрным зевом – жарким, знойным… Бабушка в белом платочке, в ярком фартуке (любила красивые фартуки) с противнем… Приготовила садить его в печь. На аспидно-чёрном противне белые каральки в три ряда… Как птички… И совсем скоро, это должно читаться на картине, противень вынырнет из печи с горячими поджаристыми каральками…
В детстве воскресное утро начиналось следующим образом: я ещё нежусь в постели, вдруг стукнет калитка (торкнет – у нас говорили), затем хлопнет дверь в сенях, стукнет входная и раздастся певучий голос тёти Паши или бабы Клавы. Певучий, но негромкий. Бабушки не шумели, вели себя благоговейно… Баба Клава, приветствуя, говорила не «здравствуйте», а «спаси, Господи». Первой приходил кто-то из этих двух бабушек. Баба Клава жила в крохотном домике. Малюсенькие сени, в домике справа от высокого порога русская печь, и всего одна комнатка. Она и кухня, и спальня, и гостиная. Если у моей бабушки случался аврал на работе, а дед ловил браконьеров, я дошколёнком нередко оставалась с бабой Клавой. Какую жизнь она прожила – не скажу, не знаю… «Старая дева», – говорила бабушка. Настолько беззлобный, настолько светлый и сердечный человек была баба Клава. Чистенькая, аккуратненькая. В её домике пахло сухими травами и, скорее всего, ладаном, тогда-то я ничего не понимала. Необычно пахло. Одевалась более чем скромно. Старенькая вязаная кофта, неизменный плюшевый жакет. Пенсия у неё (врезалось в память) была восемнадцать рублей двадцать восемь копеек… В её домике в красном углу висела икона…
С год назад в церкви на службе встречаю женщину… Бог ты мой, вылитая баба Клава. Такое же добротой лучащееся лицо… Увидела и поняла – во вразумление встреча. С тех пор пишу бабу Клаву в поминальные записки.
Воскресенье бабушка посвящала гостям. Это был завтрак, переходящий в обед, бывало, и ужин. За столом звучали ласковой музыкой имена – «Пашенька», «Нюронька», «Клавонька», «Лидонька»…
О чём говорили – не запомнилось, почти не сидела с ними, они-то часами не выходили из-за стола, я быстренько поем и по своим делам-заботам… С пустыми руками бабушка подруг никогда не отпускала, обязательно вручала «гостинчик» с собой.
Бабушка однажды рассказала, что её отец, мой прадед Максим, содержал странноприимный дом. У него во дворе под навесом был сооружён длинный стол, в тёплое время кормили за ним всех страждущих Тары – убогих, нищих, странников… Любой мог прийти. Поумнев, я поняла: бабушка своими воскресеньями продолжала эту традицию. В церковь пойти не могла, в Таре её и не было… А и будь, не знаю, решилась бы, иконы достала из тайника только в конце восьмидесятых годов… В детстве мелькала у меня мысль: какие-то странные у бабушки подруги. Сама явно другого уровня. Работала бухгалтером в заготзерно. Для Тары немаленькая должность. У деда и подавно статус нерядовой – главный охотовед района, потом был старшим госинспектором рыбоохраны.
Бабушкины воскресные гостьи – обязательная составляющая моего детства. В воскресенье с утра торкнет калитка, и потихоньку пойдут одна за другой. Любила бабу Клаву, в тёте Паше что-то настораживало, не могу объяснить что, к остальным ровное отношение…
Так и осталась загадкой для меня – почему не крестили в детстве? Ладно, в Таре не было церкви, но тётя Тая жила в Омске. Или бабушка настолько боялась? Знала, обязательно сообщат в Тару.
Первое воспоминание о церкви связано с тётей Таей. Мне восемь лет. Тётя (на самом деле она двоюродная бабушка, но повелось – тётя да тётя) жила в Омске на Яковлева, после первого класса приехала к ней в гости, она позвала: «Зайдем-ка в церковь». Жила рядом с Крестовоздвиженским собором. Повязала мне платочек… Навсегда во мне те ощущения. Всё другое в храме, всё незнакомое, отличное от происходящего за церковной оградой. Специфичный запах. Своя тишина до купола высокая, заставляющая переходить на полушёпот. Подсвечники, язычки пламени свечек… Люди присмиревшие, обращенные к иконам… Ни улыбок, ни резких жестов, много святых образов…
Однажды выяснилось, у бабушки были иконы, много икон, хранились они в укромном месте. Достала их на свет Божий, получив бумагу о реабилитации отца и всех родственников. Самый конец восьмидесятых, я заканчивала десятилетку. Прихожу из школы… В доме что-то не то, что-то изменилось… Сразу не поняла – иконы. В красном углу богатые образа… Полочка откуда-то нашлась.
С двухнедельного возраста жила я с бабой-дедом, знала их дом до последнего уголка, а про существование икон не ведала. Старинные, с богатыми окладами несколько десятилетий лежали они в настолько секретном месте, что я, проныра, не разнюхала. Вот тогда-то впервые увидела, как бабушка крестится.
Практически весь её род в тридцать седьмом году выкосили. Осталась моя прабабушка Уня, её дочери – это моя бабушка Катя и три её сестры (Тая, Нюра, Таня …) да два сына – Пётр и Николай. Парни погибли в Великую Отечественную. Бабушке в тридцать седьмом году было двадцать четыре года. Замуж давно пора по деревенским меркам, да засиделась в девках из-за исторических катаклизмов. Красотой её Бог сполна одарил. Все сёстры отмечали: ух, наша Катя красавицей была! Красота сыграла свою роль. С роковым шлейфом идеологической неблагонадёжности (отец – кулак, староста церкви; тётка – купчиха, ещё одна тётка – монахиня) бабушка умудрилась выйти замуж за энкаведешника. Сама для себя я решила (бабушка не откровенничала на предмет душевных переживаний), что первого мужа не любила. Пошла за Павла ради родных, спасти остатки семьи. Всего год с небольшим миновало после того, как расстреляли отца, а она выбрала энкавэдешника. Наверное, увидела в нём защиту. Но жили вместе всего ничего, дочь родилась (моя тётя Надя), и Павла забрали на финскую войну. В том же тридцать девятом он погиб. Тётя Тая говорила, они выжили в войну только за счёт бабушкиного пайка. Ей, как вдове энкавэдэшника, полагался, она делилась со своими сёстрами.