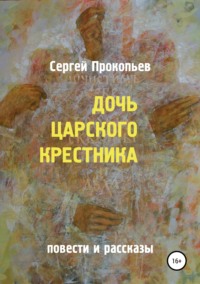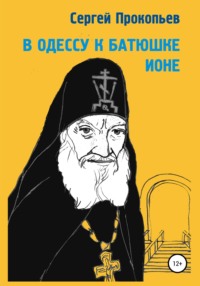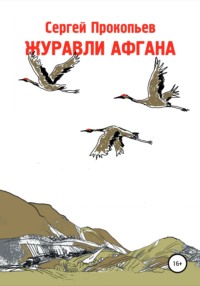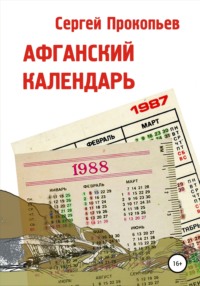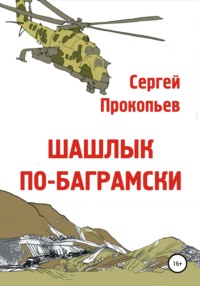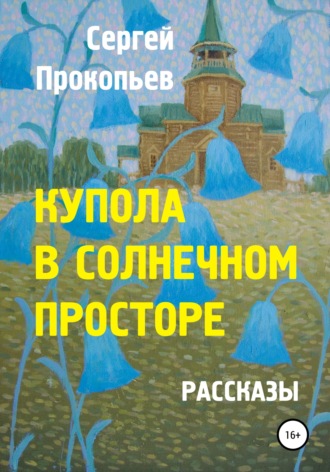 полная версия
полная версияКупола в солнечном просторе
– Хозяева есть? – громко сказала Анна Николаевна, входя в просторный двор, одновременно ещё раз проверяя наличие четвероного сторожа. Калитку предусмотрительно не закрывала на случай появления пса. Похоже, его не было.
От калитки вдоль высокой завалинки шёл тротуар из широких плах. Анна Николаевна поднялась на высокое крыльцо. Постучала в дверь, прошла широкими сенями с крохотным окошечком, выходящим на огород, постучала в ещё одну дверь, оббитую дерматином, и вошла в дом. Слева от входа высилась недавно побеленная русская печь, дальше дощатая перегородка с дверным проёмом, в нём показалась женщина в длинной тёмной юбке, поверх неё пёстрый фартук, на голове косынка. Они поздоровались, Анна Николаевна назвала себя, представилась музейным работником, хозяйка пригласила в горницу. Пододвинула стул, выкрашенный в такую же вишнёвую краску, как и пол. Сама села напротив. Рассиживаться было некогда, но и отказываться не тактично. Анна Николаевна стала спрашивать про иконы. Нет ли ненужных. Она сразу обратила внимание на божницу в переднем углу комнаты, на полке стояло три старых икон, украшенных рушниками. Эти, конечно, неприкосновенны…
И вдруг за спиной прозвучало:
– Иконы ищешь?
Анна Николаевна вздрогнула, не предполагала, кто-то ещё есть в комнате. Она сидела лицом к окну, выходящим в огород со стройными картофельными рядами. Обернулась на голос, у печки стояла кровать, на ней лежала глубокая старушка, укрытая лоскутным одеялом. Сейчас эта техника широко вошла в моду под иноземным названием пэчворк, тогда про пэчворк в деревнях не ведали, просто-напросто пускали лоскутки материи на пользу дела. Бабушка, как и хозяйка, не была простоволосой – в синем выцветшем платочке. Она, скорее всего, уже не вставала.
– Иконы ищешь, детка, а Господь в сердце должен быть!
Ещё она сказала, что надо читать духовные книги. Анна Николаевна вежливо кивнула, дескать, да-да, согласна.
– Вера, дай ей Николу, – сказала старушка.
А потом обратилась к Анне Николаевне:
– Запомни детка: молитву из сердца Господь непременно услышит.
Хозяйка подошла к деревянной полке, что висела в простенке между окнами, достала медную литую иконку и подала:
– Вот, пожалуйста!
Анна Николаевна сразу поняла: образок Николы Угодника был от складня. Куда-то запропастились другие его части с изображениями Иисуса Христа и, скорее всего, Пресвятой Богородицы. В иконах хорошо разбиралась, экзамен по курсу иконописи в Академии искусств сдала четыре года назад на «отлично».
– Читай, детка, «Библию», «Жития святых», – на прощанье сказала старушка. – С Богом живи! И молись из сердца!
Анна Николаевна поблагодарила, вышла за ворота, довольная приобретением. Получилось – ноги правильно привели, нужный дом выбрала. «Есть чутьё», – похвалила себя. Она знала, литые медные иконы широко ходили среди старообрядцев. Это село, насколько знала, не относилось к старообрядческим, скорее всего, образок своими неведомыми путями попала в дом.
Сразу за деревней начиналась тайга. Туристы по лесной дороге подошли к старой гати, перешли по ней болото, которое, расширяясь уходило на север. Дальше шли по сухому до самого вечера. Мученья начались на второй день. Места болотистые, бездорожные. Анна Николаевна полностью доверяла мужу, он был старше её на десять лет, вырос в тайге. Учась в пединституте, руководил студенческим туристическим клубом, много ходил в походы. Однако на третий день в сердце Анны Николаевны закралась тревога. С ними было двенадцать детей от четырнадцати до шестнадцати лет, девяти и десятикласники. Шли по пояс мокрые, болото не кончалось. Выберутся на сухое место, кажется, всё, миновали гиблые места. Пройдут немного и снова кочкарник, снова под ногами начинала хлюпать вода.
Несколько раз потихоньку, чтобы никто из детей не слышал, спрашивала мужа:
– Не заблудились?
Он всякий раз шикал:
– Не болтай глупостей.
Хотелось верить. Вышли к реке. Муж скомандовал мастерить плот. Немного проплыли и уткнулись в тупик, завал из поваленных деревьев перегородил реку. Муж сходил на разведку. Вернулся с неутешительной вестью – дальше сплавляться невозможно. А по берегам реки с обеих сторон болото.
Анна Николаевна по озабоченному виду мужа поняла – заблудились. И впервые в жизни начала молиться. Тайком достала из бокового кармана рюкзака иконку, завёрнутую в носовой платок, положила в левый нагрудный карман куртки. Слова старушки: «Молитву из сердца Господь непременно услышит», – стояли в ушах. Шла и своими словами обращалась к Божьей Матери, Николаю Угоднику, Иисусу Христу. Случалось, муж окликал, а она сразу могла не понять – обращается к ней, настолько была погружена в себя. Он повторно обращался, она выныривала на поверхность, возвращалась к действительности. То и дело попадали в болота. Никаких селений, дорог. Муж, стараясь подбодрить школьников, на привалах расчехлял гитару, пел туристские песни:
Сырая тяжесть сапога,
Роса на карабине.
Кругом тайга, одна тайга,
И мы – посередине.
В их случае ещё и болота были кругом.
Письма не жди, письма не жди,
Дороги опустели.
Идут дожди, одни дожди
Четвертую неделю.
Дождей, к счастью, не было, как, впрочем, и дорог.
Она была завхозом похода, на четвёртый день начала тайком экономить продукты. На шестой вышли на покос. Время косьбы ещё не подошло, травы стояли нетронутыми, но по месту, где стоял в прошлом году зарод, было понятно – покос.
– Вот и покосы! – с повеселевшим лицом сказал муж. – Значит, рядом деревня.
Анне Николаевне непреодолимо захотелось перекреститься. Она тронула рукой карман, в котором находился Никола Угодник.
К покосу вела дорога с тележной колеёй, по которой вышли к деревне. Как оказалось, уклонились в сторону на пятьдесят километров. Попали в по-настоящему медвежий угол.
***
С владыкой Феодосием судьба свела следующим образом. В те атеистические годы придел Иоанна Златоуста в Софийском соборе Тобольского кремля принадлежал музею. Из всего огромного собора, только в этой части была жизнь, да и то светская. В приделе располагался выставочный зал, отдел Анны Николаевны отвечал за него. Зал небольшой, каждый месяц готовили новую выставку. Анна Николаевна приехала в Тобольск полная творческих сил, жажды просветительской деятельности. Переехать в древний городок её уговорила тоболячка-сокурсница. Анна Николаевна никогда об этом не жалела, с первых дней на новом месте с головой ушла в работу. Познакомилась с тобольскими художниками, тюменскими. Добилась, чтобы в выставочном зале каждый месяц менялась экспозиция. В тот раз выставлялись местные художники. Марии Николаевне позвонили из управления культуры, сказали, что в город приехал архиепископ Феодосий, нужно показать архиерею выставку, не исключено, пожелает приобрести картину, он из ценителей живописи. «Подумайте, подскажите ему, на какую работу следует обратить внимание», – последовало ценное указание сверху.
Она и сама это прекрасно понимала, дело привычное, время от времени высокое начальство заглядывало в музей. Даже очень высокое наведывалось – из области, из Москвы. Ну да не в первый раз, гостям в музее всегда рады.
Шла последняя декада июня, владыка подгадал в Тобольск к дню памяти святителя Иоанна Тобольского. Погода стояла по-настоящему летняя, в тот день с утра парило. Анна Николаевна пришла в музей вся из себя летящая, изящная, в фирменных джинсах… В то время настоящие джинсы в магазинах не продавали… Привезла месяц назад из города студенческой юности – Ленинграда. Училась в Академии художеств, изучала историю и теорию изобразительного искусства. На заочном отделении. На очном в советское время их факультет готовил преимущественно национальные кадры. Советский Союз, как известно, в чём только «не угнетал оккупированные окраины» – развивал промышленность, сельское хозяйство, медицину, науку… Образованием тоже угнетал. Так что «оккупантам» из России оставалось в Академии заочное отделение. Однако было оно не «заушным» – за уши студентов не тащили, учили основательно, русские кадры тоже были нужны стране. В тот год Мария Николаевна ездила поступать в аспирантуру и прикупила джинсы. Свой любимый «вранглер». Без малого месячный заработок отдала. Зато выглядела в них… Облегающие джинсы и короткий блейзер с яркими пуговицами подчёркивали точёную фигурку не рожавшей женщины. Прямые роскошные волосы до плеч. Голова не покрыта… Выставка пусть и проходила в приделе собора, да храм уже более полувека таковым не являлся, с далёких двадцатых годов использовался в качестве склада, а потом передали музею. Анна Николаевна, само собой, чувствовала себя хозяйкой на музейных площадях… Владыка вошёл с многочисленной свитой. Чёрный клобук, панагия на груди, посох в руке. Величественный, важный… Анна Николаевна шагнула к нему:
– Я бы хотела вам подсказать…
Почему-то решила, он первым делом будет смотреть, какую картину приобрести.
Владыка задержался взглядом на ней, хмыкнул:
– Мы сами тут разберёмся…
Как признавалась потом Анна Николаевна: «Меня будто волной прибило к стенке! Припечатало невидимой силой. Ничего не поняла – откуда, что, почему? Я не представляла, что значит епископ в духовном плане. Лишь много позже осознала – произошло обжигающее прикосновение к той силе, которую являл собой архиепископ, которая даётся хиротонией апостолам сегодняшнего дня. Эта встреча привела к тому, что я через год крестилась, начала воцерковляться. Владыка произнёс ничего не значащую фразу, не придавая ей какого-то значения… И не во фразе дело. Мимолётное несуразное с моей стороны общение с владыкой стало толчком, начало переформатировать меня… Это было вразумление и в мирском плане, и на духовном уровне… Владыка через минуту всё забыл, а я долго-долго не могла от этого отойти. Не просто неделю или месяц, не один год… Да и сейчас не могу вспоминать без волнения…»
Каждый раз, читая «Деяния святых апостолов», историю смерти Анании и его жены Сапфиры, Анна Николаевна вспоминает опыт своего общения с архиепископом Феодосием. И всякий раз мурашки бегут по спине. Другой случай, нет никакой параллели, но там и там апостолы… Анания и Сапфира надумали вступить в общину первых христиан Иерусалима, которые отказывались от своих домов, какой бы то ни было собственности в пользу общины. Анания и Сапфира продали своё имение, но решили малость слукавить, часть вырученных денег припрятали, дескать, мы будем безоговорочно жить вместе со всеми по правилам христиан, да чуток личных средств в кубышке не помешает. Итак вон сколько отдаём в общий котёл. Анания с честными глазами понёс деньги (за вычетом заначки) в общину, и когда апостол Пётр спросил, за сколько было продано имение, назвал меньшую сумму. «Анания! – сказал апостол Пётр. – Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Услышав это, Анания пал бездыханным. Жена его подошла к апостолам позже и, не зная о смерти мужа, также утаила реальную цену продажи земли. И тоже после слов Петра упала замертво. Вот какая сила исходила от апостола…
***
Поезд, на котором Анна Николаевна приехала в Омск, прибыл на третий путь. Митрополит Омский и Тарский Феодосий шёл по перрону первого. Между ней и владыкой было сверкающее рельсами железнодорожное полотно. Анна Николаевна посмотрела направо-налево, приближающихся поездов не было, и ринулась с чемоданом через рельсы, боясь, владыка уйдёт, стоит ей спуститься в подземный переход. Анна Николаевна подошла под благословение, пальцы владыки легко коснулись её головы…
Хотелось сказать: владыка, храни вас Господь и спасибо вам за всё… Но тут к владыке приблизился какой-то высокий светский чин с сопровождающими, Анну Николаевну оттеснили…
На это у меня своя диссертация
Когда я немощен, тогда силён
С Артёмом столкнулись на автовокзале.
– Какая встреча! – обрадовался он.
Мы крепко пожали друг другу руки.
Артём невысокий, плотный, лет сорока пяти, с живыми глазами. Густые тёмные волосы давно просились в парикмахерскую. Данное обстоятельство нисколько не заботило их хозяина.
– Можно звать Артёмом, – сказал он год назад при нашем знакомстве, – можно Артемием. В паспорте Артём, крещён Артемием. Всяко-разно будет правильно.
Артём прибыл на автовокзал с часовым запасом до отправления своего автобуса, я на планируемый рейс опоздал, следующий через полтора часа. Есть время побеседовать. Лето, мы идём в сквер. Артём закуривает.
– Пост же, – не могу я промолчать. – А ты куришь.
– Я и пива бутылочку могу выпить, – затягивается дымом Артём, – у меня на это своя диссертация. Батюшка Иоанн мне говорит: «Поступай в семинарию, в вашей захудалом селе никакой приезжий священник не выживет, из своих нужен. Иначе не дождётесь». – «Какой из меня батюшка, – говорю, – если курю». – «Бросишь. Церковь у вас есть. Ты мирским чином по воскресеньям служишь. Поучишься заочно в семинарии, владыка рукоположит». – «Курить, – объясняю, – может, и брошу, а детей кормить бросить не могу. Да не парнишки, четыре девчонки, пока ещё ничего, а вскоре всепогодными джинсами с ними не обойдёшься, а приход такую ораву не прокормит. И подработать в деревне негде». Батюшка Иоанн сам всё это знает. Ему в районном селе, которое раз в десять больше нашей деревни, не сладко приходится. Не унывает, пасеку держит. Мне говорит: «Помни слова апостола Павла: ”Когда я немощен, тогда силён”. Будешь служить Богу, он тебя не бросит».
Садимся с Артёмом в сквере на лавочку. Разгорается июльский день. На редкость для нынешнего невзрачного лета погожий. У Артёма и на времена года «своя диссертация». Считает, русский человек мечтает только о лете. «Каждая погода благодать» – это, на его взгляд, всего лишь фигура речи.
– Зима со снегом, лыжами, санями и коньками – отличное время, ничего не скажет, – отстаивает данное положение «диссертации», – Особенно, если жить в городской квартире. Если туалет на улице, печь по два раза на дню хошь не хошь, кочегарь, иначе дуба дашь, то запоёшь исключительно о летней благодати. Пусть даже лето, как нынешнее, – ни два, ни полтора, то чуть тепло, то ещё холоднее.
Лето в нынешнем году никак не разгонится. Начало июля, а настоящего тепла никак дождаться не можем.
– Зато грибы! – говорит Артём. – Нынче урожай – косой коси, бочками заготавливай на сзиму. Я добрый мешок белых насушил.
– А осень, – выставляю свои аргументы, – разве не благодать, шишки, орехи…
Тема тайги тоже присутствует в «диссертации» Артёма. Летом-осенью в поисках душевного равновесия, совершает броски в тайгу. Скажет жене: «Отпускай дня на три, иначе запью», – и вперёд. Заодно собирает ягоды, грибы… И шишковать любит.
– Сентябрь по большому счёту ещё не осень, – говорит Артём. – Нет, что ни говори, весь год мы все мечтаем о лете. В осеннюю грязь подгоняем – скорее бы снег покрыл эту серость, мороз сковал. Снег ляжет, в охотку на лыжах да санках покатаемся, Новый год встретим, Рождество отпразднуем, и уже о Вербном Воскресенье, Пасхе подумываем. После Пасхи подгоняем время к зелёной травке, листочках на берёзах, Троице, тёплой иртышской водичке, рыбалке… Одним словом, лучше нету тепла и лета!
На этом жизнеутверждающем возгласе Артём открывает сумку, достаёт книгу:
– Псалтирь в нашу церковь купил.
Ещё одна «диссертация» Артёма (как понял читатель, «диссертаций» у него много) – Псалтирь. Считает, благодаря Псалтири из тюрьмы вырвался.
Тюремные узы
Родился Артём в Казахстане первым сыном у отца. Брак у отца был второй, а сын первый. Папа имел «свою диссертацию» в вопросах семейной жизни – он и после второго брака не угомонился, наоборот, вошёл во вкус, за вторым случился третий и даже последовал четвёртый. У Артёма пять сестёр и два брата. Своим детям Артём говорит: «Я папка у вас не идеальный, зато каждый день в полном наличии, а у меня папка хороший, только я его раз в полгода видел, а то и реже. Являю собой безотцовщину при живом родителе. Лучше вам не знать подробности моего босоного детства и непутёвой юности».
Голова у Артема к наукам светлая, техникум после школы окончил, мастером поработал, однако, говоря дочерям о непутёвой юности, не кокетничал. Первый раз тюрьма замаячила в девятнадцать лет. Хорошо, отец в трудную минуту проявил родительскую заботу, помог сыну в армию уйти во избежание неба в клеточку. Однако Артём и в армии набедокурил. Повезло, командир не захотел раздувать дело, как-никак пятно на часть легло бы, Артёма комиссовали.
– Прихожу из армии, – предаётся историческим воспоминаниям Артём. – Союз развалился, в свободном Казахстане бедлам. Завод мой загнулся, работы нет. Что делать, как жизнь строить? Папа у меня телемастер великий. Работал в телеателье, преподавал в училище. Решил и я пойти по его стопам, освоить тонкости дела. Поехал к нему учиться. Тогда хороший телемастер без денег не сидел. Работы было полно, пока вездесущие китаёзы со своей аппаратурой не полезли на наш рынок. В детстве я серьёзно радиоделом занимался – приёмники друзьям ремонтировал, магнитофоны. Когда пошли видеомагнитофоны, сразу сообразил, дело прибыльное, начал покупать-продавать, фильмы записывать на продажу. До пяти видеомагнитофонов скапливалось дома. И вообще меня всё интересовало. Деньги не в кубышку складывал. Коллекционировал редкие монеты царских времён. Потом в краеведческий музей отдал, с руками и ногами взяли.
Артём ещё и путешественник. «По крови я бродяга», – характеризует себя. Эта «кровавая» черта характера в конечном итоге забросила из Казахстана в сибирскую тайгу. Задолго до этого, в четырнадцать лет, рванул в Индию. В газете «Труд» прочитал про «город рассвета», город всемирного братства – Ауровиль, где коммунизм процветает. Йогой люди свободно занимаются, медитацией. То есть, экзотика, недоступная советскому гражданину. «Перемкнуло меня, – рассказывает Артём, – хочу в этот город».
Поднакопил денег в рублях, поменял на валюту, получилась сумасшедшая сумма – два доллара. Решил, на первое время хватит, а там видно будет. Матери не стал ничего говорить ни про доллары, ни про «город рассвета». И правильно сделал, она тут же навела бы на желанный рассвет суровый закат. Развернул Артём географическую карту, проложил маршрут в направлении Бенгальского залива, на берегу коего стоит Ауровиль. Купил билет на поезд до Усть-Каменогорска. Доехал, дальше отправился автобусом в сторону Алтая, до городка под названием Зыряновск. Деньги к тому времени закончились. Этот факт не остановил Артёма, в рюкзаке лежала карта с маршрутом и компас, взял азимут на Китай и пошёл пешком. План был прост и железно логичен – миновать Китай, затем проскочить Пакистан, и вот она Индия с городом Ауровиль и пляжами Бенгальского залива.
Окунуться Артёму в том заливе не случилось, каких-то двести километров осталось до границы с Китаем, как на пути преградой в погонах вырос участковый:
– Ты куда?
Артём не стал раскрывать планы путешествия в пленительный Ауровиль. На случай подобной встречи имелась легенда – он направляется всего лишь на курорт «Рахмановские ключи». Был такой поблизости.
– Запрещённое есть? – спросил участковый.
Такое было. Кроме карты и компаса имел при себе Артём коноплю. Два пакетика, в одном три грамма, в другом четыре. Вместе – семь, а это уже статья. Надели на Артёма наручники. Что хорошо, участковый не ссыпал оба пакетика в один, не подвёл к уголовной статье. Однако дело в суровых органах под названием КГБ завели на паломника, шляющегося в приграничной зоне. И вообще удачно история завершилась, позже Артём столкнулся с таким же бродягой, который в подобной ситуации попал в подневольники, в рабы к местным баям, его отправили не в КГБ, а в горы овец пасти. За Артёмом приехала мать и забрала домой.
Дело в КГБ имело своё продолжение, не ограничилось скупой записью, сделанной в Зыряновске. Пару страничек добавил Артём, позвонив однажды в Англию на радиостанцию Би-би-си. Он любил слушать музыкальные передачи, в одной из них популярный тогда эмигрант Вилли Токарев пообещал пластинку прислать, тому, кто позвонит на радио. Артём пришёл на почту, заказал разговор… Тариф разговора с Англией – полтора рубля минута, минимально допустимая длительность беседы – три минуты. Сумма приличная, в то время виниловая пластинка гигант (кстати, их в коллекции Артёма было несколько сотен) стоила два с половиной рубля, однако Артём раскошелился, очень хотел иметь диск Токарева. Самое интересное, дозвонился до туманного Альбиона. А потом последовал вызов в КГБ. То комсомолец в районе государственной границы с коноплёй обретается, то в Англию на вражескую радиостанцию звонит. К чему бы это?
Мы сидим в сквере. Солнышко набирает дневную силу, утренний ветерок с Иртыша овевает лица.
– Нет, – снова обращается к положениям своей «диссертации» Артём, – я полностью согласен с песенным утверждением: «Дождь ли снег – любое время года надо благодарно принимать», – но лучше летней благодати нет ничего. Согласись?
Я соглашаюсь. На самом деле, именно в такой день, что разгорался под голубым сводом июльского неба, понимаешь ни с чем несравнимую прелесть лета. Сегодня буду купаться в Иртыше. У знакомого, к которому еду, дом на берегу, катер. Позагораем, поплаваем. Тело ощутит благостное состояние, которое можно назвать «утомлённый солнцем». После долгих часов проведённых на воде, возвращаешься домой усталый, переполненный летом. Артём начинает вкусно рассказывать, как на летних школьных каникулах по утренней прохладе торопился с удочками на Иртыш. Ловил рыбу, купался, и весь-то день напролёт проводил у воды. Артём младше меня на добрый десяток лет, его детство прошло в Казахстане, тогда как моё в Восточной Сибири, но мы ныряли в прохладу своих рек с одинаковыми призывами: «Раз-два-три-четыре-пять – капитан велел нырять». Или: «Раз-два-три – полетели комары!» Он с друзьями, как и я со своими, любил купаться в ливень. Река кипит под ударами падающих сверху потоков воды, сердце ликует от разбушевавшейся стихии.
– На берег выскочишь – холодно, а в воде благодать! Нет, что ни говори, лето – праздник жизни! – восторженно повторяет Артём.
Я возвращаю его к теме, которую поднял в начале разговора – путь в Россию.
– Покрутился после армии и начал подворовывать, – честно признаётся Артём. – Жить чем-то надо. Надеялся, буду заниматься телевизорами, видеомагнитофонами. У отца это хорошо получалось, у меня – нет. И время уже другое, в магазинах стало полно этого добра. Денег нет, работы нет. А я молодой мужчина. Дружки из разряда: с кем поведёшься – от того и наберёшься. Не гнушался и я чужое взять. Заповедь «не укради» праздновал. Да и не знал заповедей Моисея, а совесть, получается, с прорехами.
Был у Артёма дружок Лёха, по кличке Зубатый. Фамилия Зубакин, и зубы передние торчали вразнобой. Он подбил Артёма на квартирный грабёж. Наговорил, что хозяева сами не без греха, мутные, деньжат у них навалом. И момент самый фартовый – квартира пустая, хозяева свалили в Петропавловск, только не тот, что на Камчатке, а в Казахстане. Ключи, говорит Лёха, у него есть, замки ломать не надо. Тихонечко ночью зайдут, пока соседи спят-почивают, деньги возьмут. Всё будет, как в культовом кино «Бриллиантовая рука», без пыли и шума…
– Что-то меня смущало в его словах, – рассказывал Артём, – чувствовалось, темнит, не договаривает, да он всегда был скользкий, но я согласился. Позарился на лёгкие деньги. Только ни рубля, ни доллара, ни одного тенге не нашли… Зубатый под ванну с головой залазил, в бачке сливном искал, за газовой плитой. Во все баночки на кухне заглянул. Бельё перерыл. Я был зол на Лёху, да и на себя – послушался трепача. Квартира бедненько обставлена, чёрно-белый телевизор, «хорошими деньгами» и не пахло.
В результате взяли ведро сахара-песка, и две банки варенья. Не с пустыми же руками идти… Не удалось чаю попить с наворованным вареньем и кофе с награбленным сахаром. Взяли горе грабителей на пороге. Они в дверь, а милиция навстречу. Квартира была опечатанной. Лёха умолчал сей факт, Артёма он поставил этажом ниже, пока открывал дверь. Использовал подельника втёмную, оставил за кадром информацию: за две недели до их проникновения в квартиру, в ней произошло двойное убийство. Бабушка с дедушкой собирали несколько месяцев пожертвования на церковь. Сумму набрали приличную, хранили дома. Тогда банкам не доверяли. Зубатый пронюхал. У него были крутые дружки из России. Сам на лавочке перед домом сидел, а дружки пошли на дело… Они или обманули Лёху, или на самом деле что-то не получилось… Денег взяли немного. Какую-то мелочь дали Лёхе. Он решил сам поискать…
– Сотовых тогда не было, – посвятил в детали ограбления Артём, – нам нет бы перерезать телефонный провод у соседей. Легкомысленно подошли, и вели себя нагло. Лёхе в поиске денег диван отодвигал от стены, потом полез на антресоли и ящик уронил. Глухая ночь, а в опечатанной квартире кто-то шараборится. Бдительные соседи позвонили в милицию. С другой стороны хорошо, мне в конечном итоге не воровство классифицировали – попытку.