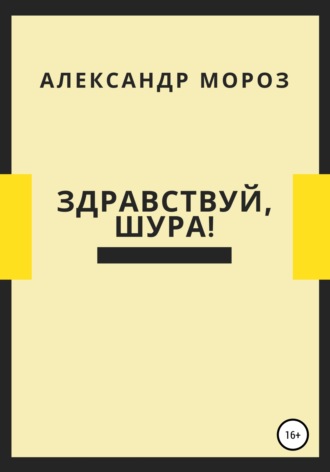 полная версия
полная версияЗдравствуй, Шура!
К сожалению, слухи о ликвидации Сновской дистанции связи скоро стали печальной реальностью. Передо мной встала сложная жизненная проблема: что делать, куда деваться? Ведь я уже был несвободным одиночкой, а семьянином. Мне предложили должность техника в Гомельской дистанции (учли мою заочную учебу). Деваться было некуда, и я согласился. И вот, с 16 февраля 1934 года я техник 15-й дистанции связи. Заместителя ШЧ Шумака перевели старшим электромехаником в Гомель, Горбач С.Я. осталась в Сновске.
Покончив с ликвидацией, я и Шумак едем в Гомель. Я прощаюсь с Шурой, у которой слезы на глазах, и дочкой Верочкой, которая к тому времени уже кое-что лепечет, прощаюсь с тещей. В Гомель приехали под вечер и пошли на Гомель-хозяйственный в комнату электромеханика. Взобрались на длинный верстак и, не раздеваясь, заснули.
Шумак – старый связист-практик, был неплохой дядька, и я ему очень благодарен за его участие ко мне в первые дни моей службы в Гомеле. В Гомеле он и умер, и причиной смерти была гангрена. Кусочек проволоки от стального семафорного троса проколол ему палец на руке, он сначала не придал этому значения, а когда болезнь обострилась, попал в больницу, где и умер. Похоронили его на крестьянском кладбище (позднее ликвидированном).
Я уже не стал ночевать в комнатке у Шумака, а обосновался в конторе 15 дистанции связи Западной железной дороги. Контора помещалась в доме на Либавской аллее вблизи вокзала.
Ко времени моего появления в ШЧ-15 начальником дистанции был Куган Александр Игнатьевич, начальником конторы – Петровский А., инженером – Самуйлов Евгений Исидорович, парторгом – Васильев, председателем месткома – Захаров Иван Фролович, кладовщиком – Кулик Тимофей Акимович. Мне выдали пригородный билет до Сновска, и началась моя семейная жизнь на два дома. Квартир в Гомеле не было, и я сначала ездил в Сновск часто, а потом стал ночевать в конторе, наезжая к семье лишь по выходным, а иногда в середине недели.
Начальник конторы Петровский Антон был больной человек, хотя и не старый. На дистанции царила бестолочь. Мое появление обрадовало Петровского, ведь я тоже был главным бухгалтером и мог ему помогать. С согласия начальника дистанции меня не стали полностью загружать технической работой, а использовали и на бухгалтерской. Я старался работать честно: вел бухгалтерию, чертил схемы как техник, выполнял задания как заочник, ездил в Сновск как семьянин. Петровский болеет часто и серьезно. Работа нервная, не хватает того-другого, в руководстве неразбериха.
Начальник дистанции Куган А.Н. – человек слабохарактерный, обещает и не выполняет обещанного. Правда, и время было такое, что трудно было удовлетворить разнообразные просьбы. Он же никому ничего не отказывал и обещал, назначая сроки. К примеру, скажет прийти за результатом в среду, а в среду назначит дату в понедельник и т. д., пока проситель не плюнет на все обещания и уже не обращается к нему.
Однажды Петровский пришел утром на работу, посидел около часа и вдруг склонился над столом. Его положили на стол, вызвали скорую помощь. Как выяснилось, положение было серьезное, и его положили в больницу. Пролежал он в больнице полгода и там и умер. Бухгалтерией во время его болезни заправлял я.
После смерти Петровского администрации стало ясно, что на должность начальника конторы (главного бухгалтера) им человека не найти; на эту довольно каверзную должность претендентов не было. Мне предложили тянуть эту лямку и дальше, обещая в ближайшем будущем улучшить мои жизненные условия. Пришлось согласиться.
Я стал ездить с отчетностью в город Калугу в Управление Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги, которое разместилось в здании бывшего монастыря. Поговаривали об укрупнении и образовании Белорусской железной дороги с Управлением в Гомеле. Возможно, что в связи с этим в Гомеле организовали курсы подготовки бухгалтеров без отрыва от производства, куда послали и меня. Вдобавок ко всем моим нагрузкам прибавилась и эта. Кроме чисто бухгалтерских предметов были и такие, как детальное изучение ПТО (правила технического обслуживания). Причем бухгалтера зазубривали ПТО наравне с поездными машинистами и движенцами. Для чего это было нужно нам, бухгалтерам, знание марок крестовин, разных габаритов и всей сигнализации – мы не понимали, но долбили. Помню, я все сдал не менее, чем на «хорошо». На этих курсах я в-первые получил понятие о бухгалтерии как науке. Курсы очень мне помогли как практику, подвели теоретическую базу. Многое, туманное прежде, прояснилось. Особенно я благодарен преподавателю Каешкину, который так понятно, толково и доходчиво умел довести до каждого секреты бухгалтерской науки, иллюстрируя это примерами в виде Т-образных значков. Нам выдали удостоверения о том, что мы прошли курс бухгалтерии и имеем право работать бухгалтерами. Это было единственное свидетельство о моем бухгалтерском образовании.
В выходные дни, а иногда и среди недели, я ездил домой в Сновск. Когда же не ездил, то спал в конторе на столе.
Заниматься приходилось много, даже в кино не ходил – не было времени. Устав от работы, я смахивал со стола свои бумаги, подстилал какую-то подстилку, на бумажные связки клал небольшую подушку и, закинув ноги на стол, засыпал. Утром – обратная процедура: опустив ноги со стола и убрав атрибуты своей «постели», я был готов к труду… Потом подходили сотрудники, начинался рабочий день, и заканчивался он вышеописанной процедурой. Странная это была жизнь!
Кроме всего прочего, еще проводились занятия по химической обороне: теоретические – в помещении, а практические – недалеко от села Давыдовка. Надевали противогазы и шагали к лесу. Помню, однажды ночью я проснулся от яркого света. Передо мной стоял Куган А.И. и улыбался:
– Не пугайтесь, – успокоил он меня, – Тут такое дело, Александр Александрович, объявлена химическая тревога и нужно сейчас же доставить противогазы на Гомель-хозяйственный. Я вас попрошу их отнести.
Противогазы я отнес и часа через два-три продолжил прерванный сон. Засыпая, я подумал, не от того ли улыбался у стола Куган, что около меня стоял специфический запах, который испускают люди, питающиеся всухомятку.
В одну из своих поездок в Сновск я узнал, что город переименован в город Щорс – было это в мае 1935 года, но станция осталась с прежним названием Сновская.
Приезд в Сновск был настоящим праздником для меня – Шура и Верочка радовались моему появлению. Время буквально пролетало, а особенно, когда я приезжал в середине недели. Мне нужно было, приехав в – девять часов вечера, уезжать в три часа ночи обратно в Гомель. Часто из-за боязни проспать мы не спали до времени отъезда. Лежали, тесно прижавшись друг к другу, и Шура допытывалась: «Котик, когда мы опять заживем вместе?». «Не знаю», – отвечал я, да и что я мог ответить, если кроме сомнительных обещаний о квартире в Гомеле ничем реальным я не мог похвалиться.
По выходным заходили к моим. Братья работали, а меньший Шура учился. Иван после окончания Гомельского технического училища ездил на паровозе как практикант-машинист. Брат Петр женился на падчерице Куценко из села Гвоздиковка. Вскоре у них появилась дочка, а немного спустя Петр уехал в Забайкалье одни, без семьи. Брат Леонид был парень серьезный. Он увлекался фотографией. У меня сохранилось несколько сделанных им фотографий: снимок Веры в 1933 году и несколько 1936 года. Сестра Анна работала учительницей в селе Кучиновка. Отчим все порывался куда-то уехать, сбежать от семьи – насилу его отговорили. Мать ревновала его и не без оснований. Бедная моя мать билась за создание маломальских условий существования. Были козы, потом и небольшая черная коровка вместо них появилась.
Примерно в 1936 году теща Февронья Федотовна продала свой дом, отдав какую-то долю Татьяне Мышастой, Шуре подарила швейную машинку и уехала в город Ижевск к дочери Вере, которая уже из Можги перебралась в Ижевск. Свою подругу Нину Гринцевич, трагически погибшую (ее убил муж), она похоронила в Можге. Снимок, сделанный в апреле 1936 года, у меня сохранился: на нем теща, моя Шура, сестра Вера и почему-то оказавшийся там в ту пору брат Анатолий. После отъезда тещи моя Шура с Верочкой поселились в доме Недбайло, что рядом с домом моей двоюродной сестры Вали Заико.
Так, в обстановке «двойственности» прожил я почти три года (1934, 1935 и 1936): по службе – техник и бухгалтер, по семейным обстоятельствам – сновчанин и гомельчанин. Дистанция обогатилась новыми инженерами: Мончинским и Деевым.
Молодой инженер Мончинский Георгий Степанович – человек веселого нрава, способный и энергичный, особенно запомнился мне тем, что он первый раз в жизни протащил меня в ресторан. Дело в том, что с названием «ресторан» у меня ассоциировалось место нехорошее, нечестное, недостойное порядочного человека. При царизме это заведение было просто недоступно простым людям, и о ресторанах всегда ходила дурная слава, как о притонах, где веселились богачи, всевозможные жулики и темные личности. Я органически сторонился этого учреждения, куда без больших денег совать нос не следовало.
И вот меня, убежденного недруга ресторанов, да еще и в рабочее время в ресторан на улице Советской затащил Мочинский. В банке я продвинул его дело, и ему выписали не то премию, не то вознаграждение за рацпредложение… Несмотря на упорное мое сопротивление, я очутился за столиком, выпил и закусил… Навеселе к концу рабочего дня мы заявились в контору.
1936 год прославился обилием реорганизаций и сменами руководства. На место Кугана А.И. назначили ШЧ Трегубова. Вместо панибратского обращения Кугана, в кабинете у которого свободно могли толкаться любые посетители, к Трегубову можно было попасть только через «фильтр» – через секретаршу. Он восседал в кабинете за широким столом и вел себя с достоинством, пожалуй, даже высокомерно. Побыл он недолго.
Потом некоторое время руководил дистанцией его заместитель Мончинский Г.С. За ним назначили нового ШЧ-1 Суркова Георгия Ивановича. Сурков предложил мне заполнить анкету на выдвижение меня на должность главного бухгалтера дистанции, которая вводилась по приказу Наркома. Я из скромности стал отказываться от такой чести. Я писал: «Занимать эту должность на такой крупной дистанции, как Гомельская, я не могу, т. к. не имею для этого достаточных знаний бухгалтерии, административных и организаторских способностей. К тому же жить на два дома, работать и учиться мне стало невмоготу. Прошу переместить меня в одну из служб в Сновске».
Анкету Сурков послал, и с 1 октября 1936 года меня назначили главным бухгалтером ШЧ-1 Гомель. Просьба моя так и не тронула начальство – им нужен был бухгалтер. Правда, Сурков на моем заявлении сделал резолюцию: «Поставлен вопрос о предоставлении Вам квартиры в г. Гомеле и создании хороших условий быта».
В этом же 1936 году разукрупнили Московско-Белорусско-Балтийскую железную дорогу с Управлением в Гомеле. С образованием Управления в Гомеле жилищный кризис еще более обострился, и начальство было занято расселением новых управленцев, прибывших из Калуги. Конечно же, я не довольствовался обещаниями своего начальника Суркова и написал заявление в три инстанции: начальнику Белорусской железной дороги, ШЧ-1 и месткому при ШЧ-1. В нем я подвел краткий итог моих трехлетних скитаний между Гомелем и Сновском.
Я привожу свое заявление полностью – оно как нельзя лучше отражает мое тогдашнее настроение:
«Служу я на железной дороге с 1915 года. Работал в дистанции пути, конторщиком, рассыльным, бухгалтером. Служил в Красной Армии три с половиной года с 1920 по 1924 год. Мотивом для перехода из службы пути в службу связи послужило желание переменить квалификацию. Я учился в Заочном железнодорожном институте. В 1934 году был переведен из Сновска в Гомель в связи с ликвидацией дистанции в Сновске. Затем, ввиду смерти бухгалтера Гомельской дистанции, был назначен на его место. Перегруженность работой привела к тому, что пришлось забросить учебу, и меня исключили из института за непредоставление контрольных работ. С 1934 года я живу в Гомеле, жена с ребенком – в Сновске. Ночую в конторе, а на выходные езжу домой. Жена в связи с продажей дома тещей в 1936 году временно на лето упросилась на квартиру, с которой теперь предлагают убраться. В результате нет дома ни в Сновске, ни в Гомеле. Зарплату получаю 259 рублей, из них на руки 223 рубля – на два стола и два дома жить трудно. Образ жизни, который я веду, никак нельзя назвать культурным. Нервничаю я, обозлена жена. Трудно работать в таких условиях. Никто не обращает внимания – комиссии, обследующие быт, проходят мимо меня. Прошу вашего распоряжения или дать мне квартиру в Гомеле, или перевести в одну из служб в Сновске хотя бы счетоводом. Дальше так жить стало невозможно. 17/IX 1936 г.».
Заявление мое Сурков направил Желубовскому с хорошей характеристикой на меня как работника и с просьбой создать мне человеческие условия. Он рекомендовал после перехода конторы в новое помещение на станции Гомель-хозяйственный помещение конторы на Либавской аллее отдать под квартиры работникам ШЧ, в том числе и мне. Не знаю, читал ли мое заявление начальник дороги, но мне 22 сентября 1936 года объявили резолюцию рассерженного Желубовского: «ШЧ-1. Я о квартирах с Вами неоднократно говорил, для Вас должно быть ясно, что жильем будут обеспечиваться после удовлетворения вывезенных из Калуги».
Прочитав Шуре такой неопределенный и туманный ответ Желубовского, я ее, конечно, не обрадовал. Заплакала Шура. Успокоил я ее, а у самого от обиды душа не на месте. Посоветовались и решили, что я буду усиленно добиваться перевода меня в одну из служб в Сновске хотя бы на низшую должность и с меньшей зарплатой. Шура моя измоталась от такой неопределенности нашего быта. Ей, как и мне, хотелось совместной жизни, ведь мы любили друг друга и были, как говорится, в расцвете сил.
Сурков, несмотря на кажущуюся недоступность и суровость, был человек неплохой. Упустить такого усидчивого бухгалтера, каким был я, не пьяницу, ему не хотелось, но, прочитав резолюцию раздраженного Желубовского, решил пока воздержаться от дальнейших ходатайств и не дразнить высшего начальства назойливостью. И мне стало ясно, что из Калуги будут ехать начальники рангом выше моего, а т. к. Желубовский боится начальства, то мои шансы на получение квартиры были ничтожны. Сурков хоть и сочувствовал мне, но мало чем мог помочь.
Я решил действовать через печать. Написал письмо в газету «Железнодорожник Белоруссии». Закончил его так: «Обращаясь к печати, я прошу помощи, товарищеского совета, какими путями мне добиться справедливости». Газета связалась с Дорпрофсожем и прочими имеющими отношение к жилью организациями, и после двух-трех месяцев волокиты мне в начале 1937 года предоставили квартиру, освобождаемую электромехаником Барановым, по Сортировочному тупику в доме № 12, квартира № 16.
1937–1941 гг. ГомельПока шла эта борьба за квартиру, моей бедной Шуре отказали в жилье у Недбайло, и она с Верочкой поселилась у моих родных, пополнив немалую семью моей матери. У матери, теперь уже бабушки, собрались все ее внуки: две внучки Вера и Рая и внучек Юра – Анин сын. Немало хлопот они ей доставляли!
Когда я приезжал «на побывку» из Гомеля, то у печи натыкался сразу на трех хозяек: мою мать, мою Шуру и жену Петра, которая после отъезда мужа в Сибирь обосновалась здесь со своей дочуркой Раей.
Зная неустойчивый характер Петра, а также его пристрастие к пьянке, все советовали его жене поскорее ехать к нему. Совета она послушалась и вскоре уехала в Забайкалье. Сначала они писали письма о том, что Петро занимал какой-то видный пост в Бурятской АССР, затем спился, был изгнан с этого поста, попал в депо Улан-Уде, оттуда на разъезд Заиграево лесником. Потом письма прекратились, и десятки лет ни Петр, ни его семья не интересовались судьбой близких, даже свату Куценко перестали писать.
Итак, благодаря помощи печати мне наконец-то дали квартиру в Гомеле! Этой однокомнатной квартире на втором этаже с общей кухней и водой на кухне мы с Шурой были несказанно рады. Получили наряд. И в один прекрасный день начала 1937 года на пути около восстановительного поезда станции Сновская, вблизи от дома моих родных, мы стали грузить вещи в поданный вагон. Быстро закончили погрузку, и я попросил дежурного по станции Сергея Петрукевича отправить нас побыстрее в Гомель. Сергей проявил максимум внимания и распорядился прицепить вагон к стоявшему товарному поезду.
Шура и я на фоне цветов (у нее было много цветов), стоя у раскрытой двери вагона, прощались со Сновском. Сергей помахал нам флажком, и мы без остановок через три часа были на станции Гомель-сортировочный. На следующий день вагон подали в тупик, упирающийся в здание резерва проводников и 9-й школы. К этому времени из Сновска приехала моя мать. Переносили вещи из вагона в квартиру, и старушка-мать активно нам помогала. У меня до сих пор в памяти трогательная картина: худенькая старушка – моя мать, ухватилась за угол шкафа и помогает тащить его на второй этаж, и столько было усердия и напряжения с ее стороны, что я боялся, не подорвется ли она. Так мы начали жить втроем.
Сосед Шляйцев работал в ПВРЗ. Жена его – домашняя хозяйка, была женщина вздорного характера. Два сына тоже далеки от идеала. В общем, с соседями нам не совсем повезло. Ну что ж, пришлось с этим примириться, главное – свой угол! Теперь оставалось только работать и работать.
Бесславно завершилась моя заочная учеба: за непредоставление контрольных работ меня исключили из заочного института железнодорожного транспорта. У меня осталась зачетная книжка с отметкой зачетов по некоторым предметам третьего курса. Мое стремление стать инженером-электриком не осуществилось. Электрика из меня не получилось, инженера тоже. Впрочем, звание инженера-лейтенанта мне позже, в военное время, присвоили, так что с точки зрения чина мое честолюбие было удовлетворено. Мое увлечение электротехникой, заочной учебой оказалось временным, как в свое время занятия стенографией и игрой на мандолине… Судьба уготовила мне скромную бухгалтерскую должность в конторе, избрав профессию, к которой я никогда не стремился, но с которой был связан в течение многих лет моей жизни.
Правда, еще после операции в 1917 году она, эта судьба, толкнула меня на конторскую, нефизическую работу, и я за несколько лет как-то привык к ней, хотя все время хотел переменить конторскую профессию. И вот теперь, основательно осевши в бухгалтерии, я успокаивал себя рассуждениями, что вряд ли бы я достиг чего-либо лучшего, если бы закончил заочную учебу. В самом деле, рассуждал я, после окончания института мне бы дали должность электромеханика на дистанции, потом бы достиг должности старшего электромеханика, оклад которого одинаков с моим главбуховским. Значит, в деньгах я не проигрываю. Добиваться должности выше старшего электромеханика с моим характером и моими способностями я вряд ли сумел бы.
За время работы в дистанции связи я насмотрелся на работу электромехаников – незавидная должность: помехи, повреждения, беспокойство и днем, и ночью; недаром на квартире у каждого из них стоял телефон, который будит тебя ночью и гонит искать неисправность. Конечно, не мед и главному бухгалтеру, и голова частенько болит от разного, но что скрывать – жить спокойнее.
После организации Управления в Гомеле, размещенного в бывшей женской гимназии, наша дистанция была расформирована на две: 9-ая при Управлении и наша 1-ая на станции Гомель-хозяйственный. Контора ШЧ-1 помещалась в кирпичном домике между путями около восстановительного поезда.
Вскоре ШЧ Сурков уехал куда-то на Волгу на свою родину. На короткое время появился Милковский Роман, которого сменил Сырченко Митрофан Яковлевич, он тоже недолго пробыл на дистанции – убыл в Москву. Я уже порядком привык к частой смене начальников, и появление очередного нового ШЧ Жарина Дмитрия Ефимовича меня не особенно обеспокоило. Старался работать честно, заменять меня не было причин, и я продолжал сочинять приемосдаточные акты при смене руководства. Конечно, нужно было приноравливаться к нраву нового ШЧ – характеры у всех разные, но мне это пока удавалось.
Жарин Д.Е. – высокий, худощавый мужчина с карими глазами, нервный. Любил выпить и, выпивши, не терпел возражений. С ним мы сработались, конечно, в рамках дозволенного законом. Мне он верил и к моим сигналам как главбуха прислушивался.
После поселения в новой квартире в Гомеле мои поездки в Сновск стали редкими. Ездили с Шурой и Верой, и нас принимали уже как гостей. Не менее гостеприимно принимала нас и моя тетка Лукашевич Елизавета Карловна. Давнишняя отчужденность между семьей Гавриловых и родственникам отца моего Мороза забылась.
Мы так рады были своему отдельному гнездышку, которое моя Шура стала заботливо обставлять мебелью и безделушками. На подоконниках (благо, они были широкими) она наставила горшков с цветами (цветы – ее страсть), а на полу поставила огромный не то фикус, не то пальму. На стены навешала фотоснимки. Но главное, что одни. Первое полугодие 1937 года было одним из самых счастливых времен в нашей супружеской жизни. Поженились мы не молоденькие – Шура в 26 лет, а я в 30, а к этому времени нам уже двоим было за тридцать. Так что мы, как говорится, нагоняли упущенное. В дни получения зарплаты мы распивали с Шурой четвертушку водки и были довольны жизнью, хотя, конечно, полного довольства не было – кое-чего еще не хватало вдоволь.
Теща Февронья Федотовна жила у дочери Веры в Удмуртии. У меня есть запись, что ей 27 марта 1937 года 3-м отделением милиции выдан паспорт ГАК631814 сроком до 27 марта 1944 года, и год ее рождения 1883. Мы с Шурой бывали у Веры Тимошенко (сестры) в Можге.
В 1936, а особенно в 1937 году, творилось что-то необъяснимое. Процессы над еще недавно видными деятелями правительства, над военачальниками и прочими «врагами народа» создавали, конечно, беспокойство и страх среди простых смертных. В книгах вычеркивались фамилии известных гражданских и военных лиц. В 1937 году, проснувшись утром, узнавали, что кого-то из знакомых или сослуживцев ночью «забрали». Все делалось в секрете от общественности, человеку пришивали ярлык «враг народа», и этому нужно было верить, не вдаваясь в суть дела. Немало было семей, которых коснулось это непонятное дело, далеко не созвучное Ленинским принципам и заветам.
Не обошло оно стороной и нашу семью. В одну из поездок в Сновск я узнал неприятную новость – арестована и сослана сестра Анна, оставив бабушке внучка Юру. За что – толком не объяснили, да они и не знали. Над отчимом нависла угроза исключения из партии, братьев – из комсомола. Уже много лет спустя брат Иван рассказал мне, что в это время, будучи в Унечи, он получил зуботычины за то, что мать народила ему такую неудачливую сестру. И уже в 1951 году брат Иван писал мне:
«В 1937 я за Анну пострадал здорово, что и сейчас еще ощущаю, нет 14-ти зубов, сильно развита нервозность, потеря общего состояния здоровья. Ведь ты много не знаешь…».
Меня миновала сия чаша, хотя в анкетах я писал правду, что сестра Гаврилова Анна сослана. Может быть от того, что фамилии разные, и жили в разных городах – не знаю, но меня не тронули.
Лишь двадцать лет спустя на XXI–XXII съездах партии, когда не стало Сталина, и начали реабилитировать с оплатой двухмесячного оклада невинно пострадавших людей, прояснилась «деятельность» всевозможных Ежовых, Берия и прочих деятелей времен культа Сталина.
Когда в 1939 году сестра Анна вернулась домой, причем, к большому удивлению, не одна, а с сыночком Шурой на руках, то рассказала, что, работая до ссылки учительницей в селе Кучиновка, они с учителями однажды собрались на вечеринку, выпили. Желая блеснуть своими актерскими способностями, сестра рассказала какой-то анекдот. Нашлась «добрая душа» – доложила, куда следует, а немного позже Анну повезли в далекий сибирский край.
Из ее документов я узнал, что она осуждена была по статье 54-1 УК по приговору от 2 июня 1937 года сроком на два года и освобождена из Бургинского железнодорожного исправительно-трудового лагеря НКВД (Бурлаг) при станции Известковая 2 октября 1939 года. В лагере она сошлась с каким-то репрессированным доктором… И приехала домой со вторым сыном Шурой (Николаевичем). С доктором, который еще не отбыл срок, она сначала переписывалась, он ей обещал совместную жизнь после отбытия ссылки. Потом переписка прекратилась, и сестра осталась матерью-одиночкой.
После переезда семьи в Гомель быстро пролетели весна и лето. Шура с Верочкой копались в грядках неподалеку от дома за канавой. Однажды (по секрету) Шура объявила, что ждет ребенка.
Из Ижевска приехала ее мать, моя теща Февронья Федотовна. В один из январских дней Шура почувствовала резкие боли. Потихоньку мы двигались по Советской улице, подошли к детскому парку… Вот уже и узловая железнодорожная больница. В приемной ее сразу же оформили в родильное отделение. И вот настал день, когда при посещении больницы мне объявили: 25 января 1938 года родился сын, состояние матери хорошее. Через несколько дней Шура с ребеночком были дома. Назвали сына Борисом – так пожелала Шура.

