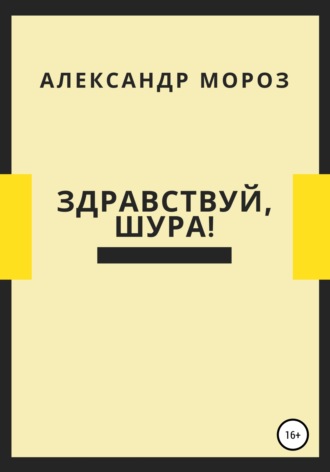 полная версия
полная версияЗдравствуй, Шура!
11 июня 1932 года в родильном отделении приемного покоя около вокзала Сновска родилась наша дочь Вера.
Я листаю свое «личное дело» с подшитыми документами с 1924 года до 1932 года, а то и просто вспоминаю некоторые детали и события тех лет. Вот анкета при поступлении на работу в 1924 году (после армии). В графе национальность я написал «украинец». А ведь мой отец Мороз из Минской губернии был явный белорус. Мне объяснили, что я могу причислять себя к той нации, к которой у меня имеется духовное тяготение. И я, после размышлений, пришел к такому выводу: отца своего, белоруса, я не помню, на его родине не был, сам родился в Сновске на Украине, мать – украинка, отчим – украинец, а значит и я украинец.
Членом Союза железнодорожников я стал еще в 1920 году. Когда вернулся из армии, меня, естественно, нагрузили всякой всячиной. Вот передо мной членские билеты за 1925–1926 годы общества «Долой неграмотность», общества МОПР (Международная организация помощи борцам революции), а за 1927–1928 годы не только член обществ «Друзья детей», «Радио», «Осоавиахим» (общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству), но и сборщик членских взносов этих обществ. Взносы эти я сдавал уважаемой билетной кассирше станции Сновская – Бовдзей Марии Васильевне. А удостоверения и мандаты 1925 года и других годов напоминают, что я бывал делегатом от Союза железнодорожников на разные районные конференции. Короче говоря, я был не совсем пассивным членом Союза.
Не могу без улыбки смотреть на листок «Учет посещаемости собраний за 1925 год». Вот какое каверзное дело было мне поручено. Но зато этот листок напоминает мне теперь о тех, с кем я работал в 1925 году. Это Горбач С.Я., Барановский В.Ф., Шапетко В.Ф., Утыро В.А., Фадеева А.К., Сенчура Е.В., Ярошевич Е.Ф., Кондратович В.С., Николаенко Н.М., Стадниченко И.И., Жуковский П.П., Плющ Е.Ф., Булденко А.И., Родзевич П.И., Савицкий, Свирская Ф., Ковальков А.А., Глущенко П.В., Станкевич В.И., Борейша П.Л., Животовский И.Н., Овсянников. Большинство из них я помню, некоторых – очень смутно, а таких, как Савицкий, Животовский, Овсянников – никак не могу себе представить.
Некоторые из них запомнились как любители выпить или, как тогда говорили, «помочить гриб». Организовывали после работы поход в ближайший кабачок и домой приходили не вполне уверенной походкой. Я не был завсегдатаем этой компании, особого стремления к пьянству у меня не наблюдалось, но один случай мне запомнился.
После работы собралась компания: пожилые уже Шапетко и Барановский – оба Василии Федоровичи, Утыро, длинноносый Петро Жуковский (женатый на сестре Оли Пузач), молчаливый Сенчура, еще кто-то… Взяли и меня. Прошли ворота около приемного покоя и товарной конторы и очутились в кабачке. Я выпил два стакана водки, почти не закусывая… Проснулся я между штабелей досок. Высоко в небе мигали звездочки. Выбравшись из своего убежища, я определил, что нахожусь на территории строящегося железнодорожного клуба. Как я сюда попал – не помню. Пожалуй, это был первый случай в моей жизни алкогольного опьянения с потерей памяти. Случай, когда тебе рассказывают о твоем поведении, а ты только слушаешь, раскрыв рот, и не веришь, что было такое с тобой.
Однако вернусь опять к списку «посещающих собрания», вспомню тех, с кем мне приходилось служить, а с некоторыми и дружить.
Вот «богомольная» Стефанида Яковлевна Горбач – не только сослуживица, но и член нашей дружной четверки, состоявшей из Оли Пузач, Шуры Тимошенко, Стефаниды Горбач и меня.
Барановский Василий Федорович – приходо-расходчик еще при кладовщике Сирота Кузьме Ивановиче, который до ухода моего в армию был моим начальником.
Утыро Витольд Адамович – спокойный старый холостяк (женился он много спустя на Федорович). С его братом Юзиком (впоследствии начальником почтового отделения) я в 1915–1916 годах работал на пути. Витольд Адамович занимал должность кадровика. Впоследствии он стал членом партии, и фотопортреты его красовались в скверах Сновска (Щорса).
Шапетко Василий Федорович запомнился как заядлый выпивоха.
Фадеева Шура – скромная чернявая девица со Старопочтовой улицы.
Стадниченко Иван Иванович – конторский «Царь и Бог». Женат на одной из дочерей Чиля.
Ярошевич Елена Фелициановна – уже пожилая женщина из рода Чилей. Пристроил ее Иван Иванович по родственной линии. Она вела журнал входящих и исходящих звонков. У нее дочь Женя Соколова.
Кондратович Виктория Станиславовна – девица весьма мною уважаемая, и Плющ Ефросинья Федоровна – тоже девица, но менее уважаемая мной (на что были причины).
Станкевич – старый холостяк, короткое время занимал пост начальника участка пути после Мартынова. Был большой мастер по ругани.
Счетовод по зарплате Жуковский Петр – худой чернявый хороший работник, не дурак выпить.
Родзевич Павел Иосифович – «Пуся», как его звали товарищи, Глущенко, Ковальков – это все птенцы Гомельского среднетехнического училища.
Свирская – уборщица, рыжеватая особа.
Борейша – упитанный, блондинистый, коротконогий. Его назначили как политработника при начальнике участка.
Булденко Анастасия (Туся) – скромная, симпатичная девушка с характерным носом-картошкой, к которой, несмотря на ее нос, я относился не совсем безразлично. У ее отца – сторожа депо, был дом чуть ли не самый большой в Сновске. После революции дом перешел в ведение Горсовета.
Вспоминаются и другие, которые были, вероятно, позже, и их нет в списке.
На смену начальника участка Станкевича прислали нового – Зюбко Михаила Кирилловича, старого инженера путей сообщения. Невысокого роста, с плешью, он был глуховат. При разговоре всегда приставлял ладонь к уху. Отношение к новой советской власти было у него лояльное. Правда, иногда любил пустить «шпильку» в адрес этой новой власти, но служил честно.
Помощником у него был инженер путей сообщения Лихушин Павел Петрович, очень симпатичный молодой человек.
Еще вспоминается техник участка – контуженный летчик (фамилии не помню), человек со странностями, над которыми беззастенчиво измывались, считая его ненормальным.
Запомнился старший дорожный мастер Хоща Владимир Григорьевич – крупный мужчина с выпуклыми рачьими глазами и с багровым лицом. Был неуклюж, грубоват. Жил он с женой, семья была бездетная. Я ему простил многие его недостатки, когда однажды в теплый предвечерний час услышал его игру на баяне. Вначале я даже глазам не поверил, что эту прекрасную мелодию из какой-то оперетты исполняет толстый, краснолицый Хоща. Он сидел на крыльце и музицировал. Да, я тогда простил ему его непривлекательную красную физиономию, толщину и проникся уважением к его таланту музыканта.
Я любил делать дальние походы. Помню, зашли в лес, что в нескольких километрах от Сновска в сторону Корюковки. Там, в лесу, недалеко от реки Турьи – притока реки Сновь, я так увлекся сбором ягод, что потерял свою новую форменную фуражку. Не редко в моих походах сопутствовал мне брат Иван. Помню, однажды мы с ним сели на товарный поезд и поехали до станции Низковка. С Низковки 20 километров шли пешком до Сновска. Пришли усталые и объяснили дома, что «прогулялись» от Низковки до Сновска.
Было у меня намерение побывать в Корюковке, где был сахарный завод. Мало того, был даже провизионный билет до Корюковки, и как это ни странно, это была единственная станция участка пути, где я ни разу не побывал.
Все отпускное время у меня уходило на разъезды по Советскому Союзу. И вот, когда (возможно, что в 1928 году) вернулся в Сновск из дальней поездки, то узнал новость: Стадниченко И.И. и его соучастники были судимы за взятки. Процесс был для Сновска показательным. Многое, ранее непонятное мне, стало ясным… Например, его постоянное заигрывание с подчиненными, приглашение их к себе домой в гости, предложение им мне ботинок, которые, при острой нужде в них, из гордости я отказывался взять и точно не помню, взял ли я их под нажимом матери или не выдержал напора Стадниченко. Были и еще кое-какие мелкие случаи его повышенного внимания ко мне, что я приписывал его доброму, отзывчивому характеру – теперь, после суда, оказалось маневром, дешевым способом хитрого хохла завоевать себе авторитет доброго дяди и чуткого начальника. Стало также понятно его подобострастное заигрывание с госконтролером Михеевым, который часто брюзжал, не соглашался с чем-то, но в конце концов ставившим свой штамп-факсимиле на расценочных ведомостях. Понятно стало, почему Иван Иванович так цепко держал в своих руках положение с расценками работ, присвоив себе чисто технические функции, и пользовался параграфами этих расценок далеко не бескорыстно.
В конце двадцатых – начале тридцатых годов сестра Аня была замужем, жила в Унечи, где в железнодорожной стрелковой охране служил ее муж Петр Макеев. Неудачно сложилась судьба Ани: жили они с мужем неважно, обвиняли друг друга в изменах, а потом разошлись. У Ани остался сынок. Было у сестры стремление к театру, и она впоследствии на клубной сцене немало сыграла ролей. На некоторых спектаклях с ее участием бывал и я. Играла она недурно. И игра ее заметно выделялась по сравнению с остальными. Она играла, а не бездушно повторяла реплики суфлера, как это делало большинство любителей.
Братья учились: Иван в Гомельском железнодорожном техническом училище, а остальные в ФЗО в Сновске или в средней школе.
Годичное мое пребывание в Москве не прошло для меня бесследно. У меня появился интерес к знаниям, стали возникать какие-то смутные желания чему-то научиться, как-то интереснее устроить свою жизнь. Сновск, конечно, мало мог дать в смысле развития, но в печати все чаще появлялись сообщения и призывы поступить на учебу в заочные учебные заведения. Прельщали такие заманчивые слова, как «техник», «инженер», «электричество». После размышлений я пришел к выводу, что наиболее перспективная и передовая отрасль науки – это электричество. Пришлось оставить незаконченными свои заочные занятия по стенографии, на которые я немало времени убил, хотя желаемых результатов в скорости письма и не добился. Свое бренчание на мандолине тоже пришлось оставить: короткие, негибкие, немузыкальные пальцы, кое-как выводившие «Не брани меня, родная», не способны были создать хорошую музыку.
И вот я послал заявление в Москву на заочные профтехнические курсы НКПС (впоследствии – заочный институт). В дополнение к основной работе в конторе пути, к общественным нагрузкам, к ухаживаниям и прочему, я получил серьезную нагрузку – заочную учебу. В начале, как водится, идет интенсивная работа по выполнению контрольных материалов. Получаю их обратно с хорошими оценками. Не без гордости хвалюсь своими успехами перед конторскими. Новый начальник участка Зюбко Михаил Кириллович не без иронии замечает: «Мой будущий коллега». Меня смущает «панибратство» начальника. У меня в памяти свежо воспоминание об отношении к простому люду того же Мартынова, единственного тогда в Сновске инженера путей сообщения. Уж он бы, наверно, «не снизошел» до такого обращения с подчиненными. Вот, что значит революция! Впрочем, Зюбко был неплохой человек, хотя на первых парах знакомства с ним по службе я считал его «буржуем».
Заочная учеба отнимала много времени. После работы я садился в своей комнате и готовил контрольные задания. Правда, очень часто приходил к нам Ваня Горобцов. Если он приходил до моего возвращения из конторы, то молча сидел где-нибудь, никому не мешая. После моего прихода он присаживался около меня и сидел, частенько не произнося ни слова, допоздна. Иногда я, уже порядком уставший от занятий, говорил ему: «Ну, Ваня, я ложусь спать». Он нехотя и не спеша поднимался и шел к себе домой на Старопочтовую улицу. Да, странный человек был этот Ваня! Быть может он просто искал дружеского участия? К моему стыду я мало уделял ему внимания. Жил он в семье поездного машиниста Горобцова, имевшего объемистый собственный дом на Старопочтовой улице рядом с домом Аникеенко, в котором раньше мы снимали квартиру. Мать его, Горобцова Анна Владимировна, была учительницей. Она прославилась тем, что в свое время подготовила к поступлению в железнодорожное училище легендарного Н.А. Щорса. Кроме Вани в семье была еще дочь.
На редкость молчаливый, худощавый, высокий Ваня был старым холостяком. Я тоже был уже не первой молодости, и, возможно, это обстоятельство и тянуло его ко мне в противоположный конец города для того, чтобы, просидев безмолвно несколько часов, шагать к себе домой. Почему-то он нигде не работал, из редких разговоров я узнал, что он служил на флоте матросом. Как-то не вязалось его поведение, наружность и неповоротливость с понятием о матросской удали и ловкости.
Недалеко от нашего дома проживала семья Луцик. Были там дочки, устраивались вечеринки. И вот, Ваня стал захаживать к ним. Приглянулась ему Аня Луцик. Но и там он вел себя не лучше, чем у меня. Девушки смеялись над ним, оставляли его часто один на один со старухой-матерью, а сами уходили. Об этом докладывала мне Шура, дружившая с Аней Луцик. Так он, бедняга, и не женился. Предмет его воздыханий – Аня, вышла замуж за кузнеца из путейных мастерских Терещенко.
Примерно в конце 20-х годов мне в руки попала книга Мюллера «Моя система». Этот немец рекомендовал систематически заниматься физкультурными упражнениями. Я стал ежедневно по пять минут делать эти упражнения и почти беспрерывно всю жизнь их совершаю. А вот по части курения я оплошал. Если в Красной Армии я не курил, то после женитьбы дымил, как паровоз.
Листая свое «дело», я вижу любопытный документ «Наказ секретарям ячеек ОСО», и внизу дата 27/X 1931 год. Председатель базы ОСО Пахолкин и секретарь Мороз А.А. В наказе, как водится, перечисление недостатков и семь пунктов наказа, как их изжить.
Эта бумажка напомнила мне автора наказа – председателя базы Пахолкина, высокого, худощавого блондина, деятельность которого изобиловала сочинением подобных бумаг, громоздких планов работы, которые я, как секретарь, должен был размножать и раздавать ячейкам. Писанины было много, и она порядком мешала моей заочной учебе. Была на базе женщина, кажется, Яблонская, немного хромавшая, которая тоже была каким-то начальством надо мною и поддерживала Пахолкина, когда тот меня «распекал» за некоторые оплошности.
Время от времени из Гомеля наезжал к нам партработник – инструктор ОСО, от которого попадало и самому Пахолкину. Это был человек среднего роста, коренастый, с «рябинками» на лице, в полувоенной форме, Ромбаев Евгений Иванович, впоследствии после Великой Отечественной войны прославившийся как партизан и как один из авторов книги " Криничка".Позднее, при встрече с ним в Гомеле, я не решался завести разговор о его наездах в Сновск в 30-е годы, да и он меня не запомнил, конечно…
После первого года заочного обучения я должен был отбыть практику.
В конце 20-х и в начале 30-х годов мода на «реорганизацию» еще продолжалась, и линейная контора обслуживала, кроме службы пути, еще несколько служб, в том числе связь и телеграф. Сновский дорожный мастер Александр Александрович Зубаков, волею судьбы назначенный начальником этого объединения, разрешил мне отбывать практику на подведомственном ему участке. И вот я по утрам еду товарным поездом до станции Камка, а иногда и дальше на три километра, где на «метлахе» (так назывался подъем на участке Камка – Городня) соскакиваю на ходу с поезда. Там располагалась палатка ремонтной колонны связистов. Руководил колонной электромеханик Васильченко – большой любитель выпить. В колонне он был почти гостем – всем руководил старший рабочий. Да и рабочие были достаточно квалифицированные, не особенно нуждались в начальстве. Из состава колонны запомнился кучерявый Куценко – тоже не дурак выпить, бабник. Впоследствии он стал сватом моих родителей, после женитьбы моего брата Петра на его дочери.
Практика моя ограничивалась тем, что я на участке Камка – Городня немало очистил изоляторов от копоти и грязи и научился славно лазить по столбам на когтях-серпах, а потом и на шведских. Лазание по столбам заставило меня подумать над тем, как облегчить этот процесс. И я придумал особое приспособление – подножку из проволоки, позволяющую лучше взбираться с когтями на рельсовые опоры, державшие столб. Одновременно это приспособление было удобно для переноски запасных изоляторов и прочего инвентаря.
В те годы была в ходу так называемая картотека СОТ (социальный обмен трудовым опытом). Это были небольшие листки календарного формата, на которых типографским способом печаталось описание принятого изобретения или предложения, и рассылались эти карточки по участкам для внедрения. Мое предложение было принято, внесено в СОТ, и образец был изготовлен в мастерских. Но широкого применения оно не получило.
В палатке я ночевал редко, старался ежедневно попасть домой, что было нелегко.
Позднее я ездил на практику на участок Хальч – Жлобин. Там также чистил изоляторы. Иногда около Хальча в лесу собирал подосиновики. Домой ездил пореже. Потом писал отчет о практике, который Васильченко утвердил беспрекословно, почти не читая.
Помнится еще один случай практического применения моих монтерских навыков. Электромонтер Сновской железнодорожной электростанции Александр Горбач проводил свет на улице Парижской Коммуны. И вот, он предложил мне ввинтить крюк с изолятором на столбе. Я полез на серпах, укрепился ремнями, и началась мука. Боязнь, что свалюсь, а тут еще проклятый крюк не идет, пот с меня градом, а внизу ехидно посмеиваются. Кое-как завинтил крюк (потом его Горбач перевинтил), и я под веселый гогот монтера спустился вниз, где уже стояла кучка зевак – свидетелей моего позора. «Что? В конторе легче?», – издевался Горбач.
И уже гораздо позже меня направили на практику в Днепропетровск. Там я неделю или более жил в компании заочников с разных мест самого разного возраста и развития.
А какой конфуз получился, когда в зале, заставленном электрическими приборами, меня попросили включить динамо-машину и запустить мотор. Все мои теоретические знания как ветром выдуло из головы, и я беспомощно стоял около агрегата и только с помощью руководителя все же запустил его.
В доме тещи, где я после свадьбы поселился на правах «примака», я прожил недолго. Дом этот, расположенный в начале Черниговской улицы, после смерти Мышастого, оставившего вдовой свою жену Февронью Федотовну (мою тещу) и сиротой свою дочь Таню, был объектом спорным. Свой небольшой домик напротив Лукашевичей теща моя продала. Этот новый дом был обширный, при доме вишневый сад, несколько яблонь, огород, самодельный колодец.
Теща моя, Февронья Федотовна, была женщина изворотливая, любила выпить. На Черниговской улице была женская компания, куда входила и она. Шура мне рассказывала, что ее мама еще раньше сидела в Городнянской тюрьме за самогоноварение.
Иногда приезжал на подводе из Тупичева высокий, худой, веселого нрава мужчина – муж сестры моей тещи. У них в Тупичево в тяжелые времена подолгу проживала моя Шура. Позже этот дядя Иван умер от голода. Остались вдовой его жена, сиротами сын и дочери Арина и Катя.
Сын тещи, Василий, учился в Москве в железнодорожном институте на факультете по планированию. Еще раньше, когда Василий жил дома, он очень любил хорошо одеваться, как говорится, пофорсить, и моя Шура, которая всегда в доме была главной работницей, старалась все ему выстирать, выгладить… «Никогда не забуду твоих забот и услуг и отблагодарю тебя», – говорил он Шуре. И уже позже Шура с горечью жаловалась мне, что это были пустые слова.
Вера – сестра Шуры, училась в Чернигове, но недолго. Помню, одно время вертелся около нее один молодой человек на правах жениха. Он ухаживал за Верой. Мы с Шурой посмеивались над его манерами: как кокетливая барышня, он не расставался с зеркалом, маникюрил ногти и прочее. Не знаю, чем у них все закончилось, но вскоре Вера со своей подругой Ниной Гринцевич в поисках лучшей доли уехали в Удмуртию в город Можгу.
Запомнился один забавный случай. Однажды Шура и я пошли в лес за грибами. В Казенном лесу грибов оказалось мало, а грибников много, и мы двинулись дальше – в лес около разъезда в сторону Низковки. Чтобы попасть в тот лес, нужно было пройти полем 1,5–2 километра. Когда мы подошли к лесу, то в кустах, немного в сторонке от дороги, наткнулись на почти неприкрытый пятипудовый мешок. Оказалось – мука. Что за мука? Почему в кустах? Решили, что краденая из колхоза. Время было голодное (мы с Толиком (брат Шуры) даже ворон тогда ели). Соблазн был настолько велик, что, презрев страх, Шура сняла нижнюю юбку, кое-как завязала концы и насыпала в нее несколько килограммов муки. Как мы мчались по кочковатому полю – трудно описать! Наверно, «быстрее лани», как сказал бы поэт. Ведь получилось, что вор у вора дубинку украл. И что бы было, если бы нас поймали вдали от Сновска? Ведь воры редко отличаются человеколюбием. В Казенном лесу вздохнули свободнее. Запыхавшись, прибежали домой. Теща одобрила нашу инициативу, и мы пожалели, что тара оказалась малоемкой.
В начале 1932 года в Сновске организовали 14 дистанцию сигнализации и связи (ДШ-14). Я попросился на эту вновь открытую дистанцию, мотивируя свою просьбу желанием быть ближе к тому делу, которому я учился на заочных курсах НКПС. Просьбу мою уважили и с 15 февраля 1932 года назначили заведующим конторой ДШ-14 на правах старшего бухгалтера. Первым моим начальником по дистанции связи был Павел Семенович Янкович. В штате были: счетовод Горбач Степан Яковлевич, техник дистанции Пуханов И.А., нормировщица Женя Соколова.
Основным качеством Янковича было то, что он редко бывал трезвым. А трезвый он был невесел и необщителен. Зато, будучи «под мухой» преображался, и ухватка у него тогда была Наполеоновская – он никого и ничего не боялся. Любил философствовать и читать лекции на любые темы. Был он чуть ниже среднего роста, щуплого телосложения, смазлив лицом, женат и, как утверждала молва, неравнодушен к женскому полу. О том, что он бабник, я убедился сам.
Помню такой случай. С бумагами я пришел к кабинету. Дверь была закрыта на ключ. Рассыльная сказала, что начальник в кабинете и «под мухой». Нужно было подписать что-то срочное, и я стал ждать. Наконец, дверь открывается, и на пороге… нормировщица Женя! За ней петушком Янкович. Женя с раскрасневшимся лицом, немного растерянная и смущенная, с виноватым видом прошла мимо. Да, как видно, слухи о его Дон-Жуанстве были не безосновательны. Не знаю, какие нормы они разрабатывали, во всяком случае, не моральные. Да и после я замечал подобные штучки, только Женя вела себя уже самоуверенно.
Вскоре Янкович был судим за уничтожение поголовья лошадей, мясо которых его жена возила на продажу в Гомель, и, по совокупности, за кражу лошадей и продажу телеграфных столбов и проволоки в Макошино ему дали, кажется, пять лет тюрьмы.
Будучи заведующим конторой, я частенько возил зарплату в колонну связи на разъезд Кузничи за 127 километров от станции Городня. Впрочем, это дело было мне не в новинку. Путейцем я тоже раньше подвозил деньги в сторону Низковки. Существовал такой неписанный порядок, что доверенный от коллектива получал деньги у узлового кассира Мисюто и раздавал по списку своим работникам.
Из окон нашей конторы мы видели эшелоны товарных зарешеченных вагонов. На север везли раскулаченных с семьями. Однажды завели разговор о том, что, дескать, не сладко вот так зимой ехать куда-то в неведомые края в закрытом товарном вагоне и смотреть на волю через маленькое окошко с решеткой. Через день-два меня вызвал к себе в кабинет в здание станции уполномоченный ГПУ (Государственное политическое управление) Катерли – худощавый черноволосый человек, судя по фамилии – грузин. Приоткрыв столик письменного стола и читая какую-то бумагу, он стал задавать мне вопросы: был ли в конторе разговор об эшелонах с кулаками. Я подтвердил, что да, был. Тогда он расспросил меня о моей семье. Я ответил, что женат, есть маленькая дочка.
– Так вот, если не хочешь попасть в места отдаленные, вроде Сибири и прочего, то чтобы в конторе таких разговоров не было.
Я, конечно, перепугался немало и пообещал. И об этом визите было приказано молчать. И уже много лет спустя, когда был развенчан культ Сталина, и я при встрече со своей старой сослуживицей Горбач С.Я. рассказал ей об этом эпизоде, то она мне призналась, что и ее тогда вызывал Катерли. По ее мнению, донос был состряпан Иваном Пухановым. А я подозревал, что это сделала уборщица-еврейка.
В дистанции проводились занятия по техминимуму. Основным лектором был сам начальник Янкович – читать лекции и вообще поучать он любил. Узнав, что я заочник, он привлек меня к этому делу. Лектор из меня, прямо скажем, был никудышный. Мало того, что не хватало ораторского опыта, не доставало еще и знаний. Но я все-таки читал им основы электротехники, пользуясь пособиями, присланными мне с заочных курсов. Старым телеграфистам, вроде Нагорного Онуфрия Борисовича, Дорошенко Ивана, Бояринова, Охременко, Будукевича и других, я старался внушить истины, которые они знали без меня и лучше меня. Вопросов мне тактично не задавали, по-моему, из нежелания поставить меня в неловкое положение.

