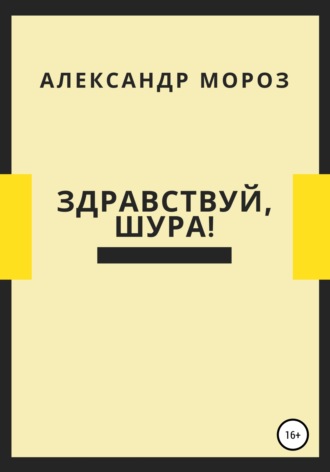 полная версия
полная версияЗдравствуй, Шура!
За 66-й параллелью проезжаем станцию Полярный круг. И лишь недалеко от станции Кандалакша мы опять видим водное пространство Кандалакшской губы, залива Белого моря. Видны небольшие горки с острыми зубцами скал, нависших над водой. За Кандалакшей прощаемся с Белым морем и вскоре подъезжаем к знаменитым Апатитам. Проехав Апатиты, мы почувствовали несовершенство еще необъезженной железной дороги. Вагоны то подпрыгивали, то качались из стороны в сторону. Помню, что на каком-то участке была проверка документов, ведь граница была близко. Кажется, я объяснил, что еду в Мурманск к брату и показал справку об отпуске, что удовлетворило пограничника.
Еще когда мы проехали станцию Полярный круг, я ожидал резкой перемены в ландшафте, но он оставался все тем же: леса, озера, реки, но только не тундра. И когда миновали Колу и подъехали к Мурманску, то к моему немалому изумлению этот город стоял в окружении высоких гор, покрытых зеленой растительностью, и на берегу широкого Кольского залива. По внешнему виду ну просто Ялта! Правда, было не жарко. И когда поддувал ветер с юга, то было прохладно, а ветерок с севера приятно согревал (влияние Гольфстрима).
Прибыл 18 августа, устроился в гостинице «Желрыба» Мурманской железной дороги. Первая ночь меня удивила тем, что, несмотря на глубокую ночь, было светло. Где-то на горизонте был виден диск солнца, которое почти не заходило. Но в самое темное время электричество все же включалось.
Днем я ознакомился с городом. Много было улиц, на которых не было домов, а лишь таблички с названиями будущих улиц. Самым большим было здание гостиницы «Желрыба». На рынке увидел оленей. Много китайцев. А из какой-то статистической таблицы я узнал, что в Мурманске живет более 20-ти национальностей.
Город расположен среди невысоких гор. На самом высоком уступе – городские постройки, ниже – железнодорожный вокзал, здание очень скромное, а еще ниже у спуска к Кольской губе – причалы на высоких столбах. В порту стояло несколько судов. Было вполне тепло, и я решил искупаться. Кольский залив – это почти Ледовитый океан, а как же, будучи вблизи океана, да не покупаться! Я пошел берегом на север от города, шел по мокрому песку, усеянному водорослями со множеством камней. В одном наиболее чистом месте разделся и зашел в воду, на глубине я немного поплавал и пошел одеваться. Подойдя к одежде, я был поражен: моя одежда чуть ли не плавала! Так я сделал еще одно открытие – это был прилив. Скоренько оделся, и когда глянул на обратный путь, то был удивлен немало: вся дорога, по какой я сюда шел, была под водой. Где-то вдалеке виднелась возвышенность, и я пошлепал к ней. В Мурманске приливы и отливы очень резко выражены. На Балтике и в Черном море я такого не наблюдал. Выбравшись на возвышенность, я пошел к городу, по дороге срывая чернику и бруснику. Ягоды здесь очень крупные, но сладости в них мало. От прилива весь ландшафт около порта изменился, вода скрыла все водоросли и камни, поднявшись на порядочную высоту.
Я вернулся из этой поездки обогащенный впечатлениями, и мой умственный багаж заметно возрос.
Вторично и опять по бесплатному билету я покатил в Мурманск в середине ноября 1930 года по удлиненному маршруту, т. е. с заездом в Москву. Меня подмывало посмотреть прямизну Николаевской железной дороги, которую построили по приказу Николая-I, проведшего на карте прямую линию между Москвой и Петербургом. Действительно, дорога была очень прямая, без особых подъемов и спусков. Правда, в районе станции Бологое поезд совершил большой круг, но это, видно, затея позднейших времен. И опять от Ленинграда до Мурманска по уже знакомому пути я еду не как новичок. Эта поездка, предпринятая в ноябре в надежде увидеть северное сияние, немного разочаровала: сияния я не увидел, но несколько дней прожил без дневного света при электроосвещении, так как день почти не отличался от ночи, и странным казался подъем ночью, тогда как по времени это было утро.
1928 год. ИюньНаконец-то сбывается моя давнишняя мечта – в-первые еду на Кавказ.
У меня на руках разовый билет от станции Сновская до Батуми через Ростов, Таганрог, Баку, Тифлис (тогда еще железной дороги по берегу Черного моря не было). С собой маленькая авоська.
Миновали Харьков, проехали по Донбассу. В Таганроге наш вагон отцепили на несколько часов, пассажирам была дана возможность походить по городу, связанному с памятью А.П. Чехова. Побывал в доме-музее Чехова. Дом большой, но какой-то неуютный. Постоял у памятника Петру I, покупался в Азовском мутном море. Вагон наш прицепили к поезду, и мы долго ехали по побережью Азовского моря. Потом Ростов-на-Дону, и начался Северный Кавказ: сначала равнина, затем горы. Станция Минеральные воды, в Хасавюрте недалеко от поезда увидел женщину в чадре. Пересекли реку Терек и вот Петровск-порт (Махачкала) и простор Каспия перед глазами. Долго ехали берегом Каспия то удаляясь, то приближаясь к нему. Миновали Дербент и приехали в Баку. Еще когда подъезжали, бросились в глаза нефтяные вышки, черные закопченные дома с плоскими крышами, издали похоже на недавний пожар. Запах нефти чувствуется и в вагоне. В Баку покупался в Каспии, покрытом пятнами нефти, и прокатился на первой в СССР электричке до станции Сабунчи. Видел афиши, из которых узнал, что вчера-позавчера здесь был А.М. Горький.
Дальше по Закавказской железной дороге через Алят, Казвин, пересекая в двух местах реку Куру, поезд подкатил к Тифлису. Беглое знакомство с городом. Опять афиши о пребывании тут накануне Горького. Оказывается, он ехал по тому же маршруту, что и я, но догнать я его не смог. Покупался в мутной Куре. Потом Хашури, Сурами с их тоннелями и дорогой, петляющей по обочине высоких гор. Едешь и видишь с одной стороны стену горы, с другой пропасть. Даже страшно! А поезд мчится, невзирая на повороты и подъемы. В вагоне проводники почти не понимают по-русски. Пассажиры почти все местные. Русской речи не слышно. Миновали перевал, едем по заболоченной местности, где дома стоят на сваях. Кахетия. Миновали реку Риони, тут где-то справа город Кутаиси. Вскоре открылась панорама Черного моря. Местами море совсем близко от железной дороги. Миновали Зеленый мыс с его знаменитым ботаническом садом, и вот – Батуми (Батум).
27 июня 1928 года за 40 копеек я обеспечил себе ночевку на сутки на койке общежития экскурсионного бюро и крепко заснул после длинного пути. Батум – городок небольшой. Запомнилась пальмовая аллея вдоль берега моря. Почему-то на берегу моря стоит особняком здание тюрьмы. Смотрю на горы, где-то недалеко турецкая граница. Купаюсь в Черном море. Особенно поразил меня наряд мужчин-аджарцев. На голову они накручивают длинный шарф, образуя целую копну на голове. Мужчины в большинстве красивы, белолицы, черноволосы, с правильными чертами лица, черными глазами.
Отправился в обратный путь. Снова болотистые места, дома на сваях, Хашури с его пропастями, и вот, Тифлис. Город расположен вдоль реки Куры по обе ее стороны. Брожу по городу. Купаюсь в Куре. Купил билет от Тифлиса до Владикавказа. Впереди увлекательная поездка по военно-грузинской дороге, воспетой поэтами, с ее замком Тамары, Дарьяльским ущельем, Тереком.
Вот подкатила автомашина открытого типа мест на 20. Мне выпало сидеть меж двух полнотелых дам, из которых одна, неимоверно тучная (пудов на десять), сразу же заняла половину моего места. Одет я был легко, но, сжатый горячими телами дам, вскоре вспотел. Да и солнышко поднялось высоко и припекало сверху. Пересекли Куру, и машина пошла по шоссе в долине реки Арагва. Часто путь преграждали дети. Черномазые, они, как чертенята, бежали за машиной, выпрашивая подачки у туристов. Проехали Пасанаури, поднимались к Крестовой горе, стало свежее, а когда достигли перевала, то и холодно, и я невольно, поеживаясь, стал прижиматься к телам своих спутниц. Машина петляла по склону горы, и дорогу, по которой только что ехали, мы через минуту видели уже внизу. И таких этажей я насчитал не менее десяти. Ох и страшно же было глянуть вниз на долину с самой верхней точки! Потом стало теплей, тучи рассеялись, и мы покатили дальше. Проехали скалу «Пронеси Господи», нависшую над дорогой, пили нарзан из колонок при дороге. Въехали в узкое, сумрачное ущелье реки Дарьял. Остановились около города Казбек с его снежной вершиной. Дальше ехали по Дарьяльскому ущелью. Вот как-то сразу оборвались горы, и в 20 километрах от Владикавказа мы едем по сравнительно ровной местности. Слева маячит Столовая гора, и вот, Владикавказ. Весь в пыли и грязи я бегу к Тереку и бросаюсь в воду. Меня моментально относит течением, и я с трудом выкарабкиваюсь на берег. Побродил немного по городу, который не произвел на меня большого впечатления. Низкие домики, ничего бросающегося в глаза.
Покупаю билет до Беслана и оттуда уже по своему железнодорожному билету продолжаю путь домой. Кавказ освоен! Потом Ростов, Донбасс, Харьков и, наконец, родной Сновск.
Ездил я и в Нижний Новгород, а вот даты не помню. Но было это до моей женитьбы и до переименования его в город Горький. Добрался до Москвы, побегал по знакомым местам и около 24 часов выехал из города. Всю ночь проспал и утром вышел на станции Купавино. На катере добрался до Нижнего Новгорода. Долго стоял на высоком месте, откуда любовался широтой волжских просторов, Волгой, впадающей в нее рекой Окой, не менее широкой, чем Волга. Купался. Потом ходил около стен Кремля. Ночью я выехал, так и не прожив одного полного дня в Нижнем Новгороде. Туда и обратно ехал ночью, спал и о дороге между Москвой и Нижним не имею представления.
После возвращения из армии в 1924 году я уже твердо утвердился в штатных должностях старшего счетовода, а потом бухгалтера. Уже построили новый клуб около северного переезда, и все свидания, вместо церкви и старого клуба, назначались теперь здесь.
Вскоре Оля Пузач, дружившая с Шурой Тимошенко, опять познакомила меня с ней. При этом вторичном знакомстве мы вспомнили о первом, так неудачно оконченном. И это второе знакомство пошло по пути прогресса. Я стал более внимателен к Шуре, а она более терпима к моим недостаткам.
По вечерам, после работы, молодежь собиралась около клуба. Ходили вокруг, кто умел танцевать – танцевали. Ни я, ни Шура танцевать не умели. Я уже стал замечать, что Шура ничуть не избегает встреч со мною, а скорее ищет их. Да и меня стало как-то незаметно тянуть на эти встречи. Частенько, встретив Шуру у клуба, я шел с ней к их старому дому на Черниговской. В саду целовались. Сидели допоздна, пока сердитый голос матери на разгонял нас.
Раз, возвращаясь поздно домой, я попал в какую-то яму вблизи вокзала. К дому подходил не так прытко, как до ямы, и несколько дней болел живот, которым я ударился о кирпичную кладку в яме.
О женитьбе я боялся думать. Этот вопрос волновал меня, но на людях я старался показать, что об этом пока не думаю, и вообще жениться не собираюсь. На самом же деле этот вопрос меня мучил. Как и многие мои сверстники я волочился за девушками и даже, да простит меня Аллах, за замужними женщинами.
Ну что ж, начну с того, как я встречался с объектом моих первых увлечений – Раей Ботиной. После моего ухода в армию в 1920 году Рая, после несостоявшегося предложения Соколовым, вышла замуж за Юльяна Круковского. Ко времени встречи у нее уже была дочь. Иногда на свидание она выходила с ней, и я носил ее дочку на руках. Если до армии я не давал воли руками и не целовался с Раей, то теперь обращался с нею вольнее. Бродили по темным улицам Сновска. Целовались, но ничего более не было. Постепенно встречи сокращались и вскоре совсем прекратились. Уже гораздо позже я узнал, что Юльян окончательно спился и был уволен.
Другим объектом, тоже замужней женщиной, была Лиза Ковалькова. Я был вхож в дом Ковальковых как старый друг Сани К. И, хотя Сани не было дома, я к ним заглядывал чаще, чем следовало. Если до армии Лиза никакого внимания на меня не обращала, то теперь ее отношение ко мне резко изменилось: при встрече со мной она бывала очень оживленной, и я чувствовал, что она ко мне неравнодушна. Муж ее, Федор Ильин, бывший подпоручик старой армии, был не красавец, но мужчина видный. Она же была старше меня, миловидной внешности. Детей у них не было. Обращался я с ней также, как с Раей, но дальше поцелуев дело не заходило. Конечно, это был каприз скучающей женщины, и с течением времени все заглохло.
Частенько заходила к Ковальковым их родственница Ксения Савченко – девица очень скромная, но какая-то бесцветная и вялая. Прогуливались, целовались.
В 1924 году я познакомился с Олей Пузач. Оля любила рисовать и рисовала недурно. Девица высокого роста, симпатичная, часто красневшая от самых пустяковых намеков – она мне определенно нравилась. И ее я потискивал и целовал. И даже слагал для нее стихи.
Вспоминаются встречи с Маргаритой Баглай – крупной девушкой, несколько рыжеватой и с веснушками, с которой вечером мы ходили к деревянному мосту через реку Сновь. А когда однажды мы стояли у калитки ее дома, мимо прошел ее отец, да так сердито посмотрел на нас, что Маргарита сразу стала прощаться со мной.
Еще вспоминается, как сидел на крыльце с Маней Севрут. И в Москву писал письма Тоне Якшиной.
Но, в общем-то, всех этих женщин я не обидел, хотя, возможно, некоторых из них и разочаровал, т. к. кое-кто явно был не прочь выйти за меня замуж. Но особенно настойчиво это проявляла Шура.
Она нигде не работала, жила у матери, вышедшей замуж за машиниста Мышастого Кузьму Федосовича, у которого была дочь Таня. Отчим любил выпить, и, конечно, жизнь Шуры в семье была не из лучших. Образование у нее было не ахти какое (она дошла до 4-го отделения железнодорожной школы). Уже будучи замужем, Шура рассказывала, как им было трудно в голодные послереволюционные годы и после смерти в 1920 году ее отца. Как она торговала в лотках на станции Сновская (где, впрочем, добывала средства к существованию и моя мать Фекла Филипповна), как на ней лежала вся домашняя работа, и что ей было не до учения. Потом Шура подалась на курсы сестер милосердия, руководил которыми врач Бродянский. Было у нее что-то неладное с сердцем, но приняли. Кажется, на курсах она познакомилась с моим будущим соперником Ермоленко Федором. Был он единственным сыном ветеринарного фельдшера и будущим наследником приличного дома недалеко от церкви в Сновске.
Если мои ухаживания ограничивались встречами с Шурой вне ее дома: в клубе, на улице и т. п., то Федя Ермоленко пошел по другому пути. У него были серьезные намерения, и Шуру он любил. И если я избегал встречи с родными Шуры, то мой соперник наоборот – всю свою энергию направил на обработку родителей. Особенно нажимал он на отчима, просиживая с ним у них дома часами и почти ежедневно бывая у них. Атаки на родителей дали результат – Шуре дома стало невмоготу. Она, бедняжка, льнула ко мне, а я не подавал никаких надежд на женитьбу.
Так тянулась эта неопределенность, пока Шура не устроилась при содействии предместкома Онуфриева в железнодорожную столовую. Она стала как-то материально оправдывать свое существование в семье, и нажим со стороны родителей ослаб. Но Ермоленко продолжал ходить к ним. Я уже ясно видел, что симпатии Шуры на моей стороне, и стал всерьез задумываться о женитьбе на ней. Зачастил ходить к окончанию смены и поджидал Шуру у столовой вместе с ее матерью, приходившей за помоями для свиньи.
Я уже прочно занимал должность бухгалтера с окладом 110 рублей. К тому времени Федора Е. перевели из Сновска в Бахмач. Но он продолжал при первой возможности приезжать в Сновск, чтобы встретиться с Шурой.
Помню, раз стояли мы около клуба: Оля Пузач, Петр Давыденко, Федор, Шура и я. Федя стал угрожать, что, де, у него есть большой нож, и пусть кое-кто поостережется. Это был намек в мой адрес. Кажется, мы это приняли за шутку. Федя любил похвастаться и показать себя. Однажды в клубе, где работала уборщицей мать Оли Пузач, он решил, как санработник, применить свою власть и в присутствии всех нас сделал «разнос» матери Оли, указав на дефекты в ее работе. И Оля, и ее мать чуть не сгорели со стыда!
Или, помню, стояли мы у входа в клуб. У Феди от расстройства потек нос, но он не растерялся, а двумя перстами схватил за нос и шлепнул на тротуар изрядную порцию прямо под ноги проходящей парочки. Все мы чуть не расхохотались, но Федя не смутился ничуть, видимо, для него это было естественно. Я давно страдал от хронического насморка и часто прибегал к носовому платку, но всегда, особенно в женском обществе, старался сделать это незаметно. Что может быть смешнее «сопливого» кавалера, а Федя показал, как одним махом можно избавиться от неприятности.
Был 1931 год. Я уже все чаще стал просиживать у дома Шуры чуть не до рассвета. Разговаривали мало, сидели, прижавшись друг к другу. И если раньше я лез, куда не надо, и ходил с пощипанными и поцарапанными Шурой руками, то теперь я даже как-то боялся прикасаться к ней. Говорили о женитьбе. Я высказал ей все свои сомнения. Разные были разговоры на довольно щекотливые темы. Я честно и серьезно высказал Шуре свои сомнения о моих мужских недостатках. Посоветовались. Я съездил в Гомель, и принимавший меня в поликлинике веселый врач-еврей, выслушав мои опасения, уверил меня, что никаких препятствий для женитьбы у меня нет.
– Употребляйте побольше яичек, – посоветовал он.
Вернувшись из Гомеля, я объявил Шуре результат поездки, и мы договорились о дальнейших шагах. И только тогда я впервые начал говорить ей «ты». Как это ни странно, но мы чуть ли не до свадьбы были друг с другом на «вы». С Федором Е. Шура была на «ты» уже давно.
Дома я, как некий большой секрет, не сразу объявил своей матери, что собираюсь жениться. Она с облегчением ахнула:
– Ну и слава Богу, сынок! А я думала, что у тебя беда какая, что ты такой смутный и не решаешься сказать.
Потом, помню, стоял перед Февроньей Федосовной – матерью Шуры, и что-то лепетал о том, что мы с Шурой решили расписаться.
– Ну что ж, расписывайтесь. Я не против – сказала она.
Начались приготовления к свадьбе.
1931 год был очень тяжелый. Но Шурина мать была женщина оборотистая, не всегда следовавшая букве закона, и организовала она неплохой по тем временам свадебный стол. И вот, 21 июня 1931 года мы в ЗАГСе г. Сновска. Мне 30 лет, Шуре 26. Сама запись прошла как-то ничем не примечательно. В те времена новые обряды бракосочетаний еще не привились, и от старых церковных мы отказались.
На свадебном вечере были наши родители, свидетели, близкие друзья, тетка Лукашевич, ее муж. Особенно уважаемыми гостями была чета Зайко – Василий Евсеевич с женой Валей (моей двоюродной сестрой). Эта семья была как бы образцом счастливой и дружной семейной жизни.
Потом мы вместе со свидетелями сфотографировались. К сожалению, портач-фотограф испортил снимок, и у нас не осталось памяти об этом немаловажном событии в жизни.
Вот разошлись гости, в доме воцарилась тишина. Мы лежим – Шура и я, опьяненные свадебным пиром и нашей любовью. Шутка сказать – я впервые в жизни лежу с полуобнаженной девушкой, так близко прижавшейся ко мне. Мне понятно и состояние Шуры – она должна расстаться со своим девичеством, стать женщиной, узнать что-то таинственное, новое…
Обняв ее, я делаю попытку, но она так жалобно просит: «Не надо, Саша, сегодня не надо, сделай это для меня, если любишь». В недоумении и с досадой спрашиваю: «Но почему?». «Я тебе потом объясню», – сказала Шура. Уступил ее просьбе. И только через два-три дня, когда свершилось то, что и должно было свершиться, она мне утром объяснила, что у нее были «женские дни».
С неделю мы оба чувствовали некоторое неудобство при хождении, ощущение чего-то непривычного, нарушенного. Шура, смеясь, рассказывала, что ее подруги по столовой во главе с многоопытной в этих делах заведующей Федорович по походке точно определили день нашего «грехопадения». Позже, после замужества, Шура мне признавалась, что как ни хороша платоническая любовь, на которую она была согласна перед замужеством, половая все же несравненно лучше.
В конце июля 1931 года я и Шура с чемоданом, набитым сухарями, по железнодорожному бесплатному билету отбыли из Сновска в свадебное путешествие в Ялту. Побродили по Севастополю и дальнейший путь продолжили на товарно-пассажирском пароходе. В то время железнодорожный билет был действителен и на водном транспорте. Плыли, любовались видами южного берега Крыма. Пароход сопровождали стаи дельфинов, а над ним с криком носились чайки. Дельфины резвились, подпрыгивали над водой перед самым носом парохода. Небольшое волнение покачивало наше судно. А перед самой Ялтой нас уже изрядно качало. Несколько голов свешивались за борт – тошнило и рвало. Мы, кажется, не оплошали, хотя и пережили несколько неприятных моментов, но марку выдержали.
В Ялте наняли место на веранде одного дома и по вечерам допоздна, лежа, слушали духовой оркестр, игравший на открытой эстраде. Были в Гурзуфе, в Никитском саду, прошли пешком до Алупки, оттуда прибыли катером в Ялту. Плыли мимо Ласточкиного гнезда и прочих известных мест побережья. В общем, облазили все близлежащие места. Шура оказалась туристом не вполне на 100 %, но я ей это простил. Ведь я по части пешего хождения был натренирован более, чем она. В Алупке Шура нарвала мешок лаврового листа, который рос в изобилии и никем не охранялся. 1 августа 1931 года нас сфотографировал какой-то халтурщик-фотограф. Он усадил нас под кустами и снял в какой-то неестественно напряженной позе. Этот снимок мы не всем показывали. Так провели мы свадебное путешествие и двинулись домой.
В моем архиве я нашел билет с компостером 8/8 1931 года. Билет на украинском языке: «Олександрiвск – Кичкас». И я вспомнил, как в этот день мы ехали в пригородном поезде к месту постройки Днепрогэса. Перед нами открылась грандиозная панорама уже вчерне готовой гидроплотины. Остров Хортица. Запорожье. Необузданный еще Днепр. Где по шоссе, где по кучам камней и песка добрались до плотины. Купили дешевого кисленького вина и распили в честь стройки. По-видимому, мы были сильно уставшие и голодные, потому что эта бутылка вина очень нас опьянила. Влезли мы в вагон дачного поезда сильно пьяненькие, но были довольны, ведь мы видели Днепрогэс!
Между прочим, где-то здесь находилась сестра Аркадия Мышастого – Шура Овчинникова, высокая девица уже в годах, которая, потеряв надежду найти свое счастье в родном Сновске, перебралась сюда на стройку Днепрогэса.
Вообще на эту стройку съехалось очень много народа. Людей нанимали отовсюду, привлекали высокими зарплатами, надбавками, возможностью обучаться в рабочих вечерних школах. Но тяжелые условия труда и быта выносили не все, и поэтому была огромная текучка.
После свадьбы я поселился в доме тещи. Нам выделили крайнюю угловую комнату с одним окном. По-прежнему ходили встречать Шуру у столовой и с помоями шли домой.
В интимной обстановке Шура любила похвалиться мне, как при очередном медосмотре все ее подруги восхищались и завидовали ее молочно-белому цвету кожи и прочим женским прелестям. Что правда, то правда – тело у Шуры было очень белое, и ее даже прозвали пшеничной. В те времена девушки еще боялись загара. Конечно, такая похвальба Шуры была мне приятна, и радовало сознание, что у меня такая жена. Как ни странно, но лицо у Шуры было не такое белое, как все тело, и она пудрилась до старости. «Чтоб нос не блестел», – оправдывалась она.
Были у Шуры кое-какие недостатки, которые я вначале не замечал, и на которые мне указали отчим и Аня. Был у Шуры дефект речи – она не всегда ясно произносила слова, говорила скороговоркой. Я переспрашивал, она сердилась. Расположение зрачков было не вполне симметричным. Дышала она ртом – что-то мешало ей дышать носом. Но я любил ее и не замечал всех этих отклонений от норм.
1931 год был тяжелый. С братом Шуры Анатолием мы в лесу ловили ворон. Толя лазил на сосны или сбивал гнезда. Жареные они кое-как сходили за дичь, но ели эту дичь только мы – охотники. Женская часть дома не ела.
В этот год умер в Гомельской больнице Мышастый (отчим Шуры), и начались неприятности из-за дома. Дочь Мышастого Таня претендовала на долю наследства. Ругались. Потом Таня вышла замуж, и ее муж Колпаков Григорий перешел к ней жить. Шуру и меня переселили из крайней комнаты в смежную, а они поселились в нашей. Гриша Колпаков был не то кочегаром, не то помощником машиниста, и возвращался из поездок в разное время. Если это случалось ночью, то мы, естественно, просыпались и слышали, как он мылся, ужинал. Потом они ложились спать, и через несколько минут ночную тишину нарушал скрип кровати.
Поздней осенью 1931 года мы с Шурой бродили по Казенному лесу в Сновске и вели разговор о будущем нашем наследнике или наследнице. И хотя Шура не ощущала никаких признаков беременности, она, как показал дальнейший ход событий, уже носила в себе ребенка. А месяца два-три спустя стала «по секрету» нашептывать мне, что у нее что-то шевелится внутри. Шура была очень стыдлива и всячески старалась скрыть свою беременность, стягивала живот так, что окружающие почти не замечали перемен.

