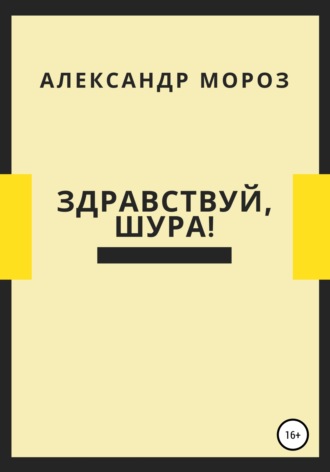 полная версия
полная версияЗдравствуй, Шура!
М.В. Фрунзе – среднего роста, коренастый, с прической «ёжиком». Одет просто – вид солдатский. Его продолжительная речь была более понятна, нежели речь Луначарского.
После Фрунзе, под гром аплодисментов, к трибуне подошел С.М. Буденный. Речь его была короткой, говорил он простыми словами, понятными большинству из аудитории.
После торжественной части был концерт и балет. Были исполнены фрагменты из «Лебединого озера» и «Спящей красавицы». Это был единственный случай посещения мной Большого театра за время пребывания в Москве в 1923–1924 годах.
В других крупных московских театрах я не был. Единственным и доступным культурным центром, знакомившим нас с искусством театра, являлся Введенский рабочий дворец. Во дворце преобладали выступления «Синей блузы». Молодые артисты в синих блузках гремели на эстраде, маршировали по сцене, показывали короткие интермедии, высмеивавшие буржуев и расхваливающие пролетариев. Иногда проводились постановки с участием хороших артистов, на которые не всегда удавалось попасть. Запомнился мне почему-то артист Топорков, игравший в пьесе «Ванечка». В моде тогда были пьесы: «Гений или беспутство», «Коварство и любовь». Но я театром тогда интересовался мало.
Кроме постановок, кино, лекций и диспутов бывали в Рабочем дворце многолюдные собрания, на которых выступали видные политические деятели. Помню выступление на болгарском языке известного болгарского революционера Василя Коларова (соратника Дмитрева).
А полк жил своей обычной жизнью с маршировками, политзанятиями, обедами, ужинами. Наша футбольная команда, в которой Сережа Трифонов пользовался большим почетом и славой лучшего игрока, вступала в борьбу с известными московскими командами на стадионе, организованном под боком наших казарм. Сережа пользовался успехом у женщин, но наибольшим, конечно, у жены начхоза Яковлева, который уже смирился с этим неизбежным злом. Да и как мог он, пожилой уже человек, противостоять двадцатилетнему Сереже в таком щекотливом деле как любовь. Уже у Ули появился ребеночек и Николай Заговалко почти не отрицал своего участия в этом событии… Стали часто появляться слухи о демобилизации, ведь мы служили, не зная никаких сроков службы, по принципу – служи, пока служится. Рассудительный и спокойный Трубицын даже называл примерные сроки демобилизации, и с ним соглашался молоденький, похожий на девицу, Вася Корж. Я также мечтал об этом дне – пошел четвертый год моей военножелезнодорожной службы.
Как-то мало запомнился мне комиссар полка Верженский Адам Иванович, хотя при нем я демобилизовался и при нем прошел весь московский, богатый впечатлениями, период моей жизни. Может быть от того, что мало приходилось с ним иметь контактов и сталкиваться.
В Москве у нас часто менялись комиссары полка. И один из них мне крепко запомнился. Это пьяница Михайлов. Его редко видели трезвым. Был он по виду из рабочих, но парторганизация, направившая его комиссаром воинской части, явно дала маху! Его на пушечный выстрел нельзя было допускать к благородному званию комиссара.
Однажды я дежурил по штабу. Вваливается пьяный Михайлов и заводит речь: «Вот ты грамотный, напиши такое письмо на фабрику, чтоб полку отпустили мануфактуры для того-то и того-то. Только пожалостливее, чтоб не отказали. Понял?», и уходит. Я рад, что он отвязался, но приказ есть приказ, он закон для подчиненного. И я принялся «сочинять» письмо. Не помню, насколько оно было «жалостливое и убедительное», но на следующий день, утром, я передал его Михайлову, сидевшему с похмелья в своем кабинете. Он тупо поглядел на меня, на бумагу, что-то, видимо, припоминая:
– Что у тебя?
– Написал письмо, как вчера приказали.
Взял письмо, повертел:
– Иди.
Я вышел.
Не знаю, письмо ли помогло или что-то другое, но рулон красной мануфактуры я видел попозже. Его передали делегаты с мануфактурной фабрики…
В один из дней в штабе полушепотом сообщали друг другу, что должны привезти генерала Слащёва, который выступит с лекцией на военную тему. Врангелевский генерал Слащёв, проливший много красноармейской крови в боях у Крыма и попавший в плен, теперь подвязался в роли лектора. Я пытался попасть в зал, где это должно было состояться, но мне не удалось. Присутствовать могли только лица комсостава. Помощник адъютанта Кучинский, вертевшийся около двери, мимо которой должен был пройти Слащёв, шепотом запретил мне идти в зал. Только издали я видел, как прошагал генерал и сопровождающие его лица. Вообще же Кучинский вел себя как-то подобострастно, будто преклоняясь перед пленным вражеским генералом.
Большое печальное событие, всколыхнувшее не только москвичей, но и всю страну, весь многомиллионный народ, произошло 21 января 1924 года. В Горках, под Москвой, скончался В.И. Ленин.
Помню январский понедельник. В нашей казарме уже с утра чувствовалась какая-то напряженность. Говорили мало, и тишина, царившая в казарме с утра и весь день, угнетала. Еще накануне приходили тревожные вести о тяжелом состоянии В.И. Ленина, и это отражалось на настроении москвичей. Не помню, кто и как часов в пять вечера объявил нам известие о кончине Ленина. Каждый по-своему воспринял это сообщение, но настроение у всех было подавленное. Как-то не хотелось верить, что вождь революции, в сущности, не старый еще человек, ушел из жизни…
Потом в морозный день 21 января 1924 года недалеко от Красной площади я увидел процессию – это несли гроб с телом Ленина с Павелецкого вокзала в Колонный зал дома Союзов. Когда открыт был доступ в Колонный зал, потянулась нескончаемая движущаяся очередь. Дни стояли морозные. На площади горели костры. Народ бесконечным потоком вливался в зал. Прибывали делегации со всего Советского Союза, люди приезжие и москвичи прощались с Вождем. Медленно проходили мимо гроба, утопающего в цветах, впиваясь взором в черты Вождя, знакомые большинству по портретам, а меньшинству – по личным встречам с Ильичем. Прошел мимо гроба и я.
Наступил день 27 января 1924 года. День, когда гроб с телом Ленина, сопровождаемый массой народа, был перенесен из Колонного зала дома Союзов в сооруженный уже деревянный мавзолей на Красной площади.
Еще накануне нам, красноармейцам, выдали новые валенки и шинели. Снабдили вазелином для смазывания щек и носов. Подъем протрубили рано утром. Часов в шесть утра нас накормили. Потом построили, и мы пошагали к центру. Подошли к Охотному ряду и остановились невдалеке от дома Союзов. Мороз -27 с ветром обжигал лицо. На площади в разных местах горели костры, и мы поочередно бегали к ним греться. Потом нашу часть расположили в проезде между Театральной площадью и углом здания Комиссариата финансов (впоследствии музея им. Ленина). Нас расставили шпалерами. Стояли долго. Бегали греться в здание Народного Комиссариата по иностранным делам (напротив Китайгородской стены). Помню, на этом доме была прикреплена доска: «Приемная М.И. Калинина».
И вот, со стороны Театральной площади показалась траурная процессия. Мы повернули головы налево. Сначала – масса венков, потом гроб. Гроб несли на руках. А вот кто нес, я не успел разглядеть. Ведь все внимание было приковано к гробу и лежащему в нем Ильичу. Хорошо запомнил прошедших Н.К. Крупскую, Калинина и, кажется, Рыкова. Многих людей я не видел в жизни и мог определить их только по сходству с портретами, на что требовалось время гораздо большее, нежели то, за которое они прошли мимо меня. И подсказать было некому, да и не это в тот момент было главное. А потом – колонны людей, делегации со всех уголков нашей огромной страны шли в безмолвии.
Я до сих пор считаю маленьким чудом, когда среди тысячной массы идущих я увидел представителя моего родного Сновска – Ивана Борисенко, и что самое неожиданное – он, Борисенко, среди стоявших шпалерами одинаково одетых красноармейцев узнал меня. Мы кивнули друг другу. Так приятно было хоть таким образом увидеть своих земляков – представителей Сновска, по которому я за три года порядком соскучился! И надо же было случиться такому стечению обстоятельств, что И.Борисенко шел именно по той стороне, где я стоял у края тротуара, и что он среди однородной массы красноармейцев узнал меня. Правда, еще когда я был в отпуске в Сновске, он меня видел в военной форме. Все же эта встреча была необычной и запомнилась надолго.
Время подошло к 16 часам. Орудийные залпы, всевозможные гудки и заводские, и паровозные в течение пяти минут звучали по Москве. Да и не только в Москве: во всех пунктах Советского Союза прозвучали они. На пять минут остановилось движение всех видов транспорта… Гроб с телом Ленина установили в мавзолее.
Уже много позже, когда Сталин был в ореоле своей славы, а не таким скромным, как в год смерти Ленина, я подумал, что я его, возможно, видел в числе несших гроб. Слишком много впечатлений было за те несколько минут, когда мимо нас прошла эта процессия. Просто физически невозможно было все разглядеть и осмыслить. Вообще же, меня интересовал вопрос, кого же из несших гроб я мог тогда видеть. Но напрасно я искал тогда в музеях печати фотоснимки (а они, конечно, были), мне так и не удалось посмотреть их. А жаль!
После траурных январских дней слухи о демобилизации все настойчивее беспокоили нас. Дело шло к весне, не за горами были первомайские праздники. Занятия во дворце шли успешно. Перед майскими днями нам выдали книжки по истории партии. Некоторые из совпартшкольцев, как, например, Цепке, Болдырев, стали кандидатами в члены партии…
После окончания школы нам выдали удостоверения. Мы сфотографировались, собрались, правда, не все. Фотокарточку я уже позже в Сновске получил по почте. Ее переслала мне Тоня Якшина. И хотя прошло немного времени после съемки, я уже не всех мог припомнить, и рассматривая теперь эту фотографию, пользуюсь расшифровкой на ее обороте. Вот в первом ряду слева направо сидит Карягин – заводской паренек, рядом с ним наш красноармеец Цепке Вася – один из лучших учеников, рядом с ним рабочий с завода Шишков, которому сидящая с ним рядом преподавательница школы С.Б. Жукова, учитывая его почтенный возраст и окладистую бороду, делала немало поблажек в учебе. Конечно же, С.Б. Жукова – симпатичная женщина средних лет, пользовалась большим уважением среди нас, ее учеников. Рядом с ней Болдырев – тоже из наших красноармейцев. А вот кто сидит между Болдыревым и рабочим завода Зуйковым, у меня не записано. Судя по одежке, это пожилой рабочий с одного из заводов. Во втором ряду слева стою я, рядом кто-то из наших, потом молодой заводской рабочий. С ним рядом в кепке – Антонова, живущая у Семеновской заставы. Справа от нее рослая деваха с Благуши – Захарова, подруга Тони Якшиной, правее от нее с писательской шевелюрой и с бородкой Дмитрий Иванович Попов – директор Рабочего дворца, всеми очень уважаемый человек, спокойный. В третьем ряду слева стоит Якшина Антонина, но о ней несколько теплых слов напишу ниже. Рядом с ней Ястребов Александр – один из моих друзей. Справа от него Курганова и еще правее Стреколин и Корольков – тоже наши красноармейцы, ничем не выдающиеся ученики совпартшколы.
Отдельно нужно сказать о Тоне Якшиной, о которой у меня сохранились самые наилучшие воспоминания. Девушка эта жила на Семеновской заставе. Работала машинисткой в ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) в центре, была достаточно скромна, развита и умна. Не красавица, но и не урод – красавиц в нашей группе не было. По общему мнению, Тоня была симпатичной девушкой, а по моему личному – лучшей из них.
После занятий во дворце мы компанией шли домой. Наши дороги до Измайловского вала совпадали, и я с удовольствием провожал Тоню и Захарову в компании с Цепке и другими, и изредка доводилось провожать ее до дома. Тоня была начитана, она, как и я, любила книги, стихи, а как позже я узнал, и сама кое-что сочиняла. Молодость, общность наших интересов постепенно сблизили нас, и знакомство перешло в дружбу. Короче говоря, я был немного влюблен в Тоню, и она это замечала. Особым успехом я не пользовался, но и отвергнут не был.
Поэтому, когда я демобилизовался, то заручился ее согласием: во-первых, прислать мне фотоснимок нашей группы, и во-вторых, отвечать на мои письма. И то, и другое ею было выполнено.
А уже после нескольких ответов на мои письма и получения мной группового снимка я послал Тоне свою фотокарточку и взамен получил ее. На обороте общей фотографии нашей группы Тоня написала такие лирические строки, которые как нельзя лучше характеризуют работу Рабочего дворца и нашу признательность ему за все доброе, что он нам дал. Вот эти стихи:
«Вот семь часов. Дворец открыт,Народ толпой в него спешит.Для всех найдется в нем уют,И знаний свет нам в нем дают.Там есть кружки, библиотека,Концерты, лекции, кино.Есть все для блага человекаИ для развития его.Дворец узнали мы недавно,Его успели полюбить,Теперь у нас одно желанье:Учителей благодарить!Москва, 18/VIII 1924 г.».Не знаю точно, кто автор этих строк, но у меня укрепилось мнение, что сочинила его Тоня.
Забегая немного вперед, я должен признаться, что переписывался я с Тоней порядочное время. Тоня на письма отвечала, но потом, когда я, войдя в «писательский раж», понес какую-то ахинею, сравнивая Тоню с Татьяной, а себя с Онегиным, то переписка наша пошла по линии затухания и прекратилась.
А еще позже я, будучи в Москве, назначил Тоне свидание на Семеновской заставе под часами. Мы встретились, я побывал у нее дома в темной квартире. Тоня заметно сдала, жаловалась на потерю зрения на 50 %. После встречи дружба эта угасла. С Тоней у меня была чистая дружба на чисто платонической основе, даже без единого поцелуя.
Перед майскими праздниками появился приказ о демобилизации. Многие начали разъезжаться по домам. Я решил майские дни отпраздновать в Москве. На столе после прихода почтальона уже оставалось много писем, адресаты которых укатили кто домой, кто в неизвестном направлении. Одно письмо, валявшееся долгое время, заинтересовало меня своими штампами. Штампы были не русские, а, как мы расшифровали, американские. В письмо, написанное малограмотным человеком с обилием всяческих поклонов, был вложен истрепанный американский доллар. Позже, уже в Сновске, я этот доллар обменял в «Торгсине» на наши деньги. Я даже удивился, как его приняли – до того он был истрепан…
День 1 мая 1924 года был дождливый. Я сидел на крыше дворца и пускал ракеты. Одну из них «сэкономил» и привез в Сновск.
Когда в воскресенье около «цыганского берега» на Снови конторские во главе с И.И. Стадниченко причалили лодки к берегу, выбрав это место для маевки, я из-за кустов хотел сделать сюрприз и неожиданно пустить ракету. Но эффекта не получилось: ракета, видно, была подмочена, и, пущенная не из ракетницы, рванула в бок и обожгла мне щеку. Вся компания собралась около меня в недоумении. Я, конечно, объяснил причину.
Сразу же после майских праздников 1924 года я распрощался с Москвой, прожив в ней ровно один год. Богат впечатлениями был этот год, и много он мне дал в моем общем духовном развитии. Музеи, картинные галереи обогатили мои знания и расширили кругозор. Я побывал почти во всех главных музеях и галереях. И не только в главных. Помню, попал даже в новый небольшой музей где-то на Разгуляе, где были выставлены произведения Коненкова и каких-то футуристов. Пешком я исходил немало мест, на которые не ступала нога коренных москвичей. Те же Тоня Якшина и ее подруга Захарова, раскрыв рты, слушали мои рассказы о незнакомых им уголках Москвы, где они отродясь не бывали. Много походил я по всевозможным Лефортовским, Немецким, Баумановским, Мясницким, Кузнецким, Грузинским, Пресненским и многим, многим другим улицам. Побывал на всех девяти вокзалах. Не раз замыкал круг Бульварного и Садового колец. Не раз попадал под ливни, и, разувшись, босиком, как все, шел домой. Особенно после ливня ревела, извергаясь из трубы в Москву реку, река Неглинка. Шлялся по Китай-городу, лазил по Воробьевым горам, бродил по Нескучному саду, не забывая заглянуть на Сухаревку.
1924–1936 гг. Сновск – Гомель
После демобилизации из Красной Армии в 1924 году я вернулся в свой родной Сновск в семью Гавриловых девятым ее членом. За время моего пребывания в армии в 1923 году появился еще один брат Александр. Когда я спрашивал потом у матери, почему его назвали тоже Александром, мать объяснила, что это по инициативе отчима – он не был уверен, что я вернусь домой. Квартира была в доме № 1 на ул. Парижской Коммуны. Мне выделили угловую комнату, называвшуюся в дальнейшем «Сашиной комнатой». В двух других, кроме кухни с русской печью, жили отчим и мать, сестра Аня, братья Иван, Петр, Коля, Леонид и Шура. Начался новый этап в моей жизни.
Время было тяжелое, семья немалая, и нужно было без промедления устраиваться на работу. На прежнее место в конторе участка пути меня не брали. Предложили временную работу подавальщика угля на паровозы. Согласился. Проработал около двух месяцев, поднимая бадьи с углем на тендер паровоза при помощи журавля. То ли смилостивился заведующий конторой Стадниченко Иван Иванович, то ли заела совесть председателя месткома Пупанова Александра Александровича, но вскоре я был принят на старую должность конторщика. Ведь по закону я должен был быть принят на прежнюю должность сразу же после возвращения из армии. Определили мне зарплату, которая почти целиком шла в общий семейный котел.
По складу своего характера я не был модником и довольствовался одеждой, привезенной из армии, потому что домашний гардероб был очень бедный. Ну, известно, какая одежда была в те времена на красноармейце: шлем, костюм защитного цвета, ботинки на гвоздях типа «австрияки», обмотки и портянки. В таком виде я щеголял: и в контору, и на гулянку ходил в том же.
Гуляли около клуба. Ходили парочками, группами, а такие, как я, и в одиночку. Однажды меня остановила моя какая-то дальняя родственница, проживающая у тетки Лукашевич. Была она курносая до такой степени, что, глядя на нее, трудно было не улыбнуться. Звали ее Зося. Зося была не одна, с ней были еще две девчонки. Познакомились.
– Шура, – отрекомендовалась одна из них.
Так состоялось мое первое знакомство с моей будущей женой.
Очень смутно помню ее тогдашний образ – было темно, но помнится, что особого впечатления это знакомство не произвело. Обычная девушка, каких много можно было ежедневно видеть вечером у клуба. Как видно, и Шуру знакомство со мной мало заинтересовало, и уже позже, будучи замужем, она подтвердила это. Гимнастерка, штаны, не видевшие утюга, обмотки, потрепанные сандалии на деревянному ходу – все это не соответствовало образу интересного молодого человека. Да я и сам был далеко не красавец: худой, плохо подстриженный, неуклюжий. Такого мнения я был о своей особе.
Сновск того времени был местечком, которого еще мало коснулась революционная новь, да и появившийся НЭП тормозил его движение по этому пути, и дух мещанства еще крепко сидел в умах его обитателей. Немудрено поэтому, что девушки придерживались морали своих матерей и стремились удачно выйти замуж. Но при этом не забывали судить о человеке, встречая его по одежке и манерам. Шура не была исключением, и наше знакомство пошло по затухающей кривой.
После армии я уже не был тем безропотным «Александром», каким был до этого, и уже к моему имени все чаще стали добавлять и отчество – Александрович. Я был трудолюбив, усидчив. Пребывание в армии, постоянное передвижение в новые места, знакомство и общение с разными людьми – все это заметно расширило мой кругозор. И уже через пару лет, в 1926 году, я стал старшим счетоводом отдела Пути Западных железных дорог, и даже чопорные старые девы Речицкие, работавшие в конторе, стали обращаться ко мне по имени и отчеству. Уже осужден был за взяточничество Стадниченко И.И. Не помню точных дат, но помню, что это было между 1924 и 1930 годами.
В помещении, занимаемом когда-то начальником участка пути Мартыновым, расположился штат новой районной конторы, заведующим которой стал потешный старичок Лукашук Иван Филиппович.
К концу двадцатых годов бывший дорожный мастер пути Зубаков Александр Александрович был назначен начальником объединенного участка пути и связи. Он был хорошим путейцем, но по связи мало что смыслил. А подчиненные жаждали аудиенции и разъяснений по работе. В конторе было два выхода. И потешно было наблюдать, как Александр Александрович, только что появившийся в одних дверях, сразу был осаждаем просителями и подчиненными. И как он медленно, но верно, двигался к другой выходной двери, и бросив на крыльце короткое: «Я сейчас приду», спасался бегством от этого нашествия.
В те двадцатые годы железная дорога довольно щедро снабжала своих штатных работников бесплатными билетами с правом проезда по всей сети железных дорог, а одно время даже и по водным путям. Выдавались также и провизионные билеты на проезд от станции Сновская до любой станции на расстоянии 300 километров от нее в оба направления. Не все железнодорожники использовали это свое право, но я при моем неравнодушии к путешествиям все свои отпуска и свободное время употреблял на поездки, и неиспользованными билеты у меня не оставались.
В выходной день садился на поезд и, если не было свободных мест, лез на третью полку, устраивался там, подложив под голову кулак или фуражку, и ехал до указанной в провизионе станции в 300 километрах от Сновска. На всех этих конечных станциях я побывал. Запомнилась поездка в два городка на Украине: в Золотоношу, что недалеко от Черкасс, и в Прилуки. Побродив до обратного поезда, я возвращался домой. Однажды мне выдали «провизионку» (прим. – железнодорожный билет) до Киева, и я не преминул ею воспользоваться и посетил этот уже знакомый мне город. А иногда от конечной станции, обозначенной в «провизионке», я прикупал билет, например, до Минска или до Киева.
По разовым железнодорожным билетам ездил в отпускное время. Был на юге в солнечном Севастополе, городе славном. Лазил по его гористым улицам, ходил на раскопки древнего Херсонеса, любовался полотнами знаменитой Севастопольской панорамы, был у памятника Нахимову, Корнилову, Тотлебену. Ездил в рыбацкую Балаклаву, что в десятке километров от Севастополя. И, конечно, ел черешню и пил холодную бузу (прим. – буза – слабоалкогольный напиток из забродившего проса или кукурузы).
Однажды был в Ленинграде, вскоре после наводнения в 1924 году – наводнения, случившегося через 100 лет после того, которое было в 1824 году, описанное Пушкиным в поэме «Медный всадник». Я шел по Невскому, перешагивая через горы торцов. В те годы улицы Ленинграда были замощены деревянными торцами, и все это при наводнении всплыло.
В эту поездку я зашел к П.Н. Прокоповичу в квартиру его отца на Галерной улице около Кронверкского проспекта. Поднялся на пятый этаж, и дверь мне открыл Павел Николаевич, поздоровались.
– Вот, Морозыч, наши апартаменты, – сказал он.
Кругом чертежи, эскизы, обстановка подтверждала профессию его отца-архитектора. Квартира была обширная. Павел Николаевич познакомил меня со своим братом. Брат произвел на меня странное впечатление: он мне показался каким-то неполноценным субъектом, таким, про которых говорят, что у них «не все дома». Может, я и ошибался.
Вечером Прокопович повел меня на какое-то собрание в доме недалеко от Невского. Или я слишком отстал от этой компании, или сборище было чересчур «заумным», но я тогда мало чего понял.
Между прочим, при отъезде П.Н. дал мне несколько планов г. Ленинграда, в то время планов в продаже не было.
В одну из поездок в Ленинград я побывал на ледоколе «Красин», стоявшем на приколе после его знаменитого рейса по спасению экспедиции Нобиле в 1928 году (прим. – экспедиция Умберто Нобиле на дирижабле «Италия», потерпевшем катастрофу). И, конечно же, все поездки в Ленинград не обходились без заезда в Ораниенбаум к фонтанам. Исправно посещал Эрмитаж, Русский музей и другие. Много улиц пешим порядком я исходил в этом славном городе. Бывал и на верхушке Исакия.
В одну из поездок в Ленинград мне посчастливилось увидеть первомайские торжества. Доступ к трибуне на Дворцовой площади был свободен, и я очутился в непосредственной близости от Зиновьева Г.Е., который занимал тогда важный пост. Он выступал с речью. Мужчина крупной комплекции, он говорил каким-то пискливым дискантом. Голос явно не гармонировал с фигурой и заставлял улыбаться слушателей.
Погода была хорошая, и я решил искупаться в Неве. Уж очень соблазнительна была перспектива рапортовать в Сновске, что я 1 Мая купался в Неве. Разделся где-то вблизи Ростральных колонн и в ледяной воде проплыл немного по течению.
Запомнились мне поездки в Мурманск и на Кавказ.
Выписан разовый билет до Мурманска. И вот, в середине августа 1927 года я выезжаю из Сновска. Маленький чемоданчик – весь мой багаж. Проезжаю хорошо знакомую Оршу, потом Витебск, Ленинград – здесь пересадка на прямой до Мурманска. На мое счастье к Волхову подъезжаем в дневное время. Медленно проходит поезд рядом с плотиной первенца электрификации Волховстроем. Катит свои воды Волхов, переливаясь через плотину. Потом поезд мчится через леса, озера, реки к Петрозаводску. Вот открылась широкая панорама Онежского озера. Видны пароходы. Поезд идет по склону горы, и еще долго мы едем вблизи берега. За Петрозаводском начинается настоящее царство озер и лесов. Станций мало, перегоны большие. Едем параллельно трассе будущего Беломорско-Балтийского канала до Беломорска. Тут уже самое настоящее Белое море. Подъезжаем к станции Кемь, отсюда морем до знаменитых Соловецких островов рукой подать. Погода какая-то невеселая, пасмурно, и несмотря на август – жарко. За Кемью поезд отрывается от Белого моря и мчит сквозь леса и воды дальше.

