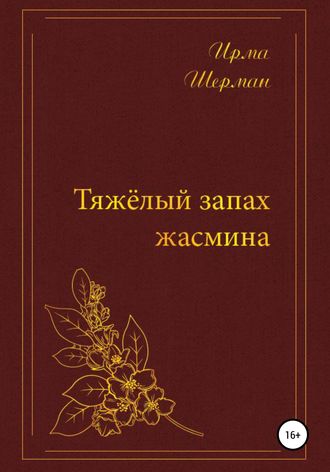 полная версия
полная версияТяжелый запах жасмина
– А вы, Николай Андреевич, не волнуйтесь, и если можете, то расскажите нам всё то, что так гнетёт вас и лежит давящей тяжестью у вас на сердце. Я знаю! Я ведь тоже потеряла своих близких и родных людей. Это беда миллионов, оставшихся в живых в этом послевоенном мире, но у каждого своя судьба и свои горести, у одних больше, у других меньше, у одних смерть отобрала всё, как у моей сестры Тани, всех – и мужа, и двух сыновей, а других обошла стороной! Что ж! Была война, и этим всё сказано, а то, что принесла нам война, уже кануло в глубины тех страшных военных лет. Это она распорядилась нашими судьбами, это она всех осиротила, но мы обязаны жить, чтобы жизнь на земле продолжалась! Я рассказала о своих бедах, а теперь ваша очередь, ведь мы, как вы сказали, для вас не чужие люди, а ваш рассказ нас сблизит ещё больше, ведь у нас и судьбы, как близнецы, похожи друг на друга. Так что, рассказывайте всё по порядку, поделитесь с нами своими горестями и радостями. Не верю я, чтобы вы были совсем одиноки, ведь были у вас друзья, которые вам помогли, с которыми вы делили всё поровну?
– Коленька, родненький, говори, рассказывай! – чуть ли не сквозь слёзы попросила Маша. Она подошла к нему, прислонила его голову к себе и поцеловала в седую прядь.
– Ну, хорошо! Вы садитесь, и я расскажу о том, что произошло в моей жизни, но это будет долгий и страшный рассказ. Об этом лучше не вспоминать, но если вы просите, то я постараюсь, хотя мне будет нелегко снова окунуться в прошлое.
Когда все уселись за столом, Николай, глядя куда-то вдаль, как бы собираясь с мыслями, тихо начал свой рассказ.
– Я уже говорил, что моё имя не Николай, так это так и есть. Дома и в школе меня называли Сёма, а полное моё имя – Соломон. Это имя мне дали в знак памяти моего дедушки, маминого отца, а имя моего отца – Гриша, а маму звали Сима, но папа её всегда называл мама–Сима, и мы тоже, то есть, я и моя старшая сестра Люся. А фамилия наша была Голдштейн. Так что наша семья состояла из четырёх человек. Папа был комиссар полка, мама–Сима управляла домашним хозяйством, а я и Люся учились в школе. Вот так было до войны, а когда началась война…
Время шло. За окном уже сгустились сумерки, а Николай всё продолжал подробно и последовательно рассказывать о том, что принесла война в их семью. Внимательно слушали сидящие за столом, не пропуская ни единого слова из этого страшного рассказа, а Николай всё говорил и говорил, рассказывая всё то, что пришлось ему пережить. Тётя Таня, как он её мысленно называл, сидела и слушала Николая, не сводя с него грустного взгляда, Маша смотрела на рассказчика изумлёнными глазами, как будто увидела его впервые. А Бэлла Филипповна слушала и украдкой вытирала набегавшую слезу, а когда Николай подошёл в своём рассказе к тому месту, где мама–Сима отсчитывала секунды интервала между работой пулемёта и кратковременной тишиной, когда она шептала: «Мы должны быть первыми!», когда она в последнюю, вычисленную секунду толкнула своего сына в эту жуткую могилу, надеясь этим спасти его от неминуемой смерти, забыв о своей, Бэлла Филипповна зарыдала. Маша побежала в кухню и принесла стакан воды. Николай молчал, глядя на плачущую женщину, как бы извиняясь за содеянное, а тётя Таня сидела не двигаясь, бледная, со сжатыми губами, с отсутствующим взглядом, словно вокруг была пустота. Услышанная трагедия этого молодого, рано поседевшего человека соединилась воедино с её неутихающей болью. Ведь эта война забрала у неё мужа и двух сыновей, оставив её одинокой в этой послевоенной жизни. Николай продолжал молчать, а в комнате затаилась тишина, в которой был слышен тихий плач Машиной мамы, но как только она успокоилась, то попросила Николая, чтобы он продолжал рассказывать.
На улице была уже ночь, когда Николай закончил воспоминание о той страшной трагедии и событиях последующих лет словами:
– А остальное вы всё знаете. Вы уж извините меня, если я причинил вам боль своим рассказом, но вы ведь просили меня, и я выполнил вашу просьбу. Ещё раз прошу вас простить меня!
За столом продолжали сидеть молча, и вдруг Николаю показалось, что ему не поверили, что он прочёл в их глазах сомнение в его рассказе, особенно это проявлялось в глазах тёти Тани. Он поднялся со стула, подошёл к окну, отодвинул оконную штору и, вглядываясь в темень ночи, ни к кому не обращаясь, произнёс:
– Пора домой, а то и трамваи перестанут ходить.
Он повернулся спиной к окну, поглядел на сидящих за столом и как-то виновато улыбнулся.
– Подожди, не спеши! – идя к Николаю, говорила Маша. – Уйти ты ещё успеешь! – Она подошла, положила ему руки на плечи и, заглядывая в глаза, продолжила: – У меня имеется к тебе вопрос, и пока ты на него не ответишь, ты отсюда не уйдешь!
– Так какой, Машенька, вопрос, если не секрет?
– После того, что ты тут нам рассказал, то я теперь не знаю, как тебя называть и кто ты вообще есть? Сёма или Николай?
– Видишь ли, Машенька, у меня два дня рождения. Первое – это то, когда я родился и когда мне дали имя Сёма, а второе – это тогда, когда я, благодаря моей маме, остался жив во время расстрела. Выбрался из этой страшной могилы и от Василия Ивановича получил документ на имя Николая Любченко, благодаря которому я, как бы рождён вторично, а первое моё имя ушло в прошлое. Но дни рождения я отмечаю дважды, и дату своего рождения, и дату своего спасения. Так что, Николаем меня называй, ведь у меня документально другого имени нет, а первое я ничем доказать не могу. Один Василий Иванович мог бы подтвердить моё первое имя, но жив ли он? Вот этого я не знаю, а писем я никому не пишу, ни ему, ни маме–Тоне, боюсь, чтобы не подумали, что я, будучи инвалидом, навязываюсь к ним. Вот так-то, Машенька! Николай я, а иного имени у меня нет.
– А вы, Николай Андреевич, не подумываете о восстановлении своего имени и фамилии? – спросила Бэлла Филипповна.
– Нет! Пока нет! Ведь это, довольно волокитное дело, да и необходимых документов, как я уже говорил, у меня нет, а там, поживём и увидим, что делать. Но я думаю, что это лишние хлопоты и бесперспективное занятие, а человека можно называть любым именем, лишь бы он был человеком в полном смысле этого слова, а имя, я считаю, не имеет никакого значения.
Он обнял Машу и, заглядывая ей в глаза, спросил:
– А ты как думаешь? Помнишь, в пьесе Максима Горького «На дне» есть такая фраза: «Человек – это звучит гордо». Так что, основное – это человек, а не имя и фамилия.
Он глядел на Машу, ожидая ответа, но она молчала и вдруг, рассмеявшись, сказала:
– Ну, человек! Завтра на работу! Пора и отдыхать от празднества!
К трамваю Николая провожали втроём: Маша, Бэлла Филипповна и тётя Таня. Мороз крепчал, испытывая прохожих на выносливость, снежок хрустел под ногами, к трамвайной остановке подошли почти одновременно с приходом трамвая, прощались как-то суховато. Войдя в трамвай, Николай посмотрел в окно на провожающих, и ему вдруг показалось, что все трое, стоявшие у трамвая, ждут с нетерпением, когда он уже отправится. Но почему? Что случилось?! Что произошло?! Он никак не мог найти ответа на все свои вопросы, которые так и остались для него загадкой. Когда трамвай уже набирал скорость, Николай видел в окно, как по освещённой улице удалялись три человека, которые за короткий срок стали для него близкими и как бы необходимыми в его жизни, но тревога, закравшаяся ему в душу, не отпускала его. Он силился понять причину этой тревоги, но не найдя её, так и доехал до своей конечной остановки, без ответа.
В это время Маша, её мама и тётя Таня шли молча и каждый как бы анализировал всё то, о чём рассказывал Николай.
– А вы знаете? – сказала тётя Таня. – Мне кажется, что всё то, о чём рассказывал Николай, не всё правда, и я вообще сомневаюсь в правдивости его рассказа.
– Не думаю, – задумчиво проговорила Бэлла Филипповна. – Такое выдумать просто невозможно. Может быть, кое-что и придумано, а в основном, правда! Но, кто его знает? Чужая душа – потёмки!
– Нет, мама! Я за ним вранья не замечала! Он всегда говорил то, что думает, невзирая на то, хорошо это для него или плохо, и я верю ему! Но если я узнаю, что он всё это придумал, а ведь ложь всегда всплывёт наружу, то я его возненавижу! – с дрожью в голосе закончила Маша.
Мороз продолжал злиться, подгоняя редких прохожих, которые и без того спешили добраться домой, где ждали их тепло и уют родного очага. Под утро мороз спал и над городом зависла пурга. Ветер то гнал, перемешивая в воздухе снежинки, засыпая дороги и тротуары густым снегом, то вдруг переставал дуть, и тихо, как бы сея сквозь редкое сито, сыпал и сыпал с небесных высот белёсое чудо природы.
Придя на работу, Николай застал Машу за её рабочим столом, где она разбирала скопившуюся за время праздника почту.
– Доброе утро! С наступившим Новым Годом! – поприветствовал он Машу, и, понизив голос до шёпота, продолжил: – Счастья, радости, успеха, Машенька!
– Вам тоже, товарищ гвардии капитан, счастья, радости, здоровья и успеха в Новом Году! – звонко ответила она, продолжая прерванную работу, а Николай постоял возле неё, грустно усмехнулся и пошёл к своему месту работы. Вскоре Маша положила ему на стол кипу разных документов и газет и, держа в высоко поднятой руке конверт, медленно, отделяя каждое слово, торжественно произнесла:
– Вам, Николай Андреевич Любченко, письмо, и отгадайте от кого?
– Думаю, что ты ошиблась, потому что мне некому писать! – подняв голову и глядя на Машу, ответил Николай.
– Напрасно, ох, напрасно так думать! Письмо ведь от самого, как я помню из вашего вчерашнего рассказа, близкого человека.
– Что это ты всё загадками говоришь? Если письмо мне, то я не могу догадаться от кого.
– А зачем догадываться? Вот письмо, читайте, и всё будет ясненько, – улыбаясь, сказала Маша и положила на стол толстый самодельный конверт, прихлопнув его ладонью.
Всего только мельком взглянув на конверт, и только успев прочитать, от кого это письмо, Николай вдруг побледнел и стал разрывать конверт. Пальцы его рук дрожали, и казалось, что он ничего не видит вокруг себя кроме этого конверта. А Маша, стояла, не двигаясь, и глядела на этого бледного и такого дорогого ей человека, не понимая, что могло так его взволновать, что это за такой таинственный конверт и что в нём таится? В кабинете была тишина. Посетителей пока ещё не было, и Николай всё продолжал и продолжал читать. Вдруг он оторвался от письма, поднял голову, посмотрел на Машу, которая продолжала стоять возле него, улыбнулся какой-то счастливой улыбкой и тихо сказал: «Василий Иванович и мама–Тоня разыскали меня». – Он хотел ещё что-то сказать, но в это время постучали в окошко, и началась привычная повседневная работа, которая в этот первый день Нового Года была весьма загружена посетителями, что не дало возможности дочитать до конца столь неожиданное и такое дорогое письмо. Рабочий день закончился немного позже, ввиду того, что пришлось долго оформлять документы последнему посетителю. Маша и Николай закончили работу и уходили тогда, когда уборщица уже начала уборку помещения. Выйдя на крыльцо, они остановились. На улице серели сумерки, Николай закурил, не зная, как вести себя дальше, а Маша как-то тихо и виновато предложила:
– А знаешь, Николай! Поехали к нам, я думаю, что и мама сегодня придёт пораньше, посидим, как говорится, в семейном кругу, думаю, что и маме, и тёте Тане будет интересно и приятно, что ты получил от своих близких людей весточку. Я считаю, что ты этим людям дорог, коль они тебя разыскали и, как видно, счастливы, что нашли! Я тоже рада за тебя! Очень рада! – она взяла Николая за руку и, заглядывая ему в глаза, спросила: – Ну, так что? Поедем к нам? – это уже было не приглашение, а просьба. Чувствовалось, что она переживает за несправедливую оценку вчерашнего вечера и за недоверие к его рассказу.
– Поедем, Машенька! Поедем! Я рад, что снова побуду вместе со всеми, где уютно и где я чувствую себя не в гостях, а как дома.
Они дошли до трамвайной остановки, немного подождали, трамвай пришёл битком набитый пассажирами, еле-еле втиснулись и, доехав до своей остановки, прошлись немного. Двери им открыла тётя Таня, Бэллы Филипповны ещё не было, задержалась на работе. Что ж, таков удел всех хирургов, но не прошло и получаса, как она, улыбаясь, с раскрасневшимися от мороза щеками, входила в комнату.
– А я в прихожей увидела ваш, Николай Андреевич, полушубок и поняла, что вы снова у нас. Здравствуйте, Николай Андреевич! Рада вас видеть, – с улыбкой говорила она, пожимая ему руку, – считай, год прошёл, как вы были у нас, – чувствовалось, что она немного под хмельком.
– Как это «целый год»? – всерьёз спросила тётя Таня. – Как я помню, так это было вчера?!
– А вчера был сорок пятый, а сегодня сорок шестой! – рассмеявшись, сказала Бэлла Филипповна и, вдруг оборвав смех, спросила:
– А что это вы все так пристально смотрите на меня? Что, разве я не права?
– Права, мама! Тысячу раз права! – ответила Маша, поцеловав свою маму, а шутка полностью стёрла ту неловкость, которая тянулась ещё со вчерашнего вечера. – Ты только послушай, мама! – с восторгом проговорила Маша. – Сегодня Николай получил письмо, ты знаешь от кого? Нет, ты никогда не догадаешься!
– Конечно, не догадаюсь! Так от кого?
– От Василия Ивановича и от Антонины Петровны или, как её называет Николай, от мамы–Тони. Нет! Только подумать, как всё это получается? Вчера он познакомил нас с этими именами, а сегодня так неожиданно получил от них письмо, в котором они пишут, как долго его разыскивали и, в конце концов, нашли.
– Я очень рада за вас, Николай Андреевич, и за ваших близких и дорогих вам людей. Думаю, что это надобно отметить! Ведь это так здорово! В наше послевоенное время просто счастье, когда находят своих близких живыми! Ну, так что?! – обратилась она ко всем сразу и тут же сама себе ответила: – Конечно, надо отметить! Давай, Таня, выкладывай всё, что у нас есть, и продлим наш новогодний праздник!
Уже за столом Бэлла Филипповна призналась, что они собрались в ординаторской и немного выпили в честь наступившего Нового Года. В квартире было тепло и уютно, семейный праздничный ужин ещё больше сплотил и сблизил Николая с этими простыми, бескорыстными людьми, которые стали для него такими необходимыми в его одинокой жизни. После ужина, когда была убрана на кухню посуда, а стол накрыт скатертью, Маша спросила Николая:
– А мог бы ты прочитать нам письмо, которое ты мне немножко почитал. Конечно, если там нет ничего такого, чем ты не хотел бы с нами поделиться. – Она очень хотела, чтобы мама и тётя Таня послушали и убедились в правдивости вчерашнего рассказа, а она сама с самого начала чувствовала, что всё то, о чём он говорил – правда, страшная, но правда. Она верила Николаю и оказалась права!
– Что ты, Машенька! Я бы очень хотел, чтобы это письмо прочитала вслух, от начала и до конца, Бэлла Филипповна, а мы послушаем, как бы со стороны. Ну, так что? Вы, согласны со мной?
С тем, что предложил Николай, согласились все, он отдал конверт Машиной маме, она вынула из него два исписанных листка, и начала читать:
«Здравствуй, дорогой Сёма! Наконец–то мы тебя отыскали. Я пишу «отыскали», потому что эту колоссальную работу проделали вдвоём с Антониной Петровной, с твоей мамой–Тоней. До сих пор не могу понять, где брались те силы, упорство и уверенность у этой маленькой женщины? Она не теряла надежду, что ты жив и что она тебя обязательно разыщет, ведь она сумела разыскать меня, не зная о моём существовании. Да! Волевая женщина! Ведь это она уговорила меня начать поиски, а я, ты уж меня извини и не обижайся, не надеялся на благополучный успех. Оно, правда, вначале так и было. Если честно признаться, то в этом виноват я. Ведь это я настоял на том, чтобы мы разыскивали Соломона Григорьевича Голдштейна, и ответы на наши запросы приходили отрицательные. А когда пришёл ответ, что в Перми проживает гвардии капитан Соломон Григорьевич Голдштейн 1901 года рождения, то мы оба пришли к мнению, что нужно разыскивать гвардии капитана Николая Андреевича Любченко. И, представь себе, что с первого запроса пришёл положительный ответ, где указывался город и госпиталь, где ты находишься на излечении, а уж потом госпиталь дал нам твои координаты. Вот так-то мы тебя разыскивали и, слава Богу, нашли! Надеюсь, что вскоре мы с Антониной Петровной получим от тебя долгожданную весточку! Не знаю, почему ты не хочешь нам писать и как бы вообще не хочешь с нами знаться? Ума не приложу, чем мы тебя обидели? Но я думаю, что в твоем молчании кроется что-то большее, чем какая-то обида! Напиши нам, Сёма! Мы с нетерпением ждём от тебя подробного письма, а я особенно! Ведь я остался в этом мире совершенно одиноким после того, как Галина Владимировна в марте 1943 года ушла в иной мир, так и не дождавшись от тебя весточки. Она никак не могла забыть ту страшную ночь, когда ты, как бы явился с того света, а ведь это так и было! А также, она часто с ужасом вспоминала ту тёмно–коричневую воду в корыте, когда мы тебя отмывали от запёкшейся крови, крови тех, кто остался в той громадной могиле, откуда ты выбрался, чудом оставшись в живых. А когда ты ушёл в дождь и в ночную мглу, навстречу неизвестности, она просто не находила себе места, беспокоясь о тебе, особенно в ненастную погоду. Придёт со двора и обязательно скажет: «Ох! Какая холодина, да ещё и дождь со снегом! Где сейчас наш Сёма, без крыши над головой? Бедное дитя! Дай, Боже, ему силы, да убереги его!» А когда пришёл Федор с двумя полицаями и уже в открытую разыскивал тебя, то она была в ужасе, понимая, что, если бы ты не ушёл вовремя, то всё могло бы закончиться трагично, как для тебя, так и для нас с Галиной. Вскоре после этого она принесла икону, которую выменяла на своё пальто, и повесила её в углу большой комнаты. Часто я наблюдал, как она стояла у иконы и разговаривала с образом, умоляя его позаботиться о тебе, а однажды она проснулась среди ночи и, сидя в постели, плакала. Я проснулся и спросил, что случилось, а она, не глядя на меня, тихо ответила: «Сёма умирает» – и, накинув на себя платок, пошла к иконе. Так уходили дни за днями, месяц за месяцем, а в конце декабря 1942 года она простудилась и слегла. Болела очень тяжело, лечить было нечем, да и некому, пролежала немногим более двух месяцев. Однажды утром подозвала меня к себе, я наклонился к ней, а она тихо так, чуть ли не шёпотом сказала: «А Сёма живой», – и улыбнулась. В этот день она умерла. Похоронил я её во дворе, в углу, под сиренью, а сейчас думаю перезахоронить на городском кладбище. Вот такие–то наши дела! Да, ты помнишь дядю Ишию и его жену Фриду? Ну, те, которые жили в одном дворе с вами? Так они спаслись и остались живы, но об этом я тебе в другом письме напишу, а пока желаю тебе здоровья! Думаю, что ещё увидимся! Ох! Как хочется увидеться! До свидания! Антонина Петровна тебе тоже письмо написала. Ждём тебя и надеемся, что ты приедешь к нам! А пока будем ждать от тебя письма. Да! Чуть не забыл! Все ваши документы и фотографии, которые отдали тогда мне, я сохранил. Вот пока и всё! Желаю тебе здоровья и благополучия в твоей жизни! Ведь судьба так распорядилась, что ты заслужил иметь это! До встречи! Я надеюсь! В.И.»
Отложив в сторону прочитанное письмо, Бэлла Филипповна приступила ко второму:
«Коленька, дорогой, здравствуй! Наконец-то я могу тебе написать письмо. Слава Богу, что ты жив, что мы с Василием Ивановичем отыскали тебя, и теперь, я надеюсь, терять друг друга мы не будем, будем переписываться, а там глядишь, и приедешь к нам. Для меня это будет просто счастье, увидеть тебя! Ведь после того, как ты ушёл на остров к партизанам, я больше тебя не видела, а после боя, который был в лесу, совсем потеряла надежду увидеть. Каратели, как пришли после лесного боя, то две трети нашего села сожгли, а жителей согнали в ветряную мельницу, обложили соломой и подожгли. Живьём сожгли людей! Мне посчастливилось, что я в это время была на хуторе. Дом наш остался цел, если не считать того, что со стороны соседнего двора выгорел угол. Жить в посёлке было просто невозможно, и я всё время находилась у своих родителей, а когда закончилась война и мой муж, Константин, демобилизовался, то мы снова переехали жить в посёлок. Когда я разыскала Василия Ивановича, он уже был одинокий, да слабенький. Он предложил нам переехать к нему, что мы и сделали. Теперь живём дружной семьёй вместе с твоим спасителем. О тебе, Коленька, я всё–всё знаю, Василий Иванович рассказал. Он рассказывал, а я слушала и плакала. Боже! Сколько горя легло тогда на твои, ещё детские плечи! А теперь я рада, да, что говорить, я счастлива, что ты, Коленька, жив, и у меня появилась надежда увидеть тебя! Ведь ты мне судьбой даден, ведь ты не прошёл мимо моего двора, а пришёл, как бы заменить мне моего родного сыночка. Ну что ж! Буду ждать того счастливого дня, когда снова увижу тебя, а пока жду твоих писем. Буду заканчивать. Ведь Василий Иванович в своём письме всё подробно описал, почти ничего не оставив мне. Желаю тебе здоровья и человеческого счастья, как может тебе пожелать твоя мама-Тоня! Привет тебе от Константина, ждём от тебя ответа. Пиши!»
Закончив читать, Бэлла Филипповна вложила оба письма в конверт. В комнате воцарилась тишина, все молчали, как бы продолжая видеть то, о чём было прочитано в этих письмах. И вдруг в этой тишине послышался тихий голос тёти Тани:
– Прости меня, Николай Андреевич! Это я усомнилась в правдивости твоего вчерашнего рассказа, это я старалась уверить в этом и Бэллу Филипповну и Машу. Это я виновата, что был дан повод к тому, чтобы уличить тебя в присвоении того, чего не было на самом деле, а теперь, после прочтения этих писем, я поняла, как нехорошо подумала о тебе и насколько я была не права. Прости меня! Я очень и очень виновата в том, что не поверила тебе! Ещё раз прошу простить меня!
– Ну что вы?! Что вы! Какие могут быть извинения?! Да если бы мне кто рассказал такое, что я рассказал о себе, то я никогда бы не поверил в истину этого рассказа. Так что не переживайте! Всё нормально!
– А я тебе верила и сейчас верю, что ты не в обиде на нас за вчерашнее холодное отношение к тебе, а если мы чем тебя и обидели, то прости нас! – идя к Николаю, говорила Маша. Она подошла, положила руку ему на плечо и произнесла, словно заклиная:
– Я верила тебе, а теперь и все убедились, что были не правы, так пусть всё это уйдет в прошлое, а наша дружба и доверие друг к другу станут ещё крепче, чем были до сегодняшнего вечера.
– Да, да! – подняв голову и глядя на Машу, улыбаясь, ответил Николай. – Ты права! Я уверен, что сегодняшний вечер нас сплотит в доверии друг к другу ещё больше, чем было до сих пор! И прощать вас мне не за что, ведь вы для меня стали близкими и дорогими людьми, за что я вам безмерно благодарен!
Провожали Николая к остановке трамвая, как и вчера, но теперь не было того гнетущего настроения, какое было в прошлый раз. Прошло три дня с этого памятного вечера. Николай и Маша медленно шли по центральной улице, удаляясь от здания театра, где только что смотрели спектакль А. Островского «Гроза». Прощались они всегда у парадного подъезда Машиного дома. Вот так и сейчас, дойдя до заветного крылечка и не обращая внимания на сильный январский мороз, расставаться не спешили, но всё же, после жарких поцелуев, от которых учащённо билось сердце, Маша, положив ладони на грудь Николая, выдохнула:
– Пора, пора прощаться! А то и впрямь в сосульки превратимся!
– Подожди! подожди, Машенька! Скажи, ты меня любишь? – удерживая Машу, спросил Николай.
– А ты меня? – в ответ спросила она.
– Очень! Люблю тебя больше всего на свете!
– И я тебя люблю! – прижавшись к Николаю, прошептала она. Так они простояли немного и Николай как-то тихо и неуверенно, словно боясь своего голоса, произнёс то, о чём уже много раз намеревался сказать:
– Машенька! Выходи за меня замуж! Я тебя очень люблю и буду любить всю свою жизнь! – сказал и замолчал, испугавшись своей смелости. Маша тоже молчала, услышав то, о чём давно мечтала услышать. Она отстранилась от Николая и, глядя ему в глаза, тоже тихо ответила:
– Я люблю тебя, но мне нужно подумать.
– Ты снова права! Замуж выйти – не в кино сходить! Ведь это на всю жизнь! Я тебя понимаю. Я буду ждать!
Они поцеловались, и Маша скрылась за дверью парадной, а Николай постоял немного, глядя на закрытую дверь и, повернувшись, пошёл к трамваю. Сняв в прихожей верхнюю одежду и сменив бурки на домашние шлёпанцы, Маша вошла в гостиную, где застала маму, сидящую на диване, как всегда, подобрав под себя правую ногу, и при свете настольной лампы рассматривавшую семейные фотографии. Маша подошла, села рядом с мамой, молча прижалась к ней, как прижималась в раннем детстве, как бы прося у неё прощения и защиты.
– Ты что такая грустная? – спросила мама, держа в руке фотографию мужа, Машиного отца. – Ты что, поссорилась с Николаем?
– Нет! – ответила Маша и снова замолчала, а мать посмотрела на дочь, которая сидела в задумчивости, и снова спросила:

