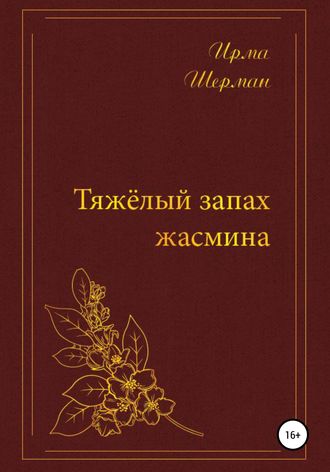 полная версия
полная версияТяжелый запах жасмина
– Как? Когда?
– Видать, ночью. Снял с культи бинт, привязал его к спинке кровати и свёл счеты со своей молодой жизнью. Не захотел жить вечным калекой. Эх! Жаль парня! – и он отвернулся к стенке, видимо стыдясь своих слёз. В это время в палату вошли два санитара, один из которых нёс свёрнутые носилки. Саню завернули в простыню, уложили на носилки и унесли. Ушли все, кроме нянечки, которая сворачивала постель, постель того, который ушёл в небытие. А раненые солдаты, всё время шагавшие рядом со смертью, привыкнув к ней, как к своей неизменной спутнице, теперь молча и тяжело переживали смерть этого искалеченного войной молодого человека.
За окном разгорался утренний рассвет восьмого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. В этот день Николая готовили к операции и утром девятого мая его увезли в операционную, а вскоре с голосом Левитана в палату ворвалось сообщение о Победе, о том, что война закончилась и что Германия капитулировала. В палату вбежала медсестра Лидочка, которую обожали все, и своим звонким голосом произнесла, да не произнесла, а пропела: «Победа, Победа, Победа!» – и, покружившись в темпе вальса, присела, как бы невзначай, на койку Алексея, молодого и красивого лейтенанта, который был тяжело ранен в боях за Кёнигсберг (Калининград), а теперь уже шёл на поправку. Все знали, что Лидочка неравнодушна к нему, но старались не показывать и вида, что это замечают.
Раненые бойцы вслушивались в приятный баритон диктора, ловя каждое его слово и радовались тому, о чём мечтали там, на полях сражений. Там, где решалась судьба человечества, где с оглушительным громом орудийных залпов металась смерть, наступила тишина. Да! Это была величайшая радость для всей страны, но и была жгучая боль для тех, кто остался на всю жизнь калекой, и боль за тех, кто уже никогда не вернётся к своему домашнему очагу. Вот и нянечка, которая унесла Санину постель и теперь, сидя в небольшой комнате на узлах, таких же постелях, как и Санина, плакала. Она оплакивала своего погибшего мужа, сына и свою вдовью долю, долю миллионов таких же вдов, как и она, а радость носилась по всем палатам, одаряя всех своим магическим словом – «Победа!» – которую так долго ждали и, выстрадав, дожили до этого счастливого дня. Госпиталь гудел, как потревоженный улей. Все что-то говорили, стараясь высказаться, были слышны радостные возгласы и фронтовые песни.
– Эх, баянчик бы мне сейчас! – мечтательно произнёс Алексей, который уже не лежал, а сидел рядом с Лидочкой.
– Баянчик? А, аккордеон не хочешь? – рассмеявшись, спросила она.
– А чего, аккордеон ещё лучше, – ответил он.
– А ты что, умеешь играть? Если умеешь, то принесу!
– Так-то и принесёшь? Держи в обе руки, да покрепче, а то уронишь! – смеясь, отпарировал Алексей.
– А что будет, если принесу? Обнимешь, да поцелуешь? – тоже смеясь, спросила она.
– Обниму и поцелую!
– А не обманешь?
– Ну, что ты? Разве это похоже на меня? Но, что-то не верится, чтобы принесла!
Лидочка лукаво глянула на Алексея, поднялась и быстро пошла к выходу, а минут через десять вернулась, неся в футляре аккордеон. В палате воцарилась гробовая тишина, все ожидали, что будет дальше, а Лидочка поставила свою ношу возле кровати, сама села рядом с Алексеем, похлопала по футляру и с задором потребовала:
– Ну, обнимай меня и целуй! Немедленно! А то унесу!
– Давай, давай! Не робей! Обнимай, да целуй! – громко потребовали обожжённые войной люди, соскучившиеся по простой человеческой ласке, и когда Алексей несколько раз поцеловал Лидочку, зааплодировали, а он, держа её за плечи, спросил:
– Где это ты и у кого раздобыла этот инструмент? Или это твой? Так не верится!
– Почему «не верится»?! Он мой! Правда, у него был раньше другой хозяин, а теперь я его хозяйка!
– Во как! Так ты, что, умеешь играть?
– Нет! Играть не умею, а аккордеон имею! – в рифму ответила она и снова рассмеялась, но смех уже был не такой, как прежде, а с какой-то грустинкой.
– Я чувствую, что здесь кроется любовная тайна, давай рассказывай! – как бы потребовал Алексей, заглядывая ей в глаза.
– Какая уж там тайна, да ещё любовная?! – ответила она. – Нет никакой тайны. Просто грустная история, – со вздохом ответила девушка.
– Рассказывай, рассказывай, а мы послушаем! – попросили все, кто находился в палате.
– Ну, что ж! Раз просите, расскажу, – устроившись поудобнее, пообещала она.
– Это было в апреле тысяча девятьсот сорок четвертого года, – начала она свой рассказ, устремив взгляд куда-то вдаль, как бы желая увидеть то, о чём рассказывает.
– К нам в госпиталь прибыла большая партия раненых. Город Куйбышев (Самара) был конечным пунктом прибывшего санитарного поезда, который должен был пройти санобработку, загрузиться всем необходимым и через сутки снова отправиться туда, где гремят бои. Большая часть медперсонала и санитарные работники принимали участие в разгрузке и приёме раненых. Мы с санитаркой Любой несли носилки, на которых лежал человек в гражданской одежде, а рядом шла женщина в чине майора медицинской службы и несла в футляре этот аккордеон. Нам было интересно, кто этот человек, что сама майор медслужбы несёт его аккордеон? Одно было ясно, раз аккордеон, значит музыкант, а вот кто она ему? Когда закончилась разгрузка вновь прибывших, я, приняв дежурство, вошла в палату, чтобы сделать назначенные врачом уколы. Он лежал и тихо стонал, а возле него сидела та же женщина и, как мне показалось, собиралась уходить.
– Вот так-то, Зиновий Владимирович, – произнесла она, – завтра я снова ухожу в поездку, увидимся ли снова или нет, одному Богу известно! Так что, аккордеон цел и невредим, лежит у тебя под кроватью, остальное только за тобой! Поправляйся и снова на гастроли! – она наклонилась к нему, поцеловала и тут же ушла. А он с грустью смотрел ей вслед, как бы навсегда прощаясь с ней, и в это время у него по щеке скатилась слеза. Мне было очень жаль его. Тяжело смотреть, когда мужчина плачет! – Она глубоко вздохнула и продолжала свой рассказ: – Однажды он назвал меня «доченька», как видно, случайно, я отозвалась на его зов и после этого случая он меня всегда так называл. Видимо, ему было просто необходимо меня так называть. Ведь всю его семью, как мне было известно, мать, отца, жену и дочь семнадцати лет, расстреляли в Киеве, в Бабьем Яру, где были расстреляны и моя мама, и мой младший братик Саша. Моя мама была еврейка, а папа русский. Он погиб в первый месяц войны. Так что у меня с Зиновием Владимировичем была одна судьба! – она замолчала и в задумчивости глядела на аккордеон, который стоял у её ног.
– А кем ему приходится эта женщина, которая принесла аккордеон? – спросил Алексей.
– Эта женщина-майор, близкий друг его семьи – ответила Лидочка, оторвав взгляд от аккордеона. – Их семьи, жили в Киеве, в одной коммунальной квартире, дружили ещё задолго до войны, а теперь она начальник санитарного поезда, в котором оказался Зиновий Владимирович.
– А где его ранило? – спросил один из слушателей, у которого рука, ноги и вся грудь были в гипсе. Ведь он не военный, а артист? Если знаешь, то расскажи.
– А было это так. Зиновий Владимирович со своей прифронтовой бригадой, которая состояла из четырёх человек, ехали с концертной программой к бойцам, которые после длительных боёв расположились на кратковременный отдых. Немец тоже вымотался в многодневных боях и, как видимо, притих, ожидая пополнения. Машина двигалась по разбитой дороге, и артистов, которые находились в кузове, кидало из стороны в сторону, а когда уже приехали и начали готовиться к концерту, то со стороны немецких позиций было выпущено три снаряда. Кира Политаева – солистка, погибла, а Зиновий Владимирович был тяжело ранен. Двое других из этой концертной бригады остались целы и невредимы, как и аккордеон, который и вынуть из футляра не успели. Сначала Зиновий Владимирович попал в полевой госпиталь, а затем в санитарный поезд… А остальное вы уже знаете.
– А как это получилось, что его аккордеон оказался у тебя? – прищурив глаза, спросил Алексей.
– А ты не прищуривай свои масляные глазки! Не думай, что тут кроется любовная история или что другое! Нет! Здесь очень и очень печальная история, о которой мне тяжело вспоминать, – Лидочка вновь задумалась, но тут же продолжила: – Он всё время называл меня «доченька» и это уже не было просто так, для красного словца, а казалось, что он и в самом деле уверовал в то, что я его дочь и, видимо, это было ему просто необходимо, да и для меня он стал близким человеком. Ведь я, как и он, одинёшенька на свете и мне так не хватало близкого человека, которого могла бы я, хотя бы в мыслях, называть папой, – она замолчала, опустив взгляд туда, где стоял аккордеон.
– А что было дальше? – снова спросил Алексей, но уже без ухмылки и прищура глаз.
– Он уже пошёл на поправку, чему я была рада. Дважды к нему приходили актёры областной филармонии, и это придало ему сил и надежду, надежду на то, что он вскоре вернётся на сцену, а через два дня после их прихода, ночью у него случился тяжёлый инсульт. Утром я прибежала к нему в палату, где он лежал на спине с закрытыми глазами. Когда я подошла к его койке, он открыл глаза, узнал меня, и у него на лице появилась не то улыбка, не то гримаса, что он вот-вот заплачет. Ведь у него была полностью парализована левая сторона, рука, нога и лицо. Он поманил меня правой рукой, а когда я наклонилась к нему, то, еле-еле поняла, что он просит блокнот и карандаш. Я достала из тумбочки блокнот и карандаш, но он никак не мог удержать блокнот, чтобы в нём, что-то написать, держала этот блокнот я, где он написал, что дарит мне свой аккордеон, поставил дату, расписался и отдал мне. А через два дня его не стало. Он умер ночью, тихо, во сне. Хоронили его сотрудники филармонии. Я тоже была на похоронах и плакала, как плачут, прощаясь с самым близким и родным человеком. Ведь я своих родителей не хоронила, я их просто потеряла, и когда меня спросили, кем я прихожусь Зиновию Владимировичу, то ответила: «Дочь, я его дочь!» И отвернувшись, зарыдала. Теперь я часто хожу к нему на могилку, а когда подсоберу денег, то поставлю памятник и оградку. Вот и вся история этого аккордеона и его хозяина.
Алексей смотрел на Лидочку, словно увидел её впервые, и вдруг притянул её к себе и стал целовать, а она, упёршись руками в его грудь, освободилась от его объятий, приговаривая:
– Нет! Вы только посмотрите! Полез целоваться! Больно мне это нужно! – с наигранным возмущением проговорила она, хотя чувствовалось, что была рада этим поцелуям и, продолжая высказывать своё возмущение, расстегнула чехол аккордеона, вынула инструмент и поставила его Алексею на колени.
– Ну, играй, если можешь, а если нет, то унесу! – повторила она угрозу. – А может, ты и впрямь играть не умеешь, а только целоваться да балагурить? Ну, так как понимать? Обманул? Ну, признавайся!
– Ну, ну! – передразнил он Лидочку. – Попробую! Может, чего и сыграю! – рассмеявшись, ответил Алексей, медленно надевая ремни. Все с интересом следили за его движениями, решая вопрос: «Заиграет, или нет?» А он прошёлся сверху вниз и снизу вверх по правой клавиатуре, проверил басы и регистры, в глазах у него играли искорки радости и задора и, не удержавшись от похвалы, произнёс: «Чудесный инструмент!» – задумался, и вдруг заиграл «Чардаш».
Это довольно сложное музыкальное произведение вырвалось из-под его подвижных пальцев, завораживая слушателей, и чувствовалось, что играет не любитель, а в полном смысле слова – музыкант. В палату, на звук аккордеона, приходили те, кто мог самостоятельно передвигаться, они усаживались на койки по несколько человек и слушали, как играет Алексей. После «Чардаша» почти без остановки зазвучала мелодия песни «В землянке». Эта песня была всем знакома, её пели везде, её пела вся страна. Вот и теперь, в госпитальной палате, десятки голосов пели эту песню, да и не только здесь, где играл аккордеон. Песни звучали везде: пел, радовался госпиталь Великой долгожданной Победе! Одна песня сменяла другую, и вдруг зазвучал чистый, молодой альт, пела Лидочка, и слова этой песни, как бы вливались в душу каждого, кто находился в палате. «Тёмная ночь, только пули свистят по степи, только ветер шумит в проводах, тускло звёзды мерцают». В палате притихли, слушая, как она поёт. А она пела! Она была вся в песне, она жила ею, она переживала всё то, о чём она поёт!
А Николай Любченко ничего этого не видел и не слышал, он лежал в операционной на операционном столе в глубоком наркозе, где ему делали сложнейшую операцию, удаляя из легочной ткани глубоко засевший осколок. Операция длилась около пяти часов и когда Николая привезли в палату, то там уже не было ни Лидочки, ни аккордеона. Все лежали на своих койках, приготовившись к вечернему обходу, а когда обход закончился, то пожилая медсестра, Максимовна, как её называли в госпитале, делала всем процедуры, прописанные врачами.
Время безостановочно двигалось вперёд. День сменялся ночью, ночь сменялась днём и вот так, сменяя друг друга, наслаивались недели, а недели сливались в месяцы. Время шло, а с ним и многие в госпитале шли на поправку. Алексея предупредили, что если всё будет благополучно, то дней через десять он будет выписан из госпиталя.
Утром, приняв смену, в палату, толкая впереди себя столик со шприцами и медикаментами, вошла Лидочка. С шутками, да прибаутками, каждый получил свою порцию уколов и таблеток, а когда был сделан последний укол, Лидочка присела на койку Алексея, который с грустью глядел на неё.
– А что это ты загрустил, Алексеюшка? – улыбаясь, спросила она, а он, не ответив на её вопрос, продолжал глядеть на неё и вдруг, взяв её руку, тихо произнёс:
– Лидочка, выходи за меня замуж! Не гляди, что я инвалид, ведь я всё умею делать, при этом – я музыкант и без работы я не буду, не сомневайся! Мы будем счастливы вдвоём! Ведь я очень и очень тебя люблю, и любить буду всю жизнь, – Лидочка молчала и глядела на него, не отрывая глаз, в которых светилась жалость, радость и что-то ещё такое, какое бывает у людей, которые любят, но боятся в этом признаться.
– Ну, считай, что я согласилась, – засмеявшись, сказала она. – Но, для того, чтобы расписаться, нужна уйма времени. И я ещё думаю, что тебе, «казак молодой», заводить семью рановато! Вот так-то!
Лидочка звонко рассмеялась и собралась уходить, но Алексей удержал её и, держа за руку, говорил:
– Нет, нет! Ты не уходи, прошу тебя! Меня через несколько дней выпишут и уезжать мы должны вместе и только вместе! – он сжимал её руку, глядя на неё умоляющим взглядом, а она вдруг почувствовала, что пришло то, о чём она всё время мечтала и ждала с того самого момента, когда увидела Алексея. А он продолжал говорить: – Я продумал, как всё это устроить! Нужно попросить Натана Матвеевича, чтобы он уговорил начальника госпиталя вызвать представителя городского ЗАГСа для проведения нашего бракосочетания здесь, в палате. Это явилось бы величайшей поддержкой для тех, кто разуверился в своей жизни, и придаст им силу и уверенность в себе, в своём будущем, в том, что они тоже, будут счастливы, как и мы с тобой!
– А ты знаешь, Алексей? Ты не только прав, но и великолепен в своей правоте! Попробую поговорить с Натаном Матвеевичем, может и улыбнётся нам счастье? – сказала и снова рассмеялась Лидочка. И, вдруг, поцеловав Алексея, ушла, а он глядел ей вслед, и силился понять, пошутила она, или этот поцелуй, говорил о том, что она согласна?
Прошло три томительных дня, а утром на четвёртый день вымыли палату, начистили всё, что блестело. Пришёл парикмахер, всех побрил, подстриг. В общем, чувствовалось, что всё к чему-то готовится. Все терялись в догадках, но, как говорится: шило в мешке не утаишь! И по палате прошёл слушок, что кто-то должен приехать, а вот кто?! Этого никто не знал, но когда в палату вошла Лидочка и тихо сказала Алексею: «готовься», то начали догадываться, о чём идёт речь. Всё сложилось так, как мечтал Алексей. Его и Лидочку, зарегистрировали законным браком непосредственно в палате, в торжественной обстановке, в присутствии госпитального начальства и всех тех, кто находился в этой палате, тех, кто радовался от всей души счастью новобрачных и в то же время надеясь на своё!
Вскоре Лидочка и Алексей ушли из госпиталя, ушли навстречу водоворотам тяжёлых, послевоенных лет. Они шли рядом по госпитальному двору. Алексей шёл, опираясь на костыли, а за спиной у него был вещмешок и протез, а Лидочка шла, в шинели, в шапке-ушанке, в сапогах, которые ей подарили на свадьбу, с вещмешком за плечами, неся в руке, в жёстком футляре, аккордеон. Они шли, провожаемые десятками солдатских глаз, глядевших на них из окон госпитальных палат, на молодожёнов тысяча девятьсот сорок пятого года.
Прошло три месяца с тех пор, как ушли из госпиталя Лидочка с Алексеем. Столько же прошло, как Николаю сделали первую операцию. Он перенёс ещё две, но уже менее сложные и теперь шёл на поправку. Хотя дышать ему ещё было трудновато, но несмотря ни на что, он потихоньку с тем же упорством, с каким он всегда добивался успеха, начал осваивать протез, а через месяц уже ходил, опираясь на палочку, которую подарили ему шефы–пионеры, одной из городских школ. С каждым днём он чувствовал себя всё лучше и лучше, а когда в середине сентября тысяча девятьсот сорок пятого года был выписан из госпиталя, то уже ходил так, что глядя со стороны нельзя было и подумать, что у него протез, а не своя нога, на которую он немного прихрамывал.
В горвоенкомат Николай приехал на трамвае для оформления некоторых документов. Решил зайти к военкому, ещё туманно представляя себе разговор с ним. Но, в то же время, надеясь, что он посоветует ему, каким образом остаться в этом городе, потому что возвращаться туда, откуда он ушёл в сорок первом, не мог ни физически, ни морально, да и не хотел быть обузой для своих близких людей, мамы–Тони и Василия Ивановича. Он просто боялся, что у него могут усугубиться последствия всех перенесённых операций, особенно операции на лёгком, с тем маленьким осколочком, который притаился почти у самого сердца, который изъять оттуда никто из хирургов не решался. Дождавшись своей очереди, Николай вошёл в кабинет, отдал честь, чётко произнёс: «Здравия желаю!» и остался стоять у двери. Военком, оторвавшись от бумаг, поднял голову, посмотрел на вошедшего, опирающегося на палочку и, измерив его взглядом, хрипловатым голосом сказал:
– Чего стоишь? Проходи, садись, ведь в твоей палке правды нет! Так что, проходи и садись, раз пришёл на протезе! – и, рассмеявшись, указал на стул.
– Благодарю, товарищ подполковник! – снова отчеканил Николай и, немного прихрамывая, пошёл к указанному стулу.
– Ох, мне эти фронтовики! Только и слышишь: «Здравия желаю! Здравия желаю!» Давай, рассказывай, чего пришёл? – в его голосе таилась простота, располагающая собеседника на откровенность. На первый взгляд, ему было далеко за пятьдесят, а в его улыбке и весёлом смехе проскальзывала доброта простого, отзывчивого, душевного человека. – Ну, чего пришёл и молчишь? Давай, выкладывай!
– Всего как пару часов тому назад – начал Николай, – я вышел за пределы госпиталя, зная наверняка, что меня, безногого, спишут подчистую, а я не хочу уходить на гражданку, а желаю служить Родине так же, как и служил до сих пор. Вот и пришёл к вам за советом и помощью.
– А чего? Уйдёшь в отставку и заживёшь на гражданке счастливой жизнью! – улыбаясь, произнёс военком.
– Да нет! Счастливой жизни не ищу, одно только знаю, что есть труд и долг, а вот на гражданку я и не думаю уходить, у меня там нет ни кола, ни двора! Отец мой погиб в июле сорок первого под Минском, мать расстреляли немцы, а сестру изнасиловали полицаи, и она повесилась. Вот и все мои родные, а других у меня нет и возвращаться туда, откуда я ушёл от немца и неминуемой смерти, не хочу. Хочу остаться в этом городе, где меня возвратили к жизни и жить в нём и трудиться на благо Родины.
– А откуда ты уходил от немца в сорок первом? Сколько же тебе было лет тогда? – поинтересовался военком.
– Неполных семнадцать, а уходил я из небольшого украинского городка и вряд ли, чтобы его название было вам знакомо.
– А чего? Может и знакомо, чего же нет? Ведь я тоже родом с Украины. Так откуда уходил? – говоря всё это, военком укладывал бумаги в ящик стола.
– Уходил я из города Ромны.
– Откуда? Откуда? – переспросил военком, продолжая укладывать бумаги.
– Из Ромён, что на Сумщине, – уточнил Николай.
– Земляк, – тихо проговорил военком, не поднимая головы от ящика стола. – Земляк, – уже громко, глядя на Николая; – Да побей меня гром – земляк! Да ты знаешь, откуда ты? – И, громко рассмеявшись, продолжил: – ведь моя жена, Глаша, уроженка пригорода Ромён! Из Процовки она, да и я десятки раз бывал в Ромнах, а ты говоришь «незнакомо, незнакомо!» Да мы с тобой, считай бок о бок жили! Считай – соседи! Ведь я, Лохвицкий! Из Лохвицы я. Там мои родители и сейчас живут. Оттуда, задолго до войны и призывался! Эх, мать честная! Давай, земляк, выгребай все свои документы и давай их сюда! Думаю, что сумею тебе помочь остаться в этом городе!
Он молча читал поданные Николаем документы, с особым вниманием просматривал наградные, а капитан Любченко в это время глядел на военкома, ожидая его решения. Наконец, тот оторвался от просмотра документов, сквозь очки посмотрел на Николая, как бы что-то решая, и уже без веселого задора, какой был ранее, медленно, по-деловому обратился к нему:
– Вот что, капитан! Вчера у меня открылась вакансия, ушёл в отставку майор Петренко, который занимал должность начальника второй части, и теперь там осталась только лейтенант Шпан Мария Исаевна. Если дашь согласие, то сегодня же доложу вышестоящему начальству и, как только получу положительный ответ, принимай отдел. Ну, так как? Согласен? Николай поднялся и отчеканил:
– Согласен! Благодарю за доверие!
– Да садись! Ещё много времени пройдет, пока всё уладится, не от нас всё зависит. А вот где ты думаешь остановиться, пока будут решать там, наверху, данный вопрос?
– Не знаю. Думаю, что пойду в гостиницу. А больше мне некуда.
– В гостиницу! В гостиницу! Да знаешь, сколько тебе обойдется твоя гостиница?! Ведь это не один день пройдёт, пока оттуда решения дождёшься, – сказал он и пальцем показал на потолок. – Вот что, земляк, ты мой дорогой, пойдёшь жить туда, где до сего времени жил майор Петренко. Это, правда, не так уж близко, но зато бесплатно. Это наше помещение, где одну комнату приспособили под жильё. – Он попросил секретаря разыскать старшину Селезнёва и прислать к нему, а когда тот явился, то приказал:
– Отвезёшь капитана туда, где жил Петренко, разыщи коменданта и передай ему это, – он вручил старшине записку и снова обратился к Николаю: – Ну, капитан, живи там и жди моего звонка. – Они обменялись рукопожатием, и Николай со старшиной Селезнёвым ушли.
Комната, в которой поселился Николай, находилась в здании барачного типа, с одним окном и видом на Волгу, правда, там была ещё одна комнатка, но очень маленькая, где можно было на электроплитке кое-что приготовить. В основной комнате стояла кровать, небольшой стол, два стула и шкаф, который, как видимо, раньше использовался для документов, а теперь был приспособлен под одежду. Прошло уже три дня, как Николай живёт в этой комнате, а звонка от военкома всё ещё нет. За это время он уже успел, благодаря городскому транспорту, ознакомиться с близлежащими улицами и центром этого красивого, со старинными домами, приволжского города, а также он узнал, что совсем недалеко от места его проживания имеется автобусная остановка, откуда он свободно может доехать до военкомата. Это его обрадовало, а вот молчание военкома беспокоило, хотя он понимал, что тот ждёт распоряжения сверху, а они там, видимо, тщательно проверяют его кандидатуру на данную должность, а для этого требуется время и терпение.
Николай возвратился после очередной поездки по городу и уже собирался прилечь отдохнуть, когда вдруг постучали в дверь. Шёл шестой день в ожидании звонка.
– Войдите! – произнёс Николай, опираясь рукой о край стола. Дверь открылась, и в дверном проёме появился комендант.
– Товарищ капитан! – обратился он к Николаю. – Там вас просят к телефону! – сказал и сразу же ушёл. Николай вышел в коридор, подошёл к тому месту, где висел телефон, поднял трубку, которую положил на тумбочку комендант, и произнёс:
– Капитан Любченко у телефона! – в трубке послышался приглушённый смешок, а затем голос военкома:
– Здорово, капитан! Ты знаешь, от чего я рассмеялся, услышав твоё: «Капитан Любченко у телефона?» Вспомнил, как однажды Петренко сказал: «Майор Петренко на телефоне!» – А я спросил его: «А как ты на него взобрался?» Он просто опешил от моего вопроса и долго обиду на меня держал, а я только посмеивался. Ну, что было, то было, а теперь слушай меня! Пятнадцать минут тому назад я послал за тобой Селезнёва, так что собирайся и приезжай! – сказал, и трубка умолкла. Николай немного постоял, держа её в руке возле уха, но она молчала, а в это время по коридору шёл старшина Селезнёв.

