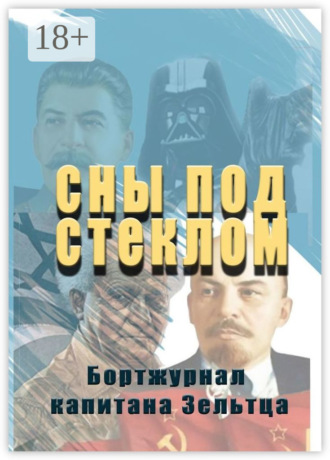
Полная версия
Сны под стеклом. Бортжурнал капитана Зельтца
Лес. За деревьями прячутся немцы. Так мы с Мишкой решили, хотя они орали нам, что немцы – это мы. В моей руке – граната. Мишка шипит возбуждённо: «Давай! Бросай гранату!» Я бросаю. Пивная бутылка, разбиваясь об ствол дерева, фонтанирует зелёными стеклянными брызгами. В этот момент фашист Женька и решил проверить, что мы там замышляем. Подвёл фашиста внутренний голос, с кем не бывает. Прямо над глазом у Женьки появился аккуратненький порез. А через секунду, уже половина лица его залита кровью, непонятно откуда взявшиеся вдруг девчонки с воем несутся к дремлющей в тенёчке воспитательнице. Все мы, и немцы, и русские, шеренгой стоим перед Мариванной.
– Кто бутылку бросал?!
– Я.
Мариванну, похоже, возмутило мое признание.
– Ишь, сразу сознался! Как будто гордится!
Гнев Мариванны может испепелить и меня, и русских с немцами, и весь мир. Мне лучше бы вернуться строй. Всех ведут в садик и объявляют «тихий час». Меня поднимают с раскладушки, куда-то ведут, подталкивая в плечо, хоть я и не думаю сопротивляться или препятствовать следствию. В комнате трое пожилых полных женщин, все похожи на Мариванну, как близнецы. Ниф-ниф, Нуф-нуф и Наф-наф.
– Вот, это он в вашего сына бутылкой бросил! – объясняют они хором какому-то дяденьке в пиджаке. Я прекрасно понимаю, что меня ждет смертельная инъекция или расстрел.
– Ну, он, наверное, нечаянно? – мягко спрашивает дядя.
– Я гранату бросал… – пытаюсь объяснить я. – Ну, не мог я не бросить, там же были немцы…
Дядя удивил меня – он пожал плечами и ушёл.
Глава 19, часть 3. Продолжение «Весёлых картинок»: из мемуаров Марко Поло
Мы в плацкартном вагоне. Пахнет мазутом, жестью, старыми матрасами, людьми и приключениями. Мы едем в Батуми. Пока взрослые заняты своими скучными разговорами, я часами смотрю в окно с верхней полки. Если опустить стекло, сильный поток ветра бьет в лицо. Там, за окном, проплывает жизнь других людей: пассажиров встречных поездов, бабок с мешками семечек на полустанках, деревушек и городков. Вот какая-то девушка вышла на крыльцо своего уносящегося на север бревенчатого домика и помахала мне рукой. Ну, а кому же ещё? Вот проносится с адским грохотом встречный состав. Сквозь жесткий, бьющий по глазам ветер, в мельтешении встречных вагонов, я успеваю заметить лицо пятилетнего мальчишки, шатена с голубыми глазами. Он лежит на верхней полке, подставив лицо ветру. Он слушает биение колес и дыхание двигателя, впитывая проносящиеся перед ним сцены, стараясь не упустить ни малейшей детали. Проводник предлагает чай. Гранёные стаканы, старомодные вычурные подстаканники, белые кубики сахара. Кто-то бренчит на гитаре, кто-то впился зубами в истекающую жиром зажаренную ногу геройски павшей на благо человечества курицы. Унылая очередь в туалет. Педаль измазанного унитаза приоткрывает окно в ещё один мир. Мир мелькающих шпал. На длинных остановках мамуля бесстрашно отдаляется от поезда. Увы, при этом она таскает меня за собой. Я по-настоящему опасаюсь: откуда она знает, что когда мы вернёмся, поезд будет ждать нас? Но он ждал. А мы таскались по разным магазинам, и пятки мои ныли, и сам я тоже ныл, и это страшно раздражало мамулю, и получал я тычки и затрещины с целью успокоения, но, видимо, мало. Потому что успокоение наступало лишь когда мы покидали очередной одёжный или промтоварный магазин. И тогда, на выходе из магазина, возникала надежда, что теперь-то мы вернёмся на поезд. Возникала и рассыпалась, как только зоркие глаза мамули засекали новую цель. Мы ещё не доехали до Батуми, а я уже сыт путешествиями по горло. Марк Аврелий очень точно подметил: жизнь это хаос и скитание по чужбине. Именно по такому сценарию всё и развивалось. Конечно, тогда я ещё не был знаком с Марком и о существовании какого-то сценария не догадывался.
В Батуми, прямо в центре города, по парку бродят ишаки и овцы, лакомясь и без того не самым пышным кустарником. У гостиницы, в которую нас вселили, высится настоящая гора красивых морских ракушек. Воняют они так, что без противогаза приблизиться к этой горе невозможно. А вот противогазы мы с собой не захватили. Потом я вижу такие же ракушки на лотках продавцов. Они уже не воняют, они отполированы и отлакированы, и подписаны витиеватым шрифтом «Привет из Батуми!». На заднем дворе гостиницы, в тени какого-то странного тропического дерева, стоит самое настоящее кресло. В кресле лениво развалился Артур – подросток с колючим взглядом. Он курит сигарету. Я стою рядом. Перед нами стоит на коленях долговязый парень. Он рыдает.
– Прости меня, Артурчик! Ты же знаешь – у меня больная сестра!
Рядом присутствует ещё один персонаж. Такой же долговязый парень, который также умоляет:
– Пожалей его, Артурчик, у него больная сестра!
Я не понимаю, что всё это значит. Рыдающий парень выглядит намного крупнее и сильнее Артура. Почему же он ползает на коленях и рыдает? Мне кажется, что всё это игра. До тех пор, пока Артур не прижигает долговязому щёку сигаретой. А потом даёт ему звонкую пощечину по другой щеке. Долговязый прощён.
– Скажи спасибо ему. – Артур показывает на меня. – Если бы его тут не было…
Долговязый смотрит на меня униженными, слезящимися глазами, целует покоящуюся на подлокотнике кресла руку. Ту самую, которая минуту назад отвесила ему пощечину. Затем, сгорбившись, покидает сцену.
А совсем рядом, за стеной гостиницы, веселилась наша туристическая группа, суетились работники сферы обслуживания, маман готовила набег на местные магазины, администрация гостиницы принимала важные решения, дрессированные работники дельфинария исправно подавали рыбу выпрыгивающим из воды дельфинам, партия и правительство неусыпно трудились на благо простых людей, поджигатели войны размещали баллистические ракеты «Першинг-2» где ни попадя, космические корабли бороздили просторы Большого театра. Чуть дальше, чуть правее, эдак десяток-другой световых лет, в космосе притаилась коварная чёрная дыра, нацелившись на галактику Млечного пути.
Глава 20. Продолжение «Весёлых картинок»: первый звонок, появление летающей тарелки, первая отметка
Я – первоклассник. Я – новенький и всё у меня новенькое. Новенький портфель, новенькие прописи, новенькая, поблёскивающая чёрным пластиком, чернильная ручка. Всё это пахнет необычно, многообещающе. Пахнет новой жизнью. Первый школьный день. Школа имени Пьера Ришара. Или нет, кажется, Николая Островского. Много незнакомых взрослых и очень много незнакомых детей. Все построены в каре перед серым каменным идолом. Голова идола как бы насажена на параллелепипед. Щёки его ввалились, он голоден и требует жертв. Здоровенный десятиклассник сажает на плечо малюсенькую девочку в чёрном платье и в белом фартучке. Её косички уложены кольцами и украшены большими белыми бантами. Девочку колотит от ужаса, но всем кажется, что она задорно трясёт большим сверкающим колокольчиком. Десятиклассник лёгкой рысью движется по периметру каре. Какая-то пожилая тётка начинает выкрикивать что-то в микрофон, неприлично приближая его к накрашенным губам. Пока взгляды присутствующих прикованы к микрофону, десятиклассник завершает свой бег за периметром. Там он роняет девочку с плеча вниз, и слету наподдаёт ей коленом. Девочка теряется в густых кустах акации, из зарослей жалобно звенит колокольчик. Десятиклассник закуривает и спешит на спортплощадку – там друзья уже отхлебывают пиво из трёхлитровой банки.
Летающая тарелка. Мне 7 лет. Я стою на коленях. В руке моей мокрая тряпка. На тряпку налипли пласты краски. Я мою пол. Папуля моет посуду и зорко следит за мной.
– Веселей! Что ты… как в концлагере?!
И действительно, что это я? Разве это не здорово – ползать на четвереньках и драить полы? Не это ли заветная мечта всех детей? Когда мне не удаётся выразить счастье словами или хотя бы мимикой, папуля очень огорчается. Заботливой рукой, он запускает в меня тарелку. Тарелка попадет мне в голову и разбивается. «Хорошо ещё, осколки крупные», – думаю я, продолжая уборку. Ну вот, и папулю расстроил, и тарелку разбил. Надеюсь, он не успел её помыть. Мокрая тряпка цепляет на себя все новые и новые пласты краски. Краска охотно отстаёт от досок, хотя я мою пол обычной водой, а не каким-то там растворителем.
Это первая уборка в новой квартире. Мы расстались с нашими соседями по трёхкомнатной квартире – доброй тётей Шурой и её непутёвым племянником Серёжкой. От Серёжки всегда пахло перегаром и солёной рыбой. Когда, через несколько лет, я спрошу у папы о судьбе наших бывших соседей, он ответит:
– Тетя Шура умерла… А Серёжка спился… и повесился…
Она умерла, а он повесился. А мы получили отдельную квартиру в новой девятиэтажке.
Из разговоров взрослых я понимаю, что остальные жильцы недолюбливают нас, потому что папа не ходил на стройку. То есть, не участвовал в строительстве нашего нового дома. Таковы были социалистические традиции. Хочешь отдельную квартиру в новом доме? Бросай всё, и помогай строителям. Мне не довелось поработать на стройке в России, да ещё зимой. Но могу представить себе, какое это запредельное наслаждение. Папуля, лишая себя радости физического труда на свежем воздухе, лишая себя радости общения со строителями, сидел на работе и стучал на пишущей машинке. Мысли его витали в тех измерениях, которые не доступны среднестатистическому гражданину. То есть тому, кого принято считать «нормальным человеком. Папуля сочинял статьи об истории космонавтики и истории ВОВ. То есть, принимая за истину аксиому, что прошлого не существует, так как оно уже прошло, можно предположить, что интересы папули всецело лежали в сфере несуществующего.
Папуля точно мог сказать, где находилась такая-то дивизия такого-то числа, и кто там был командиром (с 1941 по 1945 год), но смутно представлял, с какого конца нужно держать молоток.
Скажу откровенно, если бы строители узнали бы о технических талантах моего папы, они бы сами попросили бы папулю, чтобы он держался от стройки подальше.
Скажу ещё откровеннее – у моего папы есть настоящий талант приводить всякие механические и электрические аппараты в полную негодность. Или наносить физические увечья самому себе. При этом, папа обожает ремонтировать. Когда я видел его с отверткой в руках, сосредоточенно рассматривающего заднюю стенку телевизора, я знал, что могу лишиться и без того скудных телесеансов на неделю. Пока не позовут настоящего телемастера. А потом я слышал треск электрических разрядов и папа что-то бормотал с досадой. Он никогда не ругался матом, чем порочил, на мой взгляд, звание десантника. Дело в том, что папуля служил в десанте. Служил-то он всего два года, но десант застрял в нём навечно.
Если я пытался объяснить ему что-то, и начинал со слов: «Я думал…», папуля очень резко и сурово обрывал меня: «Тебе думать не положено!» Когда я выражал неповиновение, он мог сказать мне: «Ах ты, говно! Подонок!» Он мог дать затрещину. Но не более того. И когда его било током или когда молоток попадал ему на палец – он не ругался. Мне кажется, его это даже радовало. Он, таким образом, выходил из игры. Нельзя требовать продолжения ремонта от травмированного человека. Когда папуля, ещё на «старой квартире», занялся побелкой потолка, это закончилось поездкой в травмпункт. Он ухитрился упасть с двухметровой высоты, спиной, аккурат на острую коническую рукоять большой малярной кисти. Кисть стояла в жестянке с краской, на полу, терпеливо поджидая свою жертву. И вошла в папину спину всего в 3-х сантиметрах от позвоночника. Помню обильно заляпанную кровью белую рубашку, тусклое освещение в травмпункте, заплёванный и загаженный окурками снег у входа. Кажется, мамуля со временем поняла, что она может легко лишиться преданного мужа, и тогда для всяких ремонтных работ стали нанимать кустарей-одиночек. На пролетарском фоне нашего района это выглядело дико. Если ты не можешь самостоятельно построить гараж или перебрать мотор «жигуля» – тебя будут считать инвалидом. Поэтому, когда мамуле надоела отваливающаяся пластами краска со стен и с пола, в нашей новой квартире, в нашем новом, только что выстроенном доме, появился Борис Алексаныч. Он появлялся то в единственном числе, а то с коллегами. Дощатый пол очень быстро стал покрываться где авиационной фанерой, а где – дефицитным линолеумом. Из разговоров взрослых я понимал, что какие-то трения и разногласия нарастают между работягами и мамулей, но ремонт продолжался и в атмосфере «холодной войны». Теперь по фанерным фрагментам пола водить тряпкой было легко, и уборка продвигалась быстро. Линолеум же был пористым, и отмыть его было подчас сложновато. Кроме того, у папули появились адмиральские замашки – он требовал, чтобы я чистил зубным порошком жестяные полоски, закрывающие стыки линолеума. После того, как я отрапортую об окончании работ, папуля будет водить пальцем за диваном и по самым верхним полкам, и если найдет пыль…
Первая отметка. Холодный серый день, я возвращаюсь из школы. Тротуар припорошен жиденьким ноябрьским снегом. Где-то, на пол-пути между школой и домом, стоит фанерный домик, который строители ещё не успели разобрать, а может быть, специально оставили для меня. В моём новеньком портфеле новенькая пропись. В новенькой прописи – совершенно новенькая, неожиданно жирная двойка. Я захожу в фанерный домик и закрываю за собой дверь. В домике на удивление чисто и пусто. Я сижу на фанерной скамеечке. Через маленькое, сплошь покрытое криптограммами инея окошко пробивается матовый свет. Окоченевшими пальцами вынимаю тетрадь и долго рассматриваю каллиграфическую, выведенную красными чернилами, жирную двойку. Я не могу понять – за что, и не могу понять, как мне теперь возвращаться домой. Не могу поверить, что это случилось со мной. Очень страшно и хочется плакать. Холод. Я дождусь темноты, а потом, в темноте, я проберусь в бродячий цирк и уеду на гастроли. Я стану цирковым силачом и буду укрощать слонов.
Глава 21. Продолжение «Весёлых картинок»: в мире Гармонии
На задней лестнице Дворца Культуры царит полумрак. Трое бледных первоклашек с гармошками-однорядками сидят на маленьких табуретках на лестничной площадке. Фальшивя через ноту, они разучивают «Я на горку шла». Один из них – я. Багровые меха сжимают и разжимают пространство и время, изменяя структуру эфира, передвигая астралы. Движение объекта на горку то ускоряется, а то и вовсе обрывается на самом интересном месте. Я не люблю гармошку, и на меня нагоняет тоску пиликанье во мраке задней лестницы Дворца Культуры. Мне не нравятся гармонисты. Их много, они разных возрастов, но любовь к рабоче-крестьянскому юмору объединяет их. Наши чувства взаимны, и между нами, таким образом, царит полная гармония.
Иногда гармонисты дают концерты перед суровыми тружениками оборонных предприятий. И те, у кого получается играть без ошибок, и все остальные выстраиваются полукругом в два ряда. Малышня сидит в первом ряду, матёрые гармонисты стоят у них за спиной, выполняя важнейшую дуалистическую роль. Для зрителя они как бы приятный, сверкающий улыбками фон. Для малышни они напоминание, что лишних звуков издавать не нужно. Достаточно прижать воздушный клапан большим пальцем левой руки, и тогда гармошка перестанет пищать, а будет совершенно безвредно сжиматься и растягиваться, без малейшего риска испохабить стройные и гордые полихроматические аккорды «Волжских Переборов». От нас требуется лишь задорно смотреть в публику, лихо и бесшумно двигая меха, и улыбаться как можно более соблазнительно. И для гарантии 100% успеха, в центре второго ряда располагается трио баянистов. Надёжные, как артиллерийская батарея, они покроют всю производимую остальными фальшь. На каждое движение мехов улыбка увеличивается на сантиметр в ширину и на сантиметр в длину, а соблазнительность её возрастает на 2 джоуля.
Больше всех публике нравится вихрастый и улыбчивый Пашка. Да и старшие гармонисты обожают его. У меня же улыбка всегда получалась вялая, как будто я уже тогда четко представлял себе будущее страны гармонистов. Даже и сейчас, стоит мне взять в руки гармонь – улыбка тут же принимает отрицательное значение. Отсутствие улыбки мне не прощалось. Главный гармонист, Грандмастер Гармонии, ненавидит меня, но почему-то продолжает терпеть моё присутствие в коллективе. У него нет одной ноги, и он, проворный как Джон Сильвер, внушающий ужас малышне, шкандыляет на протезе, преодолевая два этажа без лифта вниз и вверх, и вообще, в любом направлении. Всякий раз, когда я поднимаюсь по ступенькам и приближаюсь к двери вертепа лихих гармонистов, тоска сжимает мне сердце и волны отрицательной энергии отбрасывают меня на ступеньку назад. Я надеюсь, что как-нибудь Грандмастер Костяная Нога отчислит меня, но этого не происходит. Я, со своей стороны, также не могу прекратить этот мазохизм, так как получены чёткие указания от директора Дворца, он же моя мамуля. Когда-то статус гармониста считался очень престижным, почти как статус всадника в Римской Империи.
Глава 22. Продолжение «Весёлых картинок»: здесь рассказывается о силе таланта, социальных интеракциях и педагогических секретах
По пустому коридору Дворца Культуры иду я, собственной персоной. В широком коридоре с высоченными потолками гулко звучат мои шаги. Дворец как будто вымер. В самом деле, он вымер, но лишь частично. Из-за закрытых дверей зрительного зала доносятся мощные бравурные аккорды песни «Арлекино». Я уже заглядывал за сцену и видел там рыжую молодую девицу-певицу с весёлыми ребятами. Так мама их назвала. Ну, они и впрямь, выглядели совсем не грустными. В комнате за сценой, куда я заглядывал, и где эти приезжие артисты готовились к выступлению, меня поразило огромное количество пустых стеклянных бутылок. Бутылки стояли нестройными рядами по углам комнаты, невнятно бормоча, перекатывались по полу.
– Вот что значит – талант! – сказал звукотехник Кутузов. – Столько выжрать, и играть без ошибок!
Папа ведёт меня в цирк. Мы едем 40 минут на трамвае, и вот – необычное куполообразное здание с металлическим фонтаном-одуванчиком перед главным входом. Мы сидим в первом ряду. Тяжёлый едкий запах исходит от копошащихся на арене животных и людей. Лица артистов с приклеенными улыбками блестят от пота. В антракте я получил от папы пригоршню мелочи и отправился в буфет. Очередь в буфет безнадёжна и бесконечна. Высокий широкоплечий мужчина в белом костюме вклинивается передо мной. Заметив, что я не собираюсь отступать, он говорит мне высокомерно:
– Э, малчик, я здэсь стоял, слющай да?! Зачем бэз очередь лезть?!
Сердце моё бьется так, что я чувствую пульс крышкой черепа. Чувство обиды разливается чёрной волной внутри меня. Я выхожу из очереди и возвращаюсь на своё место в первом ряду. Мне уже не хочется смотреть представление и я понимаю, что совсем не люблю цирк.
Школа. Толчея на первом этаже. кто-то пытается пробиться в буфет, а кто-то – из буфета. Некоторые держат в руках «языки» – плоские, посыпанные сахаром мучные изделия из слоёного теста. Издалека они больше похожи на тапок. Увидеть их вблизи мне не довелось. По идеологическим соображениям, денег мне в школу не дают. У самого входа в буфет стоит маленький чернявый шкет. Одной ручонкой он цепляет проходящих мимо детей, другой – бьёт жертву в плечо.
– 10 копеек есть?!
– Не…
– А если найду?!
За спиной шкета скучают двое ребят покрупнее, поэтому шкету никто не отвечает насилием на насилие.
На втором этаже, там где обучаются самые юные школяры, похожая ситуация. По просторному коридору прогуливается пожилая завуч с лицом оголтелой американской военщины и каждому пробегающему малышу бьёт кулаком по голове со словами:
– Я же сказала – не бегать!
Ах да, один нюанс – в кулаке завуча зажат большой, как у Буратино, ключ. Должно быть, от школьной сокровищницы.
Половина восьмого утра. Уныло плетутся мрачные школьники. У каждого, кроме портфеля, мешочек со сменной обувью. Без «сменки» в школу может войти только учитель или отъявленный бандит. Бандит входит в школу стремительно, не глядя на смутившуюся дежурную училку, оттолкнув каменным плечом дежурную пионерку. Говорят, что однажды, много лет назад, завуч вызвала мать Бандита в школу. Их встреча состоялась на крыше школы, где мать отдубасила завуча ручкой от швабры. Чтобы спастись, завуч-де была вынуждена инсценировать собственную гибель, бросившись с крыши и провисев на одной руке, зацепившись за самый краешек карниза, покуда мать не покинула территорию школы, помахивая ручкой от швабры и унося с собой трофей – правое ухо завуча, которое она, мать, успела-таки оторвать у неё, завуча, своей заботливой материнской рукой. Меня удивило, что завуч висела на одной руке, но мне объяснили, что ничего удивительного тут нет, так как другая рука у неё всё время зажата в кулак, а в кулаке всё время зажат большой железный ключ. Тот самый, которым она долбила по непутёвым головам непутёвых учеников, которые никак не поймут, что бегать по коридору школы – нельзя. Потому что, хотя коридор и длинный, и широкий, но там может оказаться какая-нибудь пожилая женщина. Завуч, например. Ну, вы понимаете все страшные последствия такого ужасного сценария. Ученик же может получить от неё в дыню, да ещё с применением спец. инвентаря, такого, как большой железный ключ.
Я принят в октябрята. Мне трудно поверить, что так вот, за здорово живешь, Родина удостоила меня такой чести. К нам в класс пришли пионеры и очень торжественно прикололи каждому Избранному красную звёздочку. Мальчикам – на лацкан пиджака, девочкам – на бретельку фартука над левой грудью. Потому что именно левой грудью был вскормлен Владимир Ильич Ленин, и все прогрессивные движения – левые. Пять лучей звёздочки символизируют Святую Троицу, Партию и Правительство. Чтобы оправдать доверие Родины, дома я марширую по комнате и разучиваю наизусть «Варшавянку». Музыка Раймонда Паулса, слова Хичкока.
Глава 23. Продолжение «Весёлых картинок», в котором я ждал гостей, но дождался совсем другого
Воскресенье. 9 сентября 197* года. Папа сказал, что сегодня приедут гости. Всё утро я ждал гостей, сидя на подоконнике, и дождался – гости не приехали, зато страшно разболелся живот. Наверное, действительно сильно болело, потому что не склонная к сантиментам мамуля вызвала «скорую». Скорую ждали часов 5. Когда врачиха вошла в комнату я спросил её:
– Вы гробик не захватили с собой?
Врачиха насупилась и огрызнулась невнятно. А минут через 40 я оказался в 3-й гор. больнице с диагнозом «острый аппендицит». Несколько раз мой живот ощупывали всякие доктора, обязательно при этом стягивая с меня трусы, что очень меня смущало. На моём лице чёрная резиновая «маска», мне приказано считать. Я считаю.
– Да что же это он так долго! Ну-ка, дай ему ещё!
Это про меня. Я всё не отключаюсь, а хирургу уже не терпится меня взрезать. Уже нагрелся видавший виды, чуть заржавленный скальпель в потном кулаке эскулапа.
Просыпаюсь в палате. Там, кроме меня, ещё трое, все малыши. С каждым малышом, конечно, его мамаша. Из-за толстых мамок в палате совсем тесно. Одна из мамаш спит, мухи облепили её полуоткрытые толстые губы. Кормёжка в больнице рассчитана на то, чтобы пациенты не задерживались. В тарелке плещется нечто белое и жиденькое. Вкус передать невозможно, обычная вода из-под крана куда вкуснее. Папа пришёл навестить, он стоит на улице, перед окном палаты. В больницу его не пустили – не положено. Под каждым глазом его свежие синяки. Наверное, из-за синяков и не пустили, очень уж подозрительно. От людей с синяками на лице всего можно ожидать. Папа подрался с хулиганами в трамвае. Обычное дело.
Папа передал мне термос с куриным бульоном. К бульону мамуля просила передать мне, что когда ей удаляли аппендикс, так вообще обезболивания не делали. Мамуля всю операцию наблюдала как хирурги роются в её розовых кишках и шутила с персоналом так весело, что один уронил инструменты непосредственно в её брюшную полость, а второй, валялся в судорогах (от смеха) под столом и укусил первого за голень.
Живот ноет, каждый шаг отдаёт волной боли. Покакать просто невозможно. Прошла неделя, а меня не собираются выписывать – швы воспалились. Папа под окном говорит, что это из-за того, что зашивать меня доверили практиканту. Отчаявшись заполучить сына обратно, папа предлагает мне совершить побег. Я кое-как забираюсь на подоконник, свешиваю ноги наружу. Папа ловит меня и мы идём на трамвай.
В школе меня взял под опеку Витёк. Он узнал, что мне нельзя поднимать тяжести, бегать, прыгать. Теперь он ходит рядом со мной и предупреждает приближающихся ко мне детей:
– А этого бить в живот нельзя!
– А куда можно?
А один ребенок поинтересовался:
– А почему нельзя?
– А ему аппендицит вырезали!
– Чё?! Письку вырезали?!
Ребёнок радостно засмеялся, показывая на меня пальцем, и помчался по коридору, потрясённый собственным Эдипальным конфликтом.

