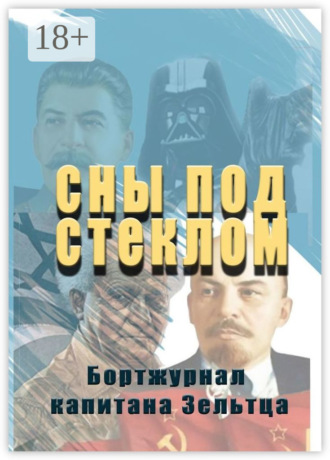
Полная версия
Сны под стеклом. Бортжурнал капитана Зельтца
– Как это – замёрзла? Она ж под одеялом была!
– Ну, наверное, нужно ещё одно одеяло… Вон то – синее…
Синюю синтетическую ткань у нас использовали для упаковки трупов. Трупы в Израиле не вскрывают, для вскрытия требуется специальное разрешение от соответствующих органов. Поэтому умерших в больнице просто упаковывают в синий синтетический брезент, приходит батюшка и утаскивает их в морг. Израильский морг, кстати, отличается от русских моргов своей эстетичностью. Никаких там тебе столов и заштопанных мертвяков. Стена, в ней никелированные дверцы холодильных камер, внутри по полочкам разложены клиенты. Одна дверца – одна полочка – один клиент. Чистота и порядок.
Под бабушкой Ривой оказалась лужа крови.
– А ну ка, поверни её, – скомандовала Мона, намереваясь обтереть бабушку со спины мокрой губкой.
Я взял мраморную бабулю за плечо и повернул её на бок, лицом к себе. Бабуля булькнула горлом и изо рта её хлынула бурая жидкость. Вытекло литра три, не меньше.
– Ты что творишь?! – зашипела на меня толстая Мона. – Ты же доктор?!
– Эх, Мона… Почему ты не Лиза?
– Нам теперь придётся её целиком мыть!
Мона явно расстроилась, но выхода не было. Не оставлять же в палате труп в луже крови. По крайней мере, Рива теперь не пожалуется, что вода холодная, по морде тебе не треснет, пока ты вытираешь ей ноги, и орать не станет. Упокой, Господи, её душу. Через минуту после помывки прискакал батюшка в чёрном плаще и уволок тело в свои никелированные угодья.
Вот помыт, одет и причёсан последний пациент. Начинается раздача завтрака, и ты опять на бегу. Поднос-туда, поднос-сюда. А кроме того, нужно покормить тех, кто не в состоянии кушать самостоятельно.
И уже болят от беготни санитарские копыта, а день только начинается.
Вот в на середину палаты выехал в кресле дедушка Гриша. Наш, русский дедушка, Григорий Моисеевич Кугелаггер.
– Здоров, Григорий, – говорю. – Кушать подано!
Не подумайте, что панибратствую, боже упаси. В Израиле никого не называют по отчеству, нет такой формы обращения, и формы «вы» тоже нет.
А Гриша внимательно глядит в потолок и отвечает мне задорно:
– Слышь, Женя, принеси мне куртку!
И переводит взгляд в мою сторону, но глядит не на меня, а куда-то ЗА меня. А за спиной моей стена и дверной проём, но нету там никого. Да и я – вовсе не Женя.
И продолжает старик Григорий разговор.
– Мне б только подняться…
– И что тогда?
Он тычет в потолок:
– Груши видишь какие? Груш бы себе нарвал… Куртку мне принеси!
У меня нет времени беседовать с Гришей на сюрреалистические темы. Я передаю старшей сестре информацию о грушах на потолке 106-й палаты и продолжаю свой галоп по отделению.
– Эй, доктор! – орёт на весь коридор Мона. – Сгоняй-ка на кухню по-быстрому, нужно ещё салат из авокадо принести!
На кухне кипит работа. Дородная женщина месит руками салат из авокадо в огромном тазу. Помесив несколько минут, она тщательно вылизывает руки, обсасывает каждый палец и вновь продолжает месить салат. Сдобренный слюнями салат отгружается по отделениям, и вот, пожалуйста – требуют добавки!
Бегу обратно, навстречу мне по коридору бежит дед Григорий.
– Эй, ты куда?
– Я туда не вернусь, там одни фашисты!
Возвращаю Григория в отделение. Бегу в лабораторию, навстречу мне, с улицы, степенно вступает дед Григорий. Он уже успел покинуть отделение через окно, заметил, что и на улице полно фашистов, и решил вернуться. Спрыгнув со второго этажа, восьмидесятилетний старикан ухитрился ничего себе при этом не сломать.
– Григорий, да ты просто спайдермен!
Григорий отвечает мне длинной тирадой на идиш.
– Геен, геен, – отвечаю я ему и возвращаю Григория в отделение. Там его уже поджидает психиатр – высокая эффектная женщина-вамп. Под небрежно наброшенном на плечи халатом элегантный костюм, впрочем, не скрывающий форм. Дабы не превращать дневник в порнографию, не стану углубляться в детали. На запах «Кензо» слетелись не только доктора мужеского полу, но и санитар из соседнего отделения и водитель больничного микроавтобуса.
– Поди-ка сюда!
Это мне. Старшая сестра ставит передо мной боевую задачу:
– Уходит «ходячий» больной из 110-й палаты. Его кровать, тумбочку и кресло рядом с тумбочкой надо помыть дезраствором (Chlorhexidine Gluconate 1,5% + Cetrimide 15%, если кому-то интересно), на его место «поднимают» нового пациента. Чтобы всё было готово за 5 минут!
Я знаю, что Старшина придёт потом проверять качество исполнения, и будет заглядывать в тёмные углы, и водить пальцем по самым нижним панелям тумбочки и кровати. С креслом проще – там только протереть спинку, сиденье и подлокотники.
«Ходячий» больной уходить не собирался, однако. Это был настоящий даунообразный монголоид североафриканского происхождения. Он лежал на кровати и скандалил:
– Что, вышвыривают меня?! Не выйдет! Мне идти некуда! Не встану с кровати!
Прибежала старшая. Лестью и посулами ей удалось вывести монголоида из палаты. Но вытурить его из отделения не удалось. Он долго ещё шумел в коридоре, пока охранник не выволок его за локоть.
До обеда оставался ещё час и меня отправили помогать в реанимационную палату. Там всегда тихо. Посапывают аппараты ИВЛ, попискивают монотонно мониторы, скучает юная медсестра Лора. Закрываем дверь и занавес, начинаем помывку живых трупов. Я ворочаю тело «на себя» или «от себя», а Лора обтирает их влажной мочалкой, меняет подгузники, натирает их кремом. В процессе работы выясняется, что на Лоре отсутствует лифчик. Уловив мой взгляд, она выпрямляется и с торжествующей улыбкой начинает позировать, выставляя свой бюст в самом выгодном ракурсе. Вот чертовка!
Раздача обеда. Опять беготня с подносами по палатам, болят копыта, и ты стараешься при каждой возможности или присесть, хотя бы на секунду, или хотя бы прислониться к стене. Строптивый монголоид ещё успевает получить порцию обеда, а вот старика Григория уже нет в отделении. Пока раздавали обед, Григорий сбежал от фашистов на улицу и заскочил в ожидающее кого-то у ворот такси. Перед побегом он прикарманил одноразовый пластиковый ножик, годный лишь на то, чтобы размазывать майонез. Усевшись в удобное кожаное сиденье, Григорий пристегнулся, взмахнул одноразовым ножом, как бы указывая таксисту путь, и заорал по-русски:
– А ну, гони!!!
На Григории была лишь больничная распашонка с бантиками на спине, едва доходившая ему спереди до колен и никак не соответствующая погоде.
Видимо, сочетание голых стариковских коленей, одноразового ножа и трагической экспрессии в голосе Григория вызвало у таксиста подозрения. Водила явно перетрухал и выскочил из машины, захватив, однако, ключи и заперев пультом своего несостоявшегося похитителя внутри машины.
Через полчаса приехали копы и бесстрашно обезвредили деда Гришу, изъяв у него оружие.
После коротких переговоров между копами и старшей сестрой, Григорий остался без обеда и отправился прямиком в психбольницу.
Раздача обеда тем временем закончилась, и нужно было опять пробежаться по палатам и проверить – кого необходимо покормить с ложечки. Обычно таких клиентов имеется с пяток, но их берут на себя санитарки и добровольцы. После обеда, с часу до двух, иногда до трёх – последний аккорд: старшая начинает тасовать пациентов в списке. Кровати и тумбочки выписанных и усопших нужно помыть дезраствором. А помыв – перетащить их (кровати и тумбочки) в палаты для вновь прибывающих из приёмного отделения. А из этих палат перетащить кровати с пациентами и со всем их барахлом в другие палаты. Начинался настоящий хаос. Сколько драм разыгрывалось клиентами, не желающими покидать уже обжитую палату! Старшая носилась среди курсирующих по отделению кроватей и тумбочек и вела тонкую дипломатическую игру с клиентами, и чаще всего – весьма успешно. И вот я толкаю отдраенную мною снизу и сверху металлическую кровать, застеленную новым бельём, и хочется мне прилечь на эту кровать и задрать ноги на каретку. Бывают такие безумные фантазии.
В заключение смены приходит партия чистого белья из прачечной и санитарка Вардит приглашает меня помочь ей разложить барахло в кладовке. В кладовке не развернуться. Вардит женщина крупная, с мужской фигурой и крупными чертами лица. Она разведена и видно, скучает. Разговор заводит она об очень важном для неё вопросе:
– Скажи, а я слышала, многие приезжают из России необрезанные?
У меня с Вардит хорошие отношения, и мне не хотелось бы делать их лучше или хуже. Как бы то ни было, я всего лишь пару месяцев в Израиле и понимаю иврит намного лучше, чем могу на нем изъясняться. Мое гугуканье разрушает романтическую атмосферу. Вардит вздыхает, бельё уже разложено и мы мирно расходимся.
Вечерняя смена задерживается на 10 минут, которые кажутся очень длинными, недаром народная мудрость гласит, что самый длинный конец – у рабочего дня. Дождь кончился. На лавочке у ворот сидит изгнанный из отделения утром монголоид. Я спешу домой, безрадостно сознавая, что уже очень скоро, в 11 часов вечера, пройду через эти ворота вновь.
Глава 13, в которой продолжается рассказ о трудовых буднях санитара
Как это часто бывает в субтропиках, яростный ливень и штормовой ветер вдруг прекратились, небо было безмятежно-голубым, солнце оптимистично сияло и припекало совсем не по-зимнему. Мне хотелось взлететь в это безмятежное небо, воспарить… да вот ноющие пятки мои были слишком тяжелы. Они прочно соединяли меня с Земным Шаром и сами собой двигались по направлению к дому.
Всю дорогу передо мной маячила крупная фигура санитарки Эйтаны. Она, как была в синем санитарском халате, так и топала в нём домой по улице, лишь накинув сверху болониевую безрукавку. Сзади я мог видеть её мощные, как у штангиста, обезображенные узлами варикоза икры.
В «слободке» были гости. Митяй и с ним две дамы. Митяй рассказывал о том, как он чуть было не влип в историю. Речь шла о таком банальном предмете, как мебель.
Один из нюансов эмигрантского быта – охота на новую выброшенную мебель. Есть такие милые районы, где живут адвокаты, дантисты, директора фирм и серьёзные бандиты. И бывает, проезжая по такому району, натыкаешься на совершенно новые диваны или шкафы, выставленные на улицу за ненадобностью. У Митяя на этот случай в авто всегда были наготове тросы, резинки и багажник на крыше. Практически вся мебель в его квартире и в «слободке», а позже и в моей квартире, была «с выставки».
Митяй рассказывал:
– Прикинь, вижу – выставили кожаный диван и два кресла! Паркуюсь, смотрю – всё новяк! Достаю тросы, прикидываю, как мне этот диван затащить на крышу… А тут из дома выходят грузчики, и забирают и диван и кресла в дом! Вышли бы они на пять минут позже…
Мы вели светскую беседу на балконе, когда на сцене вдруг появился художник Яков и, потирая руки, возвестил:
– Ну что ж, всё готово!
Все уставились на Якова. Тот сделал широкий приглашающий жест в сторону своей комнаты. Никто не двинулся с места.
– Вы же сказали, что хотите заказать у меня портрет! – сказал Яков, обращаясь к одной из дам. В голосе художника звенела обида. Тут все разом припомнили, что действительно, где-то месяц назад, наш Пикассо рекламировал апдейт своей «женщины на быке». Собственно, апдейт заключался в том, что художник продолжил работу над молочными железами изображенной на рисунке дамы, раз от разу добавляя им объем и блеск. Понятно, что женщина с таким бюстом передвигаться могла только на быке или на тракторе.
Сиськи на быке предлагалось приобрести по символической цене. Покупателя на этот шедевр среди нас не нашлось, но Митяй пообещал художнику поспрашивать у знакомых – не найдутся ли желающие заказать портрет. Впечатлительный Яков фантазировал, что сорвёт гигантский куш, нарисовав портрет прекрасной и богатой незнакомки. Увидев Митяя в обществе сразу двух незнакомок, Яков воспринял это как сигнал к действию. Он бросился откупоривать краски, готовить кисти и расставлять мольберт.
– Прикоснёмся к прекрасному! – зазывал публику вдохновенный художник.
Увы, прекрасные незнакомки не спешили заказывать у Якова портрет. В особенности, после ознакомления с его шедевром «Похищение Европы». Не отрывая испуганного взгляда от чудовищно распухших молочных желез Европы, незнакомки лепетали что-то о маме и о своей неготовности прикасаться к прекрасному.
Вечно румяный и загорелый инвалид по сердечным болезням, Яков сделался совсем красным. Надутые губы его задрожали. Казалось, он потребует сатисфакции… но он всего лишь убежал и закрылся в комнате. Митяй и его спутницы тоже покинули нас, совершив предварительно несколько традиционных кругов по квартире – в поисках бумажника и ключей от машины. Я остался наедине с мороженой камбалой и сухими бобами. В тот день меня ожидала ночная смена, и надо было бы поспать, да жалко было тратить время на сон. Я решил навестить Машу и Витю – молодоженов, с которыми познакомился на курсах иврита.
Вечерние курсы иврита я посещал ровно пару недель. Публика там была разношёрстная: степенные пожилые дамы, вечно всем недовольные и переспрашивающие каждое новое слово по 10 раз. Семейные пары разных возрастов, в том числе Маша и Витя (ребята моего возраста) и пара художников (оба очень похожие на армян, с огромными печальными глазами на смуглых, обрамленных иссиня-чёрными локонами лицах). Красномордые мужики-работяги, бывшие кадровые военные. Любопытно, что группа эмигрантов из Украины держалась особняком, не желая иметь ничего общего с «москалями». Вместе с салом и горилкой они привезли из Малороссии и традиционный привычный и любимый образ врага. На курсах я не задержался, трудно было сидеть в классе. То меня накрывало свинцовыми волнами сна (после утренней смены), то раздражали переспрашивающие всё по десять раз старушки. Маша и Витя почему-то прониклись ко мне дружескими чувствами и зазывали в гости. Маша была жгучей брюнеткой с аппетитными формами. Витя был подростковой комплекции, с мелкими чертами лица, со светлыми глазами и русыми кудряшками. Он напоминал мне маленького Ленина, каким его увековечили на октябрятской звёздочке. А жили они в соседнем доме. Длинный коридор-галерея был застеклён с одной стороны и предоставлял восхитительный вид на стену соседнего дома. На другой стороне располагались двери многочисленных съёмных комнатушек. Заканчивался этот коллектор маленьким, но уютным, салоном с диванами, столом и телевизором. Эдакий андроидный улей. Действительно, из салона доносился весёлый разноголосый гомон. Машу я заметил сразу – она возвышалась на одном из диванов. Возвышалась, поскольку сидела выше прочих отдыхающих. Приблизившись, я заметил, что между диваном и Машей находятся колени какого-то молодого джентльмена. И видно было, что чувствуют они себя весьма непринужденно, несмотря на присутствие ещё нескольких молодых джентльменов. На столе стояли пивные бутылки, стаканы, тарелки с борщом. Ощущение хаоса дополняли разбросанные карты. Потные розовые лица повернулись ко мне, и я незамедлительно получил приглашение к столу. Никто не поинтересовался целью моего визита или, хотя бы, как меня зовут. Маша узнала меня и весело замахала мне рукой:
– Давай, давай, садись!
– А Витя где? – спросил я, стараясь не выдать удивления.
Мой вопрос вызвал взрыв хохота, что озадачило меня ещё больше. Просмеявшись, один из персонажей ткнул пальцем под стол. Там, на какой-то подстилке, лежал Витя. Он явно был пьян. С по-детски пухлых губ его текли слюни, на светлых шортах чётко выделялось большое мокрое пятно.
– Обоссался наш Витёк! – радостно сообщили мне.
Я решил закончить визит и откланялся, публика неодобрительно пошумела, но за рукав хватать меня никто не стал. От визита остался у меня очень неприятный осадок, и более Машу с Витей я не посещал. Да и курсы иврита пришлось оставить – работа была важнее.
Через много лет, я встретил Машу в магазине. Она прибавила в весе, раздалась в плечах и в бедрах. Маша сообщила мне, что работает продавцом, одна воспитывает ребёнка. От кого ребёнок и что стало с Витей, я выяснять не стал.
Но вернёмся ко Дню санитара.
Покинув «андроидный улей», на улице я столкнулся нос к носу с тинэйджером Лёней. Визаж у Лёни был а-ля Юрочка Шатунов. Годков ему было 20 с небольшим, но выглядел он на все 17.
– Пошли в «каньон», по пивку двинем.
У меня ещё оставалось время. От пива я сразу отказался, но составил Лене компанию. На втором этаже «каньона» были разные общепитовские заведения – пиццерии, «Макдональдс» и просто кафе. Гремела музыка – мелодии и ритмы зарубежных стран. На свободном от столиков пространстве топталась в такт молодежь. Лёня плюхнулся за столик и достал сигарету. Не глядя, он сунул руку в толпу танцующих и притянул за шкирку какого-то мальчугана.
– Зажигалку! – процедил Леня на иврите.
– Щас принесу! – услужливо отозвался подросток.
Лёня не отпустил его, а отшвырнул от себя в толпу танцующих.
– И чтобы быстро! – рявкнул Лёня.
– Ты чего так круто? – спросил я.
Мне всегда неприятно, когда унижают или обижают кого-то. Не важно кого и не важно за что.
Лёня криво улыбнулся:
– А пусть боятся.
Буквально через пару минут подросток вернулся с зажигалкой и подобострастно поднес язычок пламени к Лёниной сигаретке.
Ожидание ночной смены тяготило меня и не давало расслабиться. А может быть, все эти мелкие и неприятные эпизоды проходящего дня тяготили меня? Всё это конкретное и метафорическое дерьмо. И если вы спросите – я выбираю дерьмо конкретное. От него легче отмыться. Занятый такими радостными мыслями, я погрёб к дому, оставил Леню вкушать пиво и наслаждаться собственным величием.
Глава 14. Ночь санитара
Есть в ночных сменах своя прелесть. Например, ночью больные спят (в основном), и намного меньше трахают мозги усталому персоналу. Утром, когда все нормальные люди приходят на работу, ты уходишь с работы. И весь день у тебя впереди. Это при условии, что тебе не влепили вечернюю смену, разумеется. В больнице на ночных сменах особенно не расслабишься – есть масса рутинной работы по наведению чистоты и порядка, сортировке инвентаря, и прочая и прочая. Кроме того, всех «лежачих» больных нужно поворачивать с боку на бок каждые два часа. А если старшая по смене хочет выслужиться перед начальством (на спинах подчинённых, заметьте), то под утро, часиков в шесть, начнется помывка в «лежачих» палатах. Шоб служба мёдом не казалась! Интересно, а если её, ретивую старшую смены, если её саму в шесть утра выдернуть из теплой кроватки, да голой жопой на холодный пластик кресла-каталки, да под душ… И не тот это душ, под которым можно стоять и париться, и кайфовать. Это скоростной, бодрящий душ. Раз – окатили водичкой. Два – намылили. Три – смыли. Так что, со временем, вся эта ночная романтика мне изрядно поднадоела. Ночь. Нож! Три кастета! Нет, это из другого жанра.
Ночь. Мы, не спеша, переходим от палаты к палате. Старшая вечерней смены торопливо рапортует около каждого пациента. Она торопится «сдать» смену – и домой. А время-то уже – двенадцатый час. Пока она доберётся домой, горемыка, пока помоется, смоет с себя миазмы… Первый час ночи… А потом – приступ обжорства. За несколько секунд уничтожит плитку шоколада и большую коробку конфет. А потом – раскаяние, мысли о лишних килограммах и килокалориях. Рвота над унитазом… Второй час ночи… А в 7 утра она помятая, как мочалка, опять идёт тем же курсом, по тем же зловонным белым отсекам, и те же родные лица вокруг… Но это будет утром, а сейчас…
В 4-й палате, прямо у двери в кресле сидит лысоватый мужик. Его глаза выпучены, рот открыт буквой «О», он пытается выдохнуть и сипит так, что его слышно из коридора. Старшая заглядывает в его файл.
– У него записана сейчас ингаляция.
Зарядили ингаляцию. Меня ожидают груды инвентаря, который нужно разложить, рассортировать, привести в порядок для утренней смены. Что-то добавить, долить. Разложить бельё в кладовке. Между делом, каждые два часа ходим с сестричкой ворочать молодцов-огурцов, вегетативных пациентов. Сестричка – молодая африканка. В тёмном коридоре белеет её халат и улыбка. Халат и улыбка вдруг приближаются ко мне:
– Ой, а ты знаешь, я боюсь темноты!
Меня берут за руку. Я «включаю тупого»:
– Да ты не бойся, щас у старшой фонарик попросим…
Через пару часов я вспомнил про астматика. Подумал, что хватит ему уже дышать воздухом из компрессора. Лекарства-то в ингаляторе хватает на несколько минут. Медсестра вообще забыла про него. Подошел к 4-й палате, отдернул занавесочку. Астматик сидел в кресле слегка ссутулившись и сжимая двумя руками подлокотники. Компрессор бесполезно тарахтел на всю палату. Ингалятор валялся у астматика на коленях, и дыхательных движений заметно не было. Лицо его было как маска Павора – открытый рот, выпученные остекленевшие глаза. На мой зов, кряхтя и охая, пришаркала медсестра. Делать кардиограмму не было необходимости. Его путь в Сансаре завершился. Пришёл заспанный дежурный доктор. Потребовал всё-таки сделать кардиограмму. Протокол и порядок. Я закрепил электроды на холодных и твёрдых конечностях бывшего пациента больницы. Бывшего астматика. Электрокардиограф безропотно зарегистрировал электрический потенциал с поверхности бренной оболочки. Я принёс результаты эксперимента – полоску бумаги с прямой линией – на сестринский пост. Пока медсестра говорила по телефону с семьей усопшего, врач лихорадочно строчил что-то в истории болезни. Эпикриз или катамнез. Официальный Эпилог.
Даже разговаривая по телефону, медсестра красиво жестикулировала свободной рукой:
– Я советую вам приехать… состояние больного внезапно ухудшилось (куда уж хуже?) …значительно ухудшилось… мы делаем всё возможное (да-да, даже, вот кардиограмму сделали!), но состояние очень тяжёлое… На самом деле, откуда нам знать – ухудшилось ли его состояние? Просто закончился некий окислительный процесс длинною в 60 лет.
До конца смены оставалось 2 часа. Медсестра зевала и, поглядывая на часы, фантазировала, что родственники усопшего за оставшееся до конца смены время, приехать не успеют. И объясняться с ними придётся старшей сестре следующей, утренней смены. Врач вчитывался в строки назначений, надеясь заметить и исправить ошибку, если таковая была. Было бы забавно, если бы он, например, нашёл бы выписанную по ошибке смертельную дозу препарата. Исправил бы запись, и тут, как результат исправлений, покойник оживёт. Но задачей доктора было защитить пока-ещё-живых от бытовых неприятностей. Необратимые биохимические явления грозили пока-ещё-живым административно-бюрократическими рикошетами. Вот вам параллельные миры. Через час пришёл батюшка-раввин и забрал труп в больничный холодильник. Я помогал ему, толкая каталку сзади. В утреннем полумраке чёрная фигура раввина с развевающимися пейсами напоминала гигантского жука. В холодильнике несколько ячеек были уже заняты. Лязгая стальными дверцами, раввин искал свободную ячейку. «Ищет ему подходящую нишу» – подумал я.
Хотелось спать. Спать, кстати, в больнице категорически запрещалось. Среди персонала ходили страшные истории, о том, как медсестра и санитарка уснули на ночной смене, и пришёл Чупакабра… То есть, дежурная старшая сестра больницы… И всех уволила. Сразу и навсегда. Поэтому, с 4-х часов утра начиналось самое мучительное для меня время. Я засыпал стоя, засыпал, стоило мне лишь на мгновенье остановиться. Мыли лежачих больных. Я поворачивал клиента «на себя», удерживая его в положении на боку и успевал увидеть сон, пока медсестра намыливала клиенту спину.
Уже в более поздний период, когда я стал «матёрым» санитаром, я брал дополнительные ночные смены в доме престарелых. Там было три этажа, на первом – лобби, кухня, кладовка с заветным холодильником. На втором и третьем – комнаты старичков. Ночи там должны были быть легче, но… В первый раз я дежурил там с медсестрой Даной. Это была высокая, ухоженная блондинка, не старше 30-ти. На дежурство её привозил муж, которого я никогда не видел. Дана намекала, что он довольно богат, и мне было непонятно – за каким чертом ей, в таком случае, нужны ночные смены? Уже в 12.00 с делами было покончено и мы с Даной расположились на диване в лобби, напротив телевизора. Кто-то постучал в дверь. Дана жестом приказала мне оставаться на месте и впустила какого-то бледного субъекта. Они уселись рядышком, взявшись за руки. Бледный по-хозяйски переключил на футбол. Я было поднялся, чтобы оставить их вдвоем, но Дана вновь остановила меня:
– Не уходи.
– Ты ж с другом?
– Да надоел мне этот козёл… – сказала Дана задушевным голосом и я вдруг сообразил, что бледный козёл, должно быть, не понимает по-русски. Иностранец. Иди вот, пойми душу женщины. А тем более, медсестры. Однако, смотреть футбол мне было тягостно. Я завалился на диван в двух метрах от влюбленной парочки и собрался почивать, как вдруг мерзко задребезжал колокольчик вызова.

