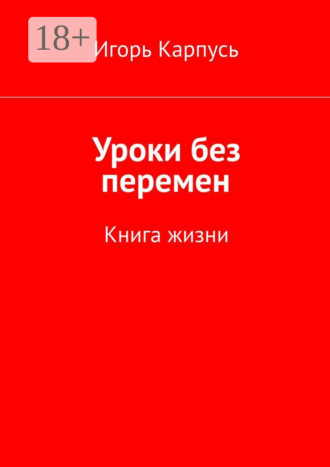
Полная версия
Уроки без перемен. Книга жизни
И ранним вечером мы отправились в Ундол. Я совсем не замечал разницы в возрасте, меня так и подмывало спрашивать, делиться, шутить. Рита охотно отвечала, задавала вопросы сама, делала короткие пояснения. Сердце подсказывало: я тоже ей нравлюсь. Все встречные здоровались и с любопытством посматривали на нас, а я думал только одно: неужели то, что случилось – простое знакомство, вежливость взрослой красивой девушки? Завтра она уедет, через месяц уеду я, и короткая встреча, как множество других, останется только в памяти. Но волнение, теснившее грудь, шептало: что-то будет, это только начало.
Через неделю, с поручением тёти Нины, я поехал во Владимир: «Передашь дочке яблоки и пироги». Я нашёл пединститут и устроился со своим грузом в пустом и тихом холле. Раздался звонок, на широкой лестнице показались первые студенты. Я встал таким образом, чтобы обозревать верхнюю площадку, и сразу увидел её в группе подруг. Она тоже заметила меня и приостановилась. Не обращая внимания на окружающих, я крикнул: «Рита, я от тёти Нины!» Она вспыхнула улыбкой, повернулась к девушкам и что-то сказала. Так и стоял я у них на виду несколько мгновений, пока она не сбежала с лестницы и не взяла меня за руку: «Давай отойдём. Я рада, что вижу тебя». Я помог ей одеться, и мы вышли к Золотым воротам. «Возьми меня под руку, – разрешила она. – Ты понравился подругам, сказали – совсем мальчик, и мне пришлось тебя защищать». Остановились у знаменитых владимирских храмов, постояли над кручей. «Ты похожа на эту белокаменную резьбу, – кивнул я в сторону Дмитриевского собора, – просто и загадочно». – «Вот как, – улыбнулась Рита. – Каждый день прохожу мимо, а сходства не заметила». – «Надо смотреть свежим взглядом, – сказал я и показал на окрестные дали. – Ты море видела?» – «Не довелось». – «Так это же море, только полевое». – «Это наше Ополье, – задумчиво произнесла Рита, – и оно стоит любого моря. Ты не ошибся, что приехал к нам, тебе откроется наша земля».
Мы развернули свёрток с пирожками и пошли на вокзал. В последний раз я увидел её из окна электрички – серьёзную, даже отрешённую – на быстро пустеющем перроне.
Я вернулся другим человеком. Никто не узнал о моём знакомстве. Шлёпал по осенней грязи, сидел на консультациях, делал расчёты, а видел её волосы, глаза, улыбку, одинокую фигуру на уплывающем перроне. Верил, чувствовал: меня ждут, новая встреча уже начинается. Моя дипломная работа называлась «Реконструкция линии выработки масла на Собинском молочном комбинате»; я защитил её на «отлично» и под новый 1965 год навсегда простился с Вознесенской.
Мастер
После выпуска я не задержался дома. Навалилась тревога о будущем: где придётся работать и жить, как примут в коллективе? Бабуля снова присоединилась ко мне, и в январе 1965 мы высадились на знакомой станции в Лакинке. Я временно оставил бабулю в гостеприимном доме Рубцовых и с направлением на руках отправился во Владимирский совнархоз. Там задумались, куда меня пристроить, и предложили Александровский маслозавод. «Не там ли жил Иван Грозный с опричниками?» – спросил я, и мне ответили утвердительно: «Теперь это промышленный город, есть большой радиозавод». Мне очень захотелось побывать в знаменитом месте, и я согласился. Увы, в Александров я прибыл на автобусе ранним зимним вечером, старина промелькнула за окном и исчезла во мраке. Пожилой сторож провел по заводу, старому и ветхому, с допотопным оборудованием. Он предложил заночевать в своей избе и поставил условие: «Если обрат будешь давать, мастер, так поладим – сдам тебе комнату. У меня все мастера жили». Я не знал, что ему ответить, поужинал картошкой с огурцами и ранним утром выехал во Владимир.
Там и нашла меня судьба. В широком коридоре совнархоза я столкнулся с Н. Головой, главным инженером из Лакинки. Она удивилась: «Ты как тут оказался?» Узнала о моих приключениях и упрекнула: «Эх ты, растяпа. Почему не пришел на завод? А мы тебя ждем». Она тут же оформила направление, и мы поехали в Лакинку.
Я приходил на завод утром, за полчаса до смены, и неторопливо обходил свои владения. Одни мои шаги гулко отдавались в каменной тишине. Сейчас появятся рабочие, застучат машины, и некогда будет сосредоточиться, обдумать, приготовиться. Любил и ночные часы, когда натруженный завод останавливался и затихал. Среди безмолвных стен и механизмов я особенно сильно сознавал себя творцом и вседержителем, по моему мановению начиналось движение и созидание.
Недели через две после вступления в должность мастера аппаратчик Егор пришел на смену подвыпившим. Мне не нравился этот долговязый, с плутовскими глазами, мужик. На любой вопрос он щерил зубы и давал уклончивый ответ. Я заметил, как он неловко и медленно собирает сепаратор, и сделал ему замечание. «Не переживай, мастер, не в первый раз, – успокоил Егор. – Помнишь, как сам начинал?» Ах, вот в чем дело: Егор решил напомнить о своих заслугах, когда инструктировал меня, практиканта, перед уходом в отпуск. Между тем, пошло молоко, надо было запускать линию, а Егор устроил перекур и глядел на меня посмеиваясь из своего угла. Внутри заклокотало, я шагнул навстречу и твердо сказал: «К работе не допускаю и ставлю прогул. Освободи место». Егор поднялся и с дурашливой ухмылкой вышел из цеха. Я завершил сборку, запустил оборудование и довел смену до конца. На следующий день Егор досрочно появился в цехе, но не улыбался и старался меня не замечать.
Вскоре такая же история повторилась с аппаратчиком маслолинии – он просто не вышел на работу. Упаковщица Таня подошла с вопросом: «Что будем делать? Может, послать за Васькой? С ним это часто бывает». – «Ни в коем случае, управимся сами». На маслолинии я еще не работал, но успел приглядеться и не раз беседовал с аппаратчиком, поэтому уверенно выполнил все операции. Я доказал коллективу, что мастер выступает не только организатором производства, но при необходимости может заменить любого рабочего.
С кочегаром пришлось договариваться другим способом. В обеденный перерыв заглянул морщинистый грузный мужик с красным лицом. Он протянул котелок и назвался: «Семен, кочегар. Слышь, мастер, налей-ка мне сливочек». Меня покоробила его бесцеремонность и уверенность, что отказа не будет. «Молока могу налить», – сухо ответил я. «Жалко, значит. Ладно, обойдемся», – с угрюмым вызовом сказал Семен и хлопнул дверью. После смены я направился в душевую, которая располагалась в котельной. Разделся, ополоснулся, намылился и вдруг отскочил: вместо теплой ударила холодная струя. Подождал с минуту и догадался, что это месть кочегара. Чертыхаясь, я оделся и с испорченным настроением вышел из кабины. Семен сидел перед гудящей топкой, курил и даже не повернул головы: здесь хозяином был он. Наутро кочегар снова вырос передо мной и протянул котелок. Я молча взял его и наполнил горячими сливками. Семен оживился и примирительно произнес: «Извини, мастер. Вчера накладочка вышла, больше не повторится».
Я обратил внимание на большие потери обезжиренного молока: часть его возвращалась сдатчикам, другая часть, невостребованная, прокисала и сливалась в канализацию. Между тем, в цехе-пристройке давно простаивало оборудование для сыроделия. Но сыр на заводе ни разу не варили, и когда я предложил пустить обрат в переработку, на меня посмотрели с недоверием. Я не сомневался в успехе, потому что знал сыроделие практически и любил эту тонкую и сложную технологию. В мастерских сделали по моему заказу необходимые инструменты и приспособления, деревянные формы, а механики привели в рабочее состояние сырные ванны с электромешалками, насосы и прессы. В ночной спокойной обстановке я сварил и отпрессовал первую партию нежирного сыра. Поскольку подвалы для хранения и созревания отсутствовали, после непродолжительного ухода я отправлял этот продукт на сырбазу для переплавки, а завод стал получать дополнительную прибыль. Следом изготовил опытную партию кефира, который пришлось разливать по бутылкам вручную. Подвели механики: они не сумели запустить разливочный автомат, и от затеи пришлось отказаться.
И творцу надо было думать о хлебе насущном, 80-рублевая зарплата не располагала к беззаботности. Я работал на молочном заводе и находил, что покупать молочные продукты в магазине нерасчетливо и глупо. Каждый день после смены я нес в глубоком кармане плаща что-нибудь молочное: бутылку сливок, пакет с творогом или маслом. Руки оставались незанятыми, и на проходной меня не проверяли, в отличие от рабочих с сумками. Всем было известно, что проверка ведется для отвода глаз: вахтерам совали сверток и беспрепятственно выносили украденное. Однажды поздним вечером я собирался закрывать завод. Мимо меня шмыгнули две работницы, метнули на пол тугие пакеты и снова вышли на двор. Я последовал за ними и все понял: за воротами дежурил неподкупный милицейский наряд. Я спокойно преодолел проходную и пошел домой. Вслед посветили фарами, но не окликнули, не остановили.
Через 40 лет я продолжаю наблюдать то самое, что видел в ранней молодости. Поздним вечером к дверям кондитерской фирмы подходят с сумками люди, им выносят свертки, коробки, и они скрываются во мраке. Есть и маленькое отличие: я выносил с государственного предприятия, они выносят с частного. Все заверения насчет «священной и неприкосновенной частной собственности» лопнули, как мыльный пузырь.
Наступила осень, и я оставил любимую работу – возмущала несправедливость. Моим рабочим начисляли с выработки продукции в два-три раза больше, и старший мастер, который и в цеха-то не заглядывал, тоже состоял на сдельной оплате труда. Все мои протесты отбивались руководством – не положено. Приехала в гости мать и начала усердно звать домой. Недовольство и обиды взяли верх, и я подал заявление об увольнении. Не удержали ни обещания предоставить квартиру, ни вздохи рабочих, ни Рита. Мне шел 20-й год. Покидая Лакинку, я с грустью чувствовал, что оставляю на владимирской земле свою юность.
Рита
В мае военкомат направил меня на обследование во Владимирский окружной госпиталь. Лежал в палате, слушал солдатские байки о легких победах над девчонками и вдруг вздрогнул от голоса сестры: «Карпусь, к тебе пришли!» С высоты второго этажа сразу увидел на безлюдном асфальте знакомую женскую фигуру – Рита! Медленным взглядом она обводила ряды госпитальных окон. Перепрыгивая ступени, сбежал по лестницам и устремился к подруге.
«Как ты узнала?» – «От бабушки. Почему не предупредил меня? Мальчишка… Что-нибудь серьезное?» Я поспешил успокоить, но Рита не поверила: «Неужели я буду провожать тебя в армию? Не хотелось бы». – «Ты скучаешь?» – «Мог бы и не спрашивать. Вечерами сижу дома, даже мама ворчит».
Так мы и прогуливались по асфальту под прицелом сотен любопытных глаз. Когда с опозданием я вошел в столовую, в мою сторону дружно повернулись стриженые головы.
Летом я устроил Риту лаборанткой на свой завод. Днем, в течение смены, виделись урывками, когда по делам заходил в лабораторию, но чем бы ни занимался, постоянно ощущал ее излучение. Рабочие с пониманием спрашивали: «Твоя девушка?» – «Моя». – «Красивая», – и я еще выше поднимал голову, безоглядно брался за любую работу. После смены мы поочередно принимали душ, и она садилась расчесывать влажные струящиеся волосы. Я потихоньку подходил сзади и впивался губами в ее душистую шею. Теплыми звездными ночами мы возвращались домой. Почти на каждом шагу я останавливал ее и покрывал поцелуями, на какой-нибудь улочке долго стояли в объятиях, без умолку смеялись и разговаривали. Она то и дело шутливо одергивала: «Тише, дружочек, людей разбудишь». И тут же сама предлагала: «Давай споем». И мы вполголоса затягивали: «Снятся людям иногда Голубые города, У которых названия нет». Вот она, ее калитка. Рита увлекает меня в сад и там, на скамейке под яблоней, крепко и долго целует. Перехватило дыхание, я был ошеломлён, а Рита шепчет: «Подожди, милый», – и скрывается в палисаднике. Через минуту, при свете фонаря, я вижу в ее руках крошечный букет фиалок: «Это тебе». – «У меня нет цветов, чтобы отдарить тебя». – «Ты даришь больше, чем цветы. До завтра», – и я засыпаю на веранде, вдыхая ее аромат.
За всё, за всё тебе спасибо:За речи тихие в ночи,За скромные цветы фиалки,За целомудрие души.Тебя я всякий раз представлю,Когда, не в силах рассказать,На Рафаэлеву МадоннуЯ буду с трепетом взирать.На следующее утро она словно устыдилась порыва и спросила: «Ты не ожидал, дружок? Я потом корила себя за этот поцелуй». Но рубеж был взят, и я свободно ласкал ее маленький подбородок, гладкий матовый лоб, светлые волосы. Мы жили только тогда, когда соединялись. К ней подходили знакомые парни, значительно старше меня, она вступала в разговор, а я смотрел и ликовал: она – моя, разве она скажет им то, что говорит мне? Они никогда не узнают ее такой, какой знаю я. Страсть подступала, но не прорывалась, как будто мы опасались замутить наши отношения и поставили невидимый заслон. Возвращаясь из леса с грибами, мы разлеглись под свеженамётанным стогом перекусить. В её волосах застряли травинки, я стал осторожно вынимать и прильнул к любимой всем телом. Рита встала, накинула на плечи косынку и, словно оправдываясь, проронила: «Не обижайся, милый, но я всё время боюсь тебя соблазнить». Сказала вроде в шутку, а на самом деле – всерьёз. Внезапная тоска охватила меня, и весь путь мы прошли молча.
Накануне выходного я предложил: «Давай съездим в Боголюбово». – «Ты еще не был там?» – «Только читал». – «Тебе повезло. Я тоже давно не ездила», – и на следующий день мы сели в электричку. Во Владимире купили билеты на автобус и через полчаса были на месте. Кто-то из прохожих показал направление, и мы свернули на широкий влажный луг. Церковь выросла внезапно, словно поднялась из спокойных вод речной старицы. Вокруг – ни души. Солнце заливало зелёную равнину, лёгкий ветерок освежал лица, рядом бесшумно текла Нерль. И мы, взявшись за руки, молча смотрели на белокаменную красавицу. Нас было трое. Храм, будто живое существо, притягивал, раскрывался, сближал.

На берегу тихоструйной Нерли, в полном одиночестве, мы разделись. Она заметила, как отвернулся, и воскликнула: «Стесняешься, дружок». Лежали на белом речном песке, посматривали на тёмную луковку Покрова и безмолвные дали, изредка перебрасывались словами. Мы были переполнены музыкой души, слиянности с природой, неповторимости сущего. Она не смела прикоснуться ко мне, я – к ней. Под вечер тронулись в обратный путь и, не в силах расстаться, поминутно оглядывались, пока стройное видение не исчезло.
Утром через неделю, в день её рождения, я поднялся на знакомое крыльцо. Рита мыла пол и вышла босая, с мокрыми руками. Я поздравил и протянул ей альбом Левитана с вложенными стихами о поездке. «Проходи, будем пить чай». – «В другой раз», – ответил я и сразу ушёл. Вечером, на заводе, она распахнула дверь моего кабинета, крепко обняла и прошептала: «Спасибо, родной. Этот день я не забуду».
На НЕрли былинной, у поля ржаного,Где синий гуляет простор,Взметнулась в поднЕбесье церковь ПокрОва —Как сказка, манящая взор.Какой-то талантливый русский умелецЧутьём сокровенным душиПостигнул вечерние звоны на НЕрли,Поэзию милой земли.Большим он, наверное, был жизнелюбцем,Так девушку страстно любил,Что в камне заветном в порыве восторгаОн облик её претворил.Уж восемь столетий с тех пор отшумело,Но славу и ныне вездеПоют белоснежные стены ПокрОваБессмертной твоей красоте.Она всё предвидела и как-то ночью, во время наших бесконечных прогулок, неожиданно бросила: «Ты скоро меня оставишь». – «Нет, нет. Разве ты не будешь моей женой?» – «Конечно, нет, милый. У тебя будет другая женщина». – «Но почему?» – не понимал я. «Да уж потому. Всё лучшее между нами уже было, а больше ничего не будет». Я поднял её на руки и перенёс через ручей. Всё во мне напряглось, а она сразу стала тихой, покорной, задумчивой, прижалась к плечу, и мы шли, шли всё дальше, не разбирая дороги, внимая друг другу.
Приехала мать, убедила вернуться домой, и я сообщил ей о предстоящей разлуке. Она поняла с полуслова, пригорюнилась, покачала головой: «Ты зря это делаешь, а матери не следовало бы ломать твою жизнь в самом начале». Но я не внял её предостережению. Накануне отъезда она пришла на свидание под хмельком, весёлая и немного развязная. Объяснила: «У ровесника была на свадьбе». Ласкала жадно, ненасытно, а я, оглушённый вспыхнувшей страстью, плохо понимал происходящее и уж совсем не осознавал необратимости грядущего разрыва.
Через несколько лет она известила в письме, что вышла замуж и родила дочь. А мне осталась память, на неё я богат. Я вижу её всю, от первого появления в горнице, когда мы, словно предчувствуя сближение, пристально посмотрели в глаза, до последних содроганий трепетных рук на моих плечах.
Начало
Марина Бычкова, выпускница филологического, чуть не плачет: провалила первый урок. «Так готовилась, так переживала! Пересмотрела гору книг, подобрала иллюстрации, продумала все повороты – и зря. Не слушали, дурачились, со мной заигрывали». – «Постой, а чего ты хотела?» – «Как чего? Раскрыть значение литературы в духовном развитии, показать влияние великих писателей на молодые поколения… Вообще напомнить, что без литературы нельзя жить». Я махнул рукой: «Блажен, кто верует… Но оглянись вокруг себя: живут без литературы, и ещё как живут. Смотри, не позавидуй». – «Никогда, – вспыхнула девушка. – Вы меня заводите?» – «Нет, Мариночка, хочу помочь».
Долой методику, долой пособия, долой план! Вспомни, какая ты красивая. И на первом уроке тебе следовало показать только себя, как перворазрядную модель: свою фигуру, свой костюм и причёску, свою улыбку, свою речь и, конечно, знания. Так, между прочим. Что, акселератики, обалдели? Ещё и не то увидите – я всё умею. Марина смутилась: «Я и сама хотела просто поболтать на вольные темы, а мама в ужас пришла: ты что, хочешь первый урок загубить? Никогда не иди на поводу у класса!».
Я тоже не шёл. Но я обязательно давал то, что им не терпелось услышать, и они уходили с уверенностью, что учитель – «свой парень». Первый урок. Как первое свидание, первый поцелуй, первый выход на сцену: каким покажешься, таким и запомнишься. Привлечёшь или оттолкнёшь надолго. Я чувствовал это интуитивно и никогда не загружал первые уроки серьёзным содержанием. Я шёл, чтобы понравиться и увлечь.
Когда я говорю, что провёл первый урок по кулинарии, мне не верят: «Ты же историк». Но в школу №2, что на Куниковке, я пришёл с дипломом технолога молочной промышленности, и мне предложили место преподавателя производственного обучения. Учебный год уже начался, выбора не было, и я из заводских цехов сразу переместился в школьный класс. Меня совершенно не беспокоило то, что предстояло вести предмет малознакомый: с технологией пищи я сталкивался лишь на бытовом уровне, в собственной кухне, и был осведомлён в этой области не больше других. Однако солидная теоретическая подготовка и богатая практика сделали меня самоуверенным, и я смело взялся за преподавание. «Я хоть что-то знаю, а ученики совсем не имеют понятия о микробиологии и биохимии», – рассудил я и для начала внимательно перелистал учебник кулинарии.
Разумеется, я входил в 10 класс с волнением и опаской, зная, что школьники любят проверять новых учителей, особенно молодых. Но молодость и выручила меня. Я был всего на 3 года старше учеников, и они приняли меня чуть ли не за ровесника, с откровенным любопытством и широкими улыбками. Я развязно представился, и взлохмаченный толстяк-очкарик насмешливо спросил: «Что, кашу будем варить?» – «А хотя бы и кашу. Кстати, не скажешь ли ты, в каком соотношении надо брать воду и крупу?» Толстяк замялся: «Я думаю, напополам». – «Ну, если такой кашей ты угостишь невесту, она убежит от тебя». Все рассмеялись. Толстяк покраснел и выкрикнул: «А я не собираюсь жениться!» – «Напрасно, – подхватил я тему. – Можно сварить такую кашу, что тебя полюбит самая красивая девушка». Заметив обострённое внимание, я со смаком описал, как готовят гурьевскую кашу на сливках, с изюмом. Едва я замолчал, как в тишине раздался мечтательный голос девочки: «Славка, учти: я приду первая», – и в классе грянул взрыв хохота, окончательно добивший толстяка. Я продолжал представление: «От каши перейдём к десерту. Я угощу вас „сыром лимбургским живым“, слышали про такой?» С моей помощью вспомнили «Евгения Онегина», и я пояснил, почему Пушкин назвал этот голландский сыр «живым». Затрещал звонок, стол окружили ученики, и посыпались вопросы, кто я и откуда. Из класса я уходил победителем, первый урок проложил прямую дорогу к последнему.
Через неделю, направляясь на очередное занятие, я услышал, как кто-то из десятиклассников оповестил: «Гурьевская каша идёт!» Я запомнился, и мне оставалось поддерживать тот высокий настрой общения, который непроизвольно, без плана и расчёта, сложился на первом уроке. Впоследствии я всегда шёл на сентябрьскую встречу с учениками без какой-либо определённой разработки и лишь приблизительно намечал в голове круг вопросов для обсуждения. Как правило, это были импровизированные рассказы о загадках истории, событиях и героях прошлого с точки зрения современника. Высшей наградой стала чья-нибудь просьба: «Расскажите нам…»
Университет
Я приезжал в Ростов дважды в год на зимнюю и летнюю сессии. Нигде раньше я не встречал таких трущоб, как в этом миллионном городе. Стоило свернуть с центральной улицы Энгельса к Дону, как начинались ряды жалких лачуг из глины, досок, листового железа. Моя хозяйка Семёновна, грубоватая неугомонная пенсионерка, распоряжалась проходной кухней и двумя каморками с низкими потолками и перекошенными оконцами. Это жилище они соорудили с мужем после войны. Муж умер, и Семёновна из нужды начала сдавать свои «апартаменты» студентам-заочникам. Рядом, в таких же подслеповатых и тесных хибарах, ютилось ещё пять семей. Там надо было нагибаться при входе и прижиматься к стене в узких коридорчиках.
В мою учебную группу входили учителя, военнослужащие, председатели сельсоветов, аппаратчики, комсомольские работники. Я со всеми водил приятельство, помогал сам и пользовался помощью, не встречал зависти и пренебрежения. 6 лет прожили бок о бок, под одной кровлей, с Мишей Горбачёвым, учителем из Красного Луча. Ни разу не поссорились, хотя были очень разные, короткие размолвки возникали по моей вине. Старше меня лет на 5, он обладал ровным, общительным и лёгким характером и напоминал мне Колю Александрова. Прорабатывали вместе экзаменационные билеты и допоздна сидели в библиотеке, угощали друг друга черешней и газировкой, а иногда наведывались и в «Донскую чашу», по воскресеньям цедили пиво и хрустели крупными донскими раками на многолюдном базаре. Обедали обычно в кафе «Белая акация» – там отменно готовила молодая бригада и подавали полновесные порции. Рядом находилось такое же кафе-стекляшка, где борщ смахивал на помои, а котлета застревала в горле. Однажды Мишка повёз меня в станицу к дяде-пасечнику. Старик растрогался и поставил на стол большую миску янтарного мёда, а рядом – чашку с малосольными огурцами: «Ешьте досыта, хлопцы, лучшего угощения на Дону нет». Прошла жизнь, многие имена и лица стёрлись, а дух солидарности и товарищества сохранился.
Я не принадлежал к числу старательных посетителей лекций. Были преподаватели, которые преподносили студентам безжизненные социально-экономические схемы, добросовестную сводку событий и лиц, злоупотребляли тяжеловесным толкованием исторических процессов. Таких я отсекал сразу и предпочитал углубиться в учебники. Но встречались учёные с тонким историческим чутьём, ясным пониманием прошлого и завидным воображением. Они предлагали не только анализ, но и выразительные картины минувших эпох. На I курсе всех завоевал Ю. Кнышенко – историк первобытного общества и этнограф. Тихим спокойным голосом он рисовал облик многочисленных обитателей земного шара, традиции и обычаи народов с такой точностью и подробностями, будто прокручивал перед глазами документальный фильм. Красноречивым мастером и знатоком Западной Европы предстал доцент Люксембург. Он ярко и убедительно прослеживал связь европейских идей и теорий с запросами и интересами разных классов и сословий, набрасывал выпуклые портреты политиков и знаменитых деятелей, неустанно подчёркивал роль общественных сил в становлении европейской цивилизации. Запомнились содержательные и смелые лекции по искусству и литературе; в частности, нам рассказали о творчестве Булгакова и Солженицына, современной театральной режиссуре. Молодой преподаватель археологии В. Кияшко прервал мой ответ на экзамене и предложил: «Я слышал, вы участвовали в интересных раскопках. Расскажите-ка лучше об этом». И с удовольствием вывел в моей зачётке «отлично».



