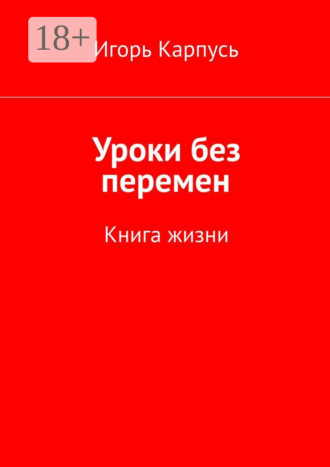
Полная версия
Уроки без перемен. Книга жизни
Преподаватели
Технические дисциплины мне не нравились, я занимался ими небрежно. Электротехника, теплотехника, ТММ (студенты шутили: там моя могила), технология металлов – я не знаю, как их сдавал и получал удовлетворительные оценки, а по сопромату и теплотехнике – даже хорошие. Преподаватели были из инженеров, им не хватало педагогической подготовки. Они знали свой предмет, но держались отстраненно, излагали деловито и сухо, исписывали доску вереницей малопонятных формул. Выдадут положенную тему – и до свидания. Историю вели один за другим молодые выпускники университета. Знания были жиденькие, и обыкновенно они заполняли уроки анекдотами из студенческой жизни. Однажды я уличил историка в непростительной ошибке. Упомянув «Правду», он сказал, что это была нелегальная газета большевиков. «Нет, легальная, – крикнул я с места, – и каждый номер проходил цензуру». Учитель заспорил и пообещал: «Я уточню». На следующем уроке он признал свой промах, но наши отношения не испортились, я по-прежнему получал пятерки.
Директор Урюпин редко появлялся на глаза и представлял собою мелкого невыразительного чиновника. Всю текущую работу направляла опытная и расторопная М. Слинько – зав. учебной частью. Ее предмет «Технология молочных продуктов» был для нас основной и изучался особенно старательно.
Колоритной фигурой осталась в памяти Зоя Федоровна Семенец, наша наставница – седовласая пухлая старушка с круглым полным лицом и цепким взглядом. В 30-е годы она закончила столичный вуз, училась у печально известной Ольги Лепешинской и весьма гордилась этим. Не помню, чтобы З. Ф. смеялась, даже улыбалась редко и снисходительно. Хорошо поставленный голос звучал твердо и уверенно, и вся она: важная, представительная, в облегающем черном платье – вызывала к себе невольное почтение. Ее супруг, одноногий инвалид Вианор Фадеевич, требовал многократно переделывать большие чертежи на ватмане и доводил студентов до отчаяния. Когда он забраковал в третий раз мою работу, я поставил на пол настольную лампу, разместил над ней оконное стекло и быстро скопировал чертеж на новый лист ватмана. Сама Зоя Федоровна вела у нас микробиологию и органическую химию по довоенному потрепанному учебнику. Она открывала книгу на нужной странице и, подглядывая из-под очков в текст, внушительно пересказывала содержание. На экзамене она поставила мне тройку, а я был уверен, что знаю химию не хуже преподавателя, потому что читал тот же самый учебник. Зато в характеристике для военкомата старушка отметила, что я исполнительный и увлекаюсь искусством. «Вы даже пергаментную прокладку в стаканчик вырезали по форме донышка, а вон Денисов просто взял и сунул бумажку», – кивнула она в сторону Володи Денисова.
Раз в месяц мы собирались в лаборатории З. Ф. на дегустацию молочных блюд, причем блюда эти готовили сами студенты. Разумеется, мы соревновались в оригинальности и мастерстве, всем хотелось заслужить одобрение товарищей. Продукты покупали на рынке и в столовой, а рецепты искали в новой, богато изданной книге «Молочная пища». Я принес на заседание клуба суфле из голландского сыра, яиц и масла с зеленью. Девушки увидели запеченные желтые квадратики и разочарованно сказали: «Мы что, омлета не ели?» Отведали и сменили гнев на милость: пикантный и нежный вкус.
Неприступный вид З. Ф. был обманчив. Она неослабно следила за нашими успехами, проводила воспитательные собрания, оповещала родителей. Под ее бдительным надзором все мы подтягивались и исправляли ошибки. На выпускном вечере наставница позволила себе впервые расслабиться и сидела улыбчивая, добродушная, словоохотливая. Она довела группу до дипломов без потерь и заслуженно принимала многочисленные благодарности. «Знаю, что у многих вызывала изжогу, – сказала она на прощание. – Завтра вы будете мастерами, технологами и еще не раз меня вспомните, но уже по-другому». Умная старуха знала, что нас ожидает.
Товарищи
Ровесники всегда выясняют отношения, тут неизменно лидеры, покорные и гонимые. Избежал этого «заговора равных» и развивался беспрепятственно. С 14 лет я попал в общество молодых мужчин и женщин, которые пришли из армии, с заводов и строек. Для них я был как младший брат и пользовался их покровительством, расположением, поддержкой. Я признавал возрастное преимущество старших, они спокойно воспринимали моё ребячество, характер и склонности. Мне сразу отвели заслуженное мною место и никогда на него не покушались.
Наша группа считалась в техникуме самой талантливой: все девчата пели и танцевали, Коля Боченин проникновенно читал любимого Блока и не расставался с синими томами, Коля Александров славился русской пляской. Душой коллектива был Юра Печерский – музыкант-аккордеонист и неутомимый организатор. Он служил в ГДР, где руководил армейским ансамблем, умел без унижений подчинять своим требованиям, быстро составлял и ставил на сцене красивые концертные программы. Я близко сошёлся с этим открытым доверчивым парнем, нас породнило сходство характеров и любовь к музыке. Одно время мы даже жили и столовались вместе у бабы Груни. На репетициях и концертах Юры я получил крепкие навыки хорового и ансамблевого пения, усвоил его стиль общения с самодеятельными артистами. Позднее, в школах, когда я сам выступил в роли музыкального руководителя, мне пригодился этот разнообразный опыт.
В последний год я подружился с Колей Александровым. Он был старше на 7 лет, имел семью, и время от времени к нему приезжала миловидная жена с дочерью-малюткой. Коля был хорош собой: среднего роста, поджарый, сильный и гибкий, ходил пружинистой легкой походкой. Чистое правильное лицо с голубыми глазами привораживало, волнистые темно-русые волосы хотелось погладить. Он следил за собой, никто не видел его небритым и неряшливым. Обычные брюки, пиджак, белый шарф сидели на нем так, словно их подгонял первоклассный портной. Когда Николай выходил к доске отвечать урок, все женщины прекращали свои занятия и устремляли взоры на его статную фигуру. Он знал себе цену и держался горделиво, близко никого не подпускал, на женщин смотрел насмешливо и говорил с ними небрежно, как с малыми детьми. Резкая, грубоватая Валя Гук, бойкая на язык хохотушка Вера Кривицкая не выносили его манеры, постоянно вступали в споры и отпускали язвительные реплики. В этом случае Коля иронически улыбался, обнажая белые ровные зубы, произносил: «Что с вами толковать? Вы этого никогда не поймете», – и демонстративно открывал конспект.
И этот самый Николай, который у всех вызывал зависть, смешанную с досадой, не только заинтересовался моей особой, но и сам пошел навстречу. Сложных, умных разговоров между нами не было, был магнетизм взаиморасположения и доверия – то, что позволяет продолжать себя в другом существе. Повсюду мы появлялись вдвоем: сидели за одним столом, обедали в столовой, занимались в библиотеке, разгуливали по станице, ходили поочередно в гости и засиживались допоздна. К нашей совместной жизни так привыкли, что прозвали «папашей» и «сынком». Дружба с Николаем поднимала меня в собственных глазах и дала впервые почувствовать силу и благо мужской привязанности. Я многому у него научился, в нем для меня воплотилось то состояние, которое обычно именуется «старший товарищ». Он не пил и не курил, не признавал матерщины и чрезвычайно дорожил своей репутацией. То, как он ходил, говорил, раскрывался, вызывало мое восхищение – я невольно стал подражать. Сам того не сознавая, я проходил школу общения, учился понимать другого человека, угадывать его желания и настроение.
Со мной Николай вообще был учтив и мягок, я не помню ни одной размолвки, ни одного возбужденного разговора. Только временами, когда прорывалась моя глупая горячность, он останавливал меня: «Стоп, пацан, не торопись, подумай». Однажды он дал мне совет: «Никогда не унижайся и не унижай», – и я не раз вспоминал эти слова; не столько унижал сам, сколько по слабости унижался. Другой совет я тоже не забыл: «Не позволяй женщинам руководить собою, ты перестанешь быть мужчиной». Но мне казалось, что с женой он слишком суров и строг. Она, бедняжка, старалась угодить, вызвать улыбку, заглядывала в его глаза с покорным умилением, а он сухо, отрывисто отвечал, задавал вопросы и никогда не улыбался. Он не затрагивал в наших разговорах семейную тему, но я догадывался, что в его любви скрыта какая-то загадка.
На выпускном вечере мой друг в последний раз мелькнул ярким видением. Когда преподаватели и выпускники изрядно захмелели, он вышел внезапно из боковой двери в кумачовой рубахе с синим кушаком, выждал, пока пирующие развернутся в его сторону, пригладил волосы, широко развел руки, словно обнимая всех, и пошел отбивать мелкую упругую дробь. Не успели зрители опомниться, как его подвижное, ловкое тело, взлетая и опускаясь, заполнило все свободное пространство. Волны горячего воздуха, поднятые танцором, ударили в лица и заставили их неузнаваемо измениться. Перед глазами полыхало пламя разгорающейся пляски, и я забыл, где и с кем пребываю; перевел дух, когда это пламя так же внезапно погасло, как вспыхнуло.
Через час мы обнялись и разъехались навсегда – каждый в свою сторону.
Подруги
В группе только три девушки были мои ровесницы. Я сразу приметил Валю Коваль – высокую, круглолицую, кареглазую. Она тоже посматривала на меня, однако держалась на расстоянии, холодновато. Случай помог объяснить ее поведение.
Окончание второго курса мы отметили вечеринкой в общежитии. После первых тостов все разгорячились и загалдели, потом пели любимую «Песню о тревожной молодости», финскую «Рулу» и танцевали летку-енку. Вдруг девушки кинулись к Вале – ей стало плохо. Ее взяли под руки и повели на свежий воздух. По дороге Валю стошнило. Я сидел на противоположном конце стола и слушал, как раскрасневшийся Боченин декламировал:
Вчера твое я слышал слово,С тобой расстался лишь вчера,Но тишина мне шепчет снова:Не так нам встретиться пора…Неожиданно от женской группы отделилась Неля Гончарова, подошла ко мне и попросила: «Игорь, выйди, пожалуйста. Валя не хочет, чтобы ты ее видел». Я поднялся и ушел домой. Я понял причину Валиной сдержанности: она боялась уронить себя в моих глазах и обдумывала каждый шаг, каждое слово. А мне так хотелось, чтобы она выделила меня, показала свое предпочтение.
Сам я не осмелился ухаживать за гордой и осторожной девочкой. Ее образом было навеяно стихотворение «Мечта», где есть такие строки:
Я тебя, вчера увидев,Часто вспоминал,Твои руки, голос нежныйДолго ощущал.Карих глаз твоих сияньеВижу и сейчас,Шорох платья голубогоСлышится в ушах.Зато с рыженькой веснушчатой Аней Михайловской отношения наладились легко и просто. Она не скрывала симпатии, подходила и вступала в разговоры, предлагала конспекты и учебники, подсаживалась за мой столик в буфете. Я быстро привык к Ане, мы стали прогуливаться вечерами, вместе ходили и возвращались с завода. Аня любила петь и умело подражала эстрадным певицам: эффектно выходила на клубную сцену, ритмично двигалась, пыталась создать нужное настроение. Ее музыкальность особенно подкупала меня, я загорелся и сочинил для нее романс на стихи Байрона «Ты плачешь – светятся слезой…» и песенку на собственные слова: «Вечер тих и ясен, Звезды на воде. Хорошо с любимым плыть мне по реке» – 3 куплета с припевом. Аня прослушала и предложила: «Мне кажется, ты сам должен спеть романс – он для мужчины». – «Что ты! – испугался я. – На сцене ты незаменима, а я робею». И Аня согласилась. Так в первый раз я услышал свои сочинения в концертном исполнении.
Майскими днями мы уходили на берег реки, устраивались под ивами и готовились к экзаменам. Однажды я захватил с собой кастрюльку с борщом из лебеды, она попробовала и похвалила: «Вкусно. Ты будешь хорошим мужем. А я не люблю готовить, все артисты едят в ресторанах». Удивительно, но я ее ни разу не поцеловал – удерживал юношеский стыд. И моя подружка не делала попыток, держалась подчеркнуто скромно и уважительно.
Володька Денисов, потрепанный жизнью 30-летний мужик, спросил однажды: «Ну, что у тебя с Анькой?» – «Встречаемся». – «И только? Эх ты, зелень, такую девчонку упускаешь». Я догадывался, к чему он клонит, и вспылил: «Тебе какое дело? Занимайся своими бабами». – «Мне тебя жалко, птенец, да и девчонку мучишь. Прижал бы ее на травке, пощупал – они любят это. Вот я помню, после дембеля…» И он пускался в любимые воспоминания, которые я знал наизусть. За меня заступился Юра Печерский: «Оставь пацана в покое, у каждого свои понятия. Я сам в его годы теленком был и не жалею. Ты, Игорек, никого не слушай, в этих делах советчика нету», – и я с благодарностью ему улыбнулся.
Однако Денисов знал, что говорит: наши отношения вскоре расстроились. У Ани появился новый друг из группы механиков, и вечерами они гуляли в обнимку по станице.
При встречах девушка спокойно смотрела на меня, отвечала: «Добрый вечер», – и они проходили мимо. Ни зависти, ни обиды я не испытывал. Было безотчетное чувство своей и ее правоты, не ущемленной свободы. Перечитываю детские беспомощные стихи тех лет и вижу: какими бесплотными, книжными были мои представления о женщинах и первой любви. Такими они остались на всю жизнь.
Над дипломом мы работали вместе с Лидой Фроловой. Она узнала, что моя хозяйка Катя уехала к родне, и попросилась: «Не пустишь на квартиру? В общежитии я ничего не сделаю: все время отвлекают». – «Какой разговор, перебирайся», – и Лида по утрам стала приходить в Катин домик. Самая старшая в группе, она имела непререкаемый авторитет. Из отрывочных рассказов я знал, что Лида объездила всю страну, работала на стройках штукатуром и маляром, мастером, в заводском профкоме. Ей были несвойственны колебания и нерешительность. Будучи старостой группы, Лида вступала в переговоры с преподавателями и руководством завода, и самые строгие выслушивали от нее пожелания, шли на уступки. Она подходила к людям по-свойски, душевно и в то же время требовательно. Расположит, очарует товарища и твердо отдает приказ: «В общем, завтра останешься на два часа и закончишь работу. Я должна отчитаться». И возражений не было. Каждый чувствовал в ней силу характера и запас житейского опыта, даже у мужчин не хватало духу спорить или отказаться.
Фролова удивила меня в первые же дни. Она вошла в кабинет и объявила: «Внимание! Начинаем подготовку к шефскому концерту. Мой номер – ария Снегурочки». И выдала такую звонкую и чистую фиоритуру, что я рот раскрыл. «У тебя оперное сопрано, – сказал я восхищенно. – Ты пела?» – «Еще как. Ни один концерт на заводе не проходил без моего выступления. Занималась в вокальном кружке, голос поставила певица-пенсионерка». Музыка нас подружила. Она сразу заметила мою симпатию и ответила добрым вниманием. Девушки даже ревновали: «У тебя Карпусь в любимчиках ходит» – «Карпусь не подводит меня и выполняет все, что положено», – парировала Лида.
Несомненно, в ней жила талантливая актриса. Иногда она напускала на себя такую робость и застенчивость, что прямо на глазах превращалась в 14-летнюю девочку. Этот прием безотказно действовал на преподавателей, завхоза, мастеров, и она получала все, что хотела. Если кто-нибудь пытался использовать ее, она ровным голосом, бесстрастно произносила: «Больше ты ничего не хочешь? Вот и славненько, иди погуляй», – и вымогатель «отваливал». На практике она всегда устраивалась на работу чистую и необременительную. Когда я заметил это, Лида мягко оправдалась: «Я наработалась, Игорек, пусть другие пашут. Знаешь, сколько за нашими спинами дармоедов?»

Лида Фролова, Нэлли Гончаренко, Валя Гук, Вера Кривицкая
(сл. напр.). Вознесенская, 1963
Дни напролет мы работали за одним столом. Я заготавливал продукты и дрова, Лида готовила обеды. Я помогал делать расчеты, она неплохо чертила. Поздним вечером провожал свою «квартирантку» в общежитие, а ранним утром встречал.
Однажды она пришла сердитая и с порога спросила: «Феньку знаешь?» – «Соседку?» – «Ее. Иду, а она у калитки меня поджидает. Только поравнялась, ехидно так спрашивает: Лида, чи справди вы с Катькиным квартирантом поженились? Я и бровью не повела, ты меня знаешь. – А что, говорю, разве плохой парень? – Парень-то добрый, отвечает, да у тебя скильки таких було? Ну, я ей и врезала. Було много, говорю, но такой дуры не попадалось. В общем, Игорек, надо закругляться, а то станица сбесится». Мы знали, что ходят сплетни о наших совместных занятиях, и посмеивались. Даже нравилось дразнить «общественное мнение». Садились за стол и шутили: «Ну что, жена, рыба готова?» – «Подожди минутку, муженек, еще не остыла».
Перед Новым годом вернулась Катя. Вошла, сняла плюшевую телогрейку, развязала платок и, поправляя волосы, заговорила: «Пока шла – чего только не наслушалась. Ты, Лида, не ходи больше. Зачем мне на старости такая слава?» И Лида, быстро уложив вещи, без всяких объяснений ушла. Перед отъездом, на автовокзале, ко мне подошел станичный фельдшер Иван Макарович – плешивый, с набрякшим носом и бегающими глазами, старик. Он подмигнул, осклабился и спросил: «Ну, как студент, хорошо жил с Фроловой?» Я отвернулся и направился к автобусу.
Завод
Первая запись в моей трудовой книжке сделана 4 февраля 1962: меня определили учеником на Вознесенский маслосырзавод. За 40 месяцев учебы я заработал 15 месяцев производственного стажа. Профессиональная подготовка была поставлена в техникуме образцово, причем государству не стоила ни копейки. Учебный завод, за исключением главных специалистов, обслуживали полностью студенты и получали при этом только стипендию.
Я переступил заводской порог и оробел: грохот машин, переплетения труб, непонятные движения людей. Николай заметил мое смущение и подтолкнул вперед: «Что, страшно? Через месяц будешь таким же спецом, как они», – и кивнул в сторону аппаратчиков. Я надел халат, деревянные подошвы-«цоки» и прошел в сыродельный цех. Здесь впервые увидел, как огромная масса молока превращается в усеченные конусы кобийского сыра. В цехе трудились две женщины средних лет. Они доброжелательно встретили новичков, объяснили смысл своих действий и предложили выполнять подсобные операции: мыть и дезинфицировать оборудование, подготавливать формы-корзины, переворачивать сырные головки. Через месяц наших наставниц перевели в хранилище, и мы с однокурсницей Любой стали управляться одни, без подсказок и надзора. Рассольный кобийский сыр прост в приготовлении, не требует длительной выдержки. Просоленные головки укладывали в бочки, заливали крепким рассолом и отправляли потребителям в республики Северного Кавказа.
К лету под руководством мастера Ивана Алексеевича я научился варить твердые классические сыры. Расторопность, точность, аккуратность – необходимые качества в сыроделии, это я усвоил сразу и неукоснительно выполнял все указания опытного учителя. Наступил тот день, когда мастер вручил мне баночку дорогого сычужного фермента из Дании и разрешил самостоятельно вести смену. Не буду скрывать: я возгордился и ощутил небывалый прилив радости и сил. Мне было всего 16 лет, а я наравне с искушенным Иваном Алексеевичем был назначен сменным мастером и каждый день ставил свою подпись в производственном журнале. Старший мастер Кузьмич осторожно похвалил меня: «Ты, парень, на свое место попал, держись и не сворачивай».
В летний сезон завод работал круглосуточно, дневные смены чередовались с ночными. Нередко мы и ночевали при заводе, чтобы не терять времени на дальнюю дорогу в станицу и хорошо выспаться.
Процесс варки сыра весьма напряженный и стремительный, он рассчитан по минутам. Стоит затянуть какую-либо операцию, и получишь необратимые последствия. Врожденное чувство времени и сосредоточенность помогли мне, работа спорилась, я без осложнений выдавал за смену две, а то и три, партии. В цехе я был властелином, хозяином, здесь всё подчинялось моей воле: вентиля и краны, насосы, трубопроводы, сверкающие ванны из нержавейки, термостаты. Я заполнял ванны теплым молоком, вносил закваску и наблюдал, как под воздействием нескольких ложечек фермента молоко в считанные минуты сворачивается, превращается в белое желе. Тут наступает самая горячая пора, некогда смахнуть пот с разгоряченного лица. Осторожно переворачиваю ковшом верхний слой до появления зеленоватой сыворотки, разрезаю лирой всю молочную толщу, пускаю пар и включаю мешалки. По мере нагревания сырной массы, увеличиваю скорость мешалок и контролирую образование белковых зерен до необходимого размера. При этом обязательно разжевываю горсть белых комочков, и рот обволакивает нежный сладковатый вкус – зерно готово. Я останавливаю мешалки, даю осесть белку на дно ванны и спускаю горячую сыворотку. Обнажается сырный пласт. Остается уплотнить его прессом, разрезать на бруски и разложить в деревянные формы. Свежесваренные, упругие, как резина, головки отправляются под пресс и далее в подвалы для солки и длительного созревания.
Не помню, по какому поводу я возразил мастеру. Он посчитал это недопустимым и немедленно разжаловал в рабочие сырподвала. В промозглых сырых камерах я чистил цементные бассейны и заполнял свежим рассолом, переносил и чистил головки сыра, загружал автофургоны. И здесь, в холодном полумраке, я не унывал, а распевал во всё горло: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?». На тяжелый изматывающий труд никто не жаловался – не было такого поветрия. Молодость легко берет любые высоты, а полное доверие, которым мы пользовались, подстегивало усердие и азарт. С каким наслаждением я съел первую в моей жизни тарелку клубники с густыми кремовыми сливками. Всегда полуголодные, мы с нетерпением ждали заводского сезона. Тут начиналось раздолье. Припасенный кусок хлеба обрастал маслом, прямо из трубы лилось в кружку теплое пенистое молоко, в широком ковше отливала глянцем плотная закваска. Обычно мы смешивали ее со сливками и сразу насыщались. Иногда мастер разрезал головку ярославского или голландского сыра, обращал внимание на равномерность и типичность рисунка, на хрустальную «слезу» в глазках и угощал тонкими эластичными ломтиками янтарного цвета.
Лакинка
Когда началось распределение на преддипломную практику, я выбрал из списка Владимирскую область. Спросили: «Почему так далеко?» – «Хочу побывать в Москве, посмотреть русскую природу». Члены комиссии переглянулись, но уважили мою просьбу. По музыке, песням, картинам у меня сложилось поэтическое представление о среднерусской земле, и я мечтал своими глазами увидеть ее красу, услышать ее людей. Так осенью 64-го я очутился в поселке Лакинка под Владимиром. Большинство жителей посёлка работало на прядильно-ткацкой фабрике, да и сам посёлок носил имя рабочего-ткача М. Лакина, участника революционных событий 1905 г. (ныне г. Лакинск).
Меня приютила на время практики пожилая чета Рубцовых – хлебосольных, отзывчивых русичей. Я поднимался в 6 утра, срывал в саду холодное хрусткое яблоко и уходил на завод: с семи начиналась смена. На Собинском молочном комбинате меня приняли с радостью: аппаратчик Егор уходил в отпуск, и на замену требовался временный работник. Через 2 дня я самостоятельно работал в аппаратном, влился в заводской коллектив и добился признания, а когда уезжал, то получил отличную характеристику и приглашение на работу.
После смены начиналось мое время. Ходили с хозяином Володей по грибы, бродил по живописным улицам и окрестностям Лакинки, несколько раз съездил в Москву и Владимир. Смотрел, вслушивался, запоминал. Не верилось, что хожу по древней русской земле, где до меня жили десятки поколений. И моя маленькая жизнь, проросшая на самом верху, сразу получила вековую глубину и корни. Однажды свежим октябрьским утром дядя Володя пришел с улицы и громко возгласил с порога: «Хрущева скинули! Конец Никите!» Через полчаса я сам слушал сообщение ТАСС. Несколько дней поселок радостно гудел – Хрущева не любили.
В одну из суббот я сидел в горнице и рассматривал иллюстрации Глазунова. Распахнулась дверь, и вошла светловолосая кареглазая девушка в плаще, с сумкой. От всей ее небольшой фигуры веяло невыразимой прелестью. Увидев меня, она с напускной строгостью спросила: «Это откуда в моем доме незваные гости?» Я представился. «Понятно. Давайте знакомиться – Рита», – и она протянула сложенную лодочкой, еще прохладную руку. Я сказал, что знаю ее по рассказам матери. «Ну, мама наговорит… Почему же заехали так далеко? Ах, русскую природу посмотреть, нашу красоту. И как, не разочаровались?» – «Напротив, – воскликнул я. – Вы слышали симфонию Калинникова?» – «Конечно». – «Теперь я знаю, что там звучит ваш осенний лес, владимирские поля». – «Почему обязательно владимирские? – рассмеялась Рита. – Хотя у нас даже город Юрьев-Польской есть, стоит в полях. Так вы увлекаетесь музыкой? Непонятно, как вы оказались в молочном техникуме». – «Мне и в техникуме интересно. Знаете, когда «сыр плачет»? – и я прочитал ей маленькую лекцию о сыроделии. Она выслушала, не сводя с меня приветливых глаз, и спросила: «А вы знаете («Называйте меня на «ты», – перебил я её), что рядом находится село Ундол, где в своём имении жил Суворов? Хочешь, покажу?»



