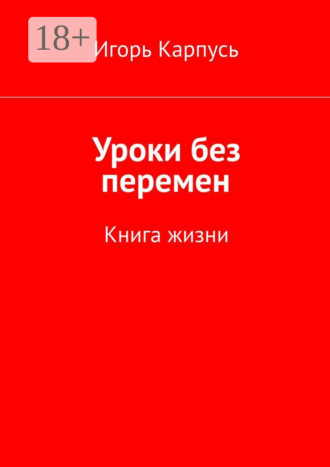
Полная версия
Уроки без перемен. Книга жизни
К весне я настолько уверовал в свои возможности, что самостоятельно написал и отправил в Англию письмо редактору журнала «Girl». 8 мая 1958 г. я получил необычный продолговатый конверт с лондонским штемпелем. На конверте был напечатан мой адрес: Igor Roodoy, 25, Trofimova Street, Novorossiysk, U.S.S.R. Вот что ответил мне Markus Morris, Editor (даю перевод): «Дорогой Игорь, я получил твое письмо, адресованное журналу „Girl“. Ты просишь для переписки адрес девочки. Насколько я понял, ты – мальчик, и боюсь, что не смогу выполнить твою просьбу. Дело в том, что наш журнал предназначен только для переписки читательниц-девочек. Предлагаю воспользоваться списком желающих переписываться в журнале для мальчиков „Eagle“. Если ты согласен, пожалуйста, напиши мне и сообщи про свой возраст и увлечения. Тогда я постараюсь найти для тебя подходящего мальчика». Разумеется, я немедленно написал с помощью учительницы новое письмо и стал с нетерпением ждать ответа. Но ни летом, ни осенью я не получил из Лондона ни строчки. Думаю, письмо перехватили.
После семи классов я собрался поступать в строительный техникум, и Вера Георгиевна решительно высказала свое недовольство: «Тебе надо окончить среднюю школу и в институт, на иняз». Но родители были другого мнения, и я расстался с товарищами и учителями. Впоследствии я не знал трудностей с английским ни в техникуме, ни в университете, а поставленное в школе произношение вызывало одобрение всех преподавателей.
Ровесники
Безусловно, лучшим учеником нашего класса был Володька Потолицын – круглый отличник. Я не завидовал ему, потому что видел: Володька получает свои пятерки заслуженно. Он знал ответы на все вопросы, быстро решал задачи и объяснял так, что учителя, не дослушав, садили его на место с очередной пятёркой в дневнике. Был он хороший товарищ, не зазнавался, помогал слабакам и давал списывать уроки по математике и физике. Зато переводы по английскому и упражнения списывали у меня. Иногда мы вместе возвращались домой из школы: Володька жил в середине улицы Осоавиахима, а я на конце, где пролегала моя Степная, бывшая Трофимова, и я выслушивал торопливые рассказы моего спутника из прочитанных книг. Читал он много и по совету словесницы заполнял читательский дневник. Бывали дни, когда Володька предлагал: «Сыграем в шахматы?» – и мы заходили к нему домой. Он и в шахматы играл так же обдуманно и серьезно, как учился. Я заранее предвидел исход партии и не переживал, получая очередной «мат». А Володька не скрывал торжества победителя. Во время игры его охватывал азарт, и он приговаривал: «Ах, так? А мы тебе вот так! Ну-ка, посмотрим.… Сейчас я тебя накажу».

Выпуск 7 класса.
В центре В. Одинаркина, М. Суркова, З. Шишкина
(сл. напр.), В. Зелёв (сидит 4-й спр.), Э. Руд (сидит сл.). 1960
Однажды я случайно выиграл: увлеченный комбинацией, Володька прозевал мой удачный ход. Как он расстроился, разволновался – чуть не заболел, потерял привычную уверенность и стал уговаривать: «Не уходи, давай сыграем еще разок. Не пойму, как я проглядел?» И не отпускал меня до тех пор, пока я не сел за доску и без всякого интереса уступил его напору.
У меня не было врагов и недоброжелателей, как не было поводов для крупных ссор и драк. Те, кого называют коноводами и вожаками, у нас отсутствовали, и даже здоровенные второгодники не бравировали взрослостью и не пробовали силу на слабых. Кого-то забыл, кого-то помню. Славка Втюрин собирал марки, и на переменах мы разглядывали его богатую коллекцию. Витька Стороженко квакал и блеял на зоологии. Петька Ченцов, подражая взрослым, сыпал анекдотами. Эмма Руд изображала взрослую девушку и презрительно отворачивалась от грубиянов. Аркаша Гонский хвастал редким в то время телевизором и пересказывал телепередачи. Людка Лукьянченко мечтала о сцене и была примадонной школьного театра. Костя Ткаченко подкладывал в дневники издевательские карикатуры. Сашка Протасов делал на уроках труда самые красивые указки и дарил учителям. Петька Гужва показывал неприличные фотографии. Лариска Оклеева томно вздыхала и строила глазки. Отличный гимнаст Андреев защищал на всех соревнованиях спортивную честь класса. Верзила Долбня приносил в спичечном коробке крупных, как чернослив, тараканов и кидал на девчонок. У Долбни я купил однажды за рубль мелочью редкую в те времена жвачку – белую «подушечку» с мятным вкусом; мы жили в портовом городе, и по рукам постоянно ходили импортные жвачки, зажигалки, сигареты, штучные сладости, а то и фото с обнажёнными красотками.
Самым близким приятелем был Витька Зелёв. Забытый родителями, он жил с бабушкой – доброй ворчливой старухой. Витька легко заводился и набрасывался на обидчиков с кулаками, но его предпочитали не задевать. Учился он на тройки, ходил в нарушителях дисциплины. Худой, взъерошенный, с зелеными дерзкими глазами, он высмеивал тихонь и примерных, а я к ним не принадлежал и знал, на каких уроках следует работать, а на каких можно повеселиться. У нас не было тайн, и Витька, на правах более просвещенного, рассказывал мне такие вещи, от которых я покрывался лихорадочным румянцем. После школы мы разошлись в разные стороны, и бывшие одноклассники часто делали вид, что не знают друг друга. Один Витка Зелёв не отвернулся при встрече и бросился на шею.
Побег
Осенью 56-го я пошел в 4-й класс и через месяц задумал побег. Стояли теплые погожие дни. Мать лежала в больнице. Я ходил после школы за покупками, кое-что готовил, встречал отчима, и после ужина мы принимались за стройку. Не заладилось в школе, я получил несколько двоек и скрывал их. На вопросы отчима, который имел привычку расписываться в дневнике, я бодро отвечал: «Всё в порядке, не спрашивали». Вечером к калитке то и дело подбегали мальчишки: «Выйдешь?» – «Отец не пускает», – буркал я, и они на моих глазах продолжали прерванную игру.
Однажды, возвращаясь домой с Колькой Пухальским, мы обсудили наши дела и согласились, что жить совсем худо. Маленький щуплый Колька жил с матерью-одиночкой и хныкал, что мать бьет его по всякому поводу. «Сегодня, наверно, всыплет», – сказал он обреченно, и я знал, что в дневнике Колька несет учительскую жалобу на «плохое поведение». У меня не было никаких преимуществ, мы оба, в подробностях, представили ближайшие дни и часы. И тогда я выпалил: «Давай убежим!» – «Куда?» – «На юг. По шоссейке дойдем до Сочи – там зимы не бывает, тепло. Будем рыбу ловить и продавать, фрукты собирать. Не пропадем». Моя уверенность подавила колебания друга, призрак свободной жизни поманил, и он согласился. Еще несколько дней мы обсуждали подробности предстоящего побега: копим деньги, запасаем побольше хлеба и картошки; я беру учебники, чтобы продолжать учебу; днем едем на попутных и пешком, а ночуем в лесах.
Наступил день, когда добросовестно отсидев утреннюю смену, мы в последний раз пришли домой. Я положил в портфель учебники и дневник, а в сумку – несколько картофелин, хлеб, соль и спички. Знал, что отчим держит деньги под матрацем, и вытащил оттуда 25 рублей, а на столе оставил записку: «Мама и папа, я ухожу насовсем. Спасибо за то, что вы меня кормили».
Мы встретились в условленном месте и двинули на восточный берег бухты, где от цемзаводов начинается извилистое Сухумское шоссе. Путь был дальний. Когда в цементном тумане подходили к заводу «Октябрь» на городской окраине, солнце уже садилось. Мы высмотрели тропинку на склоне голой Сахарной головы и полезли вверх. Внизу, у моря, остался изрешеченный пулями остов железнодорожного вагона, полоска шоссе, гудящий завод. Над нами тянулись уступами белые карьеры разработок и на фоне гаснущего неба – волнистая линия Маркотхского хребта. Мы остались одни.
С той площадки, на которой мы остановились, отчетливо просматривалась вечерняя бухта и противоположная сторона. Мы находили знакомые улицы, здания и перекрикивали друг друга: «Смотри, башня на горке! Вон там, левее. А церковь нашел? Наша школа!»
Стемнело, развели костер и стали поджаривать насаженные на прут куски хлеба. Гадали, что будут делать родители, и не сомневались, что начнут искать. «Ничего, – успокаивал я. – Завтра утром мы уйдем из города, и нас никто не заметит». Колька промолчал. Между тем, ближние предметы исчезли из глаз, нас обступила непроницаемая южная ночь. Похолодало, и мы сразу догадались, что совсем не готовы к длинному путешествию: хлеб не насыщал, одежда не грела, спать на камнях невозможно. Сидели всю ночь у тлеющего костра, скорчившись в три погибели. Колька не выдержал: «Давай вернемся». – «Да ты что! – прикрикнул я. – Испугался? Дальше легче будет. В лесу сделаем шалаш, травы настелем». – «Хочу домой», – и я понял, что друга не отговорить, он сломался.
Возвращение в самом начале было позором, но идти в одиночку я не решился. Захлестнула досада и злость: «Какой ты пацан? Сдрейфил, сопли пустил», – набросился я на Кольку. Он и не оправдывался, сжался в комочек, засунул руки подмышки и грустно смотрел на огонь. На заре, продрогшие и измазанные сажей, мы спустились вниз, молча проделали обратный путь и разошлись по домам. Меня встретил отчим, потребовал все рассказать, но не наказал и от матери скрыл. На следующий день я привычно сидел за своей партой.
Наставник
По общему мнению, самым заметным из учителей моей школы был историк Тимофей Иванович Гончаренко. Ему было под 40. Среднего роста, плотный, в неизменном темно-синем лоснящемся костюме, он сразу обращал внимание степенной походкой, горделиво-прямой осанкой, значительным выражением полного, до синевы выбритого, лица. Он носил золотое пенсне и смотрел на всех немного свысока, покровительственно. Рядом с ним и взрослые, и мы, дети, заметно тушевались, хотя он никогда не повышал голоса и не сердился. Все, без исключения, сознавали важность его фигуры.
Осталась в памяти будничная сценка. Десятиклассник – шалопай перехватил на лестнице историка и стал выпрашивать оценку: «Ну поставьте четверку, что вам стоит? Меня могут в стройбат направить». Тимофей Иванович приостановился, сверкнул из-под пенсне уничтожающим взглядом: «Зачем же засорять стройбат? Я бы тебя, Петухов, отправил в штрафбат», – и прошествовал мимо.
Преподаванием истории он не увлекался, я не помню его пространных объяснений и рассказов. Как правило, после опроса по учебнику Тимофей Иванович задавал урок на дом и со словами: «А теперь почитаем, как мучили еретиков», – вытаскивал старую книгу о средневековье. «Кто сегодня будет читать – Анисимова или Рудой?» – спрашивал учитель и в зависимости от выбора вручал чтецу.
Истинную страсть Гончаренко вкладывал в литературу: он был известным детским писателем и журналистом, его небольшие книжки рассказов издавались в Краснодаре и имелись во многих семьях. Работая в школе им. Пушкина, учитель считал своим долгом приобщать к словесности, развивать литературные вкусы и способности школьников. Его любимым детищем стало литературное общество «Алые паруса», где он собрал десятки одаренных ребят. Я учился в 6 классе, когда учитель предложил и мне описать какой-нибудь случай из жизни и принести сочинение на заседание общества. Я что-то нацарапал, и меня приняли.
Как ни жалки, беспомощны были наши писания, Т.И. с присущим ему великодушием и терпением исправлял рукописи, придавал им литературную форму и сдавал в печать. Да-да, творчество «парусников» складывалось не в архив, а публиковалось в ежегодном школьном альманахе. Догадываюсь, какую уйму сил и времени отнимал этот альманах у писателя. Наши стихи, рассказы, очерки, сказки перепечатывались на машинке, иллюстрировались школьными художниками и переплетались в огромный нарядный фолиант – предмет гордости юных литераторов и наставника. Не знаю, сохранились ли эти альманахи, там было достаточно детских шедевров. Помню, как сияющий издатель носился по школе, показывая всем очерк моего одноклассника Сёмки Коднера «В порту» – его вскоре напечатала городская газета. Так на заре жизни я получил представление о «ЗОЛОТОЙ РОЗЕ» Паустовского и высокой ответственности пишущего человека. А накануне 20-летия сам отнес в редакцию «Новороссийского рабочего» первую корреспонденцию – заметку о фильме С. Крамера «Нюрнбергский процесс». Ее напечатали дословно, не изменив ни запятой.
С этой публикации начались мои регулярные выступления в местной печати.
Прошли годы. В сентябре 1965 меня приняли по подсказке матери в школу №2 на Куниковке преподавателем производственного обучения. Тимофей Иванович тоже трудился в этой школе, и мы стали коллегами. С моим юным видом вряд ли старшеклассники воспринимали меня всерьез. На уроках воцарилась раскованная, искрящаяся юмором и фантазией, атмосфера: я играл на учеников, они подыгрывали мне. Рассказывал много кулинарных историй, особенно подробно раскрыл молочную кухню, смешил гастрономическими курьезами и анекдотами. А между тем задумывался: кем же я буду в школе? чему научу? И вот тут-то снова в мою судьбу вмешался Тимофей Иванович. Зная мою давнюю любовь к музыке, он сразу привлек меня к устройству литературно-музыкальных вечеров для старшеклассников. При каждом удобном случае историк стал подталкивать к поступлению в Ростовский университет. «Там сильный исторический факультет, где меня хорошо знают, – говорил он. – История даст тебе знания и кругозор, это необходимо для сознательной жизни. Надо понимать мир, в котором мы живем». И я начал готовиться к вступительным экзаменам. Накануне отъезда в Ростов Тимофей Иванович снабдил меня собственной книгой и рекомендательным письмом для передачи проректору. Летом 66-го я получил на вступительных экзаменах пятерки по литературе и истории и четверку за сочинение и был принят на заочное отделение истфака.
Я виноват перед учителем и сильно – понимаю это только сейчас. Могли бы сойтись ближе, душевнее, но я не сделал ни одной попытки и, в сущности, ничего не узнал, не понял в этом интересном сложном человеке. Думаю, что он в таком сближении нуждался.
Впрочем, не таковы ли отношения между всеми учителями и учениками: всегда односторонние, от старшего к младшему? А как хочется иного!
Вознесенская
В 1960 я закончил 7 классов с похвальной грамотой и оставил школу. Отчим настоял: «Хватит баклуши бить, надо получать профессию». Мать не прекословила, и я сдал документы в коммунально-строительный техникум.
12 апреля 1961 я сидел на лекции. Вдруг резко распахнулась дверь, и в кабинет ворвался старшекурсник: «Слышали? Наши в космосе!» Никто ничего не понял. Вслед за преподавателем высыпали в коридор и по лестнице сбежали в вестибюль. Там уже гудела толпа молодёжи. Секретарь комитета комсомола открыл митинг и срывающимся голосом сообщил о первом космическом полёте. На улицах было не протолкнуться, и у всех на устах одно имя – Гагарин.
В техникуме учился ровно, старательно, но ясно понимал: это не моё. Мне исполнилось 15 лет, силы возросли, многое уже знал, умел, и прежнее положение в семье не устраивало. А родители добивались одного – послушания и исполнительности, им так было удобно. Мечты о самостоятельной жизни, без приказов и оглядки, настолько запали с сознание, что я решил действовать. Из газеты узнал о Вознесенском техникуме молочной промышленности и отправил туда заявление с просьбой о переводе. Вскоре получил положительный ответ и подступился к матери. Я убедил её неотразимым доводом: и сам буду сыт, и вам помогу. Въевшаяся бедность, привычка экономить каждую крошку заставляли рано думать о верном куске хлеба, эта забота была у нас общей. Впрочем, никто и не собирался меня удерживать.
В конце августа мы с матерью приехали в Вознесенскую. В общежитии свободных мест не было, и мать устроила меня к одинокой старухе Соне. Вознесенская – большая казачья станица в Лабинском районе, отлично спланированная и застроенная, с широкими улицами и огромной площадью, где вздымалась краснокирпичная громада заколоченного храма Вознесения, освящённого в 1906 г. Асфальт отсутствовал, и дождливой порой я месил грязь в тяжёлых кирзовых сапогах. В окрестностях виляла мутная, как все на Кубани, река Чамлык, раскинулись густые заросли терновника и тальника.
Вознесенская берёт начало с Ново-Донского укрепления, заложенного в 1841 г. в разгар Кавказской войны. Первыми поселенцами были донские казаки, позже прибыли крестьяне из великорусских губерний. Памятная веха в истории станицы – визит Александра II в 1861 г.: царь знакомился с новыми владениями своей империи. В 1910 г. в станице проживало 15560 человек. В 1874 г. открылась школа садоводства и огородничества, реорганизованная в 1920-е годы в сельскохозяйственный техникум. В 1930 г. он был преобразован в техникум маслодельно-сыродельной промышленности, ныне – колледж молочной промышленности. За 75 лет в моём учебном заведении подготовлено свыше 14 тыс. специалистов.
Несколько магазинов, столовая, библиотека и холодный клуб – вот и все места, где собирались колхозники. В парке заложили дворец культуры, но дальше фундамента стройка не двинулась, и глыбы розового туфа годами мозолили глаза станичников. Перед правлением на фанерных щитах красовалась во всех видах кукуруза – стройная кокетливая девушка в зеленом наряде с челкой. Стихи под картинками внушали, что «кукуруза – это мясо, это масло, молоко».
С кукурузой я познакомился в первые же дни сентября. Все учащиеся с преподавателями, кроме выпускников, были мобилизованы на уборку богатого урожая. Двухметровые мощные стебли тянулись длинными рядами и сливались в зеленое море. Чтобы выломать крупный початок, требовалось значительное усилие. Я прошел свой ряд позже всех и свалился в изнеможении на край поля. Не обрадовал даже колхозный обед – кружка молока с ломтем хлеба: трудно было встать и идти на раздачу. Лишь через две недели я освоился и втянулся в трудовые будни.
40 месяцев я провел в станице, эти месяцы сделали меня взрослым человеком. Я жил в условиях свободы. Не было назойливого контроля, давления, наказаний: хочешь – учись, не хочешь – гуляй. Одна угроза маячила перед беззаботными и нерадивыми – отчисление из техникума. Но эту крайнюю меру применяли редко, в исключительных случаях, обычно стращали и прорабатывали. Помню, как одна из матерей уломала мою хозяйку взять на постой сына-шалопая. Он жил в общежитии и не только запустил учебу, но ударился в ранний разгул. Мать надеялась, что рядом со мной мальчишка исправится. Новый квартирант Алеша, видимо, потешался над моими конспектами и затворничеством. В минуту откровенности он спросил: «Катьку Булатову знаешь?» – «Знаю». – «У нас все пацаны с нею перепробовали». – «Как перепробовали?» – «Очень просто. Она сама предлагает и дает сколько хочешь». Я уже прочитал «Яму», и мне хотелось узнать подробности. Сделав усилие, я придвинул «Аналитическую химию» и сказал: «Давай-ка уроки делать, уже поздно». Алексей разочарованно отвернулся и больше не обращался ко мне. Мы вели раздельное существование в одной комнате, пока парень не съехал на другую квартиру.
Зимой приезжали на сессию заочники – мастера, механики, лаборанты, и наш коммунальный дом превращался в беспокойное общежитие. Хозяйки радовались случаю подработать и сдавали все углы и свободные кровати. Я заглядывал к соседям и наблюдал, как женщины извлекали из сумок тушки жирных гусей и уток, головки сыра, куски масла и делили провизию на две части: для себя и преподавателей. В комнате бабы Сони, рядом со мной, расположился молодой механик Толя. Я делал ему контрольные, натаскивал к экзаменам, а он расплачивался со мной банками сгущенки. Вечерами, засидевшись за столом, мы резво вскакивали и затевали яростную борьбу. Летели на пол подушки, трещали кровати, Соня с притворным ужасом металась из угла в угол. Толя распластывал меня на полу и спрашивал: «Сдаешься?» – «Ничья», – отвечал я и напоминал: «Тебе завтра экзамен сдавать».
Казачка
Широту, щедрость русской души я узнал, когда поселился у Кати Кармазиной. Кате было за семьдесят, но никто не назвал бы её старухой. Сильная и выносливая, она ловко справляла всю деревенскую работу, помогала взрослым детям, была бессменной письмоноской. Как говорили станичники, «Катю каждая собака знает». Я никогда не видел её задумчивой и обеспокоенной, казалось, заботы обходили её стороной. Она просто не любила выпячивать свои болячки да ещё козырять ими, как это делали другие бабы. Круглое смуглое лицо, покрытое сеткой морщин, всегда улыбалось; чёрные, с отливом, глаза глядели с молодым задором. Там, где Катя появлялась, сразу раздавались взрывы смеха и выскакивали, как искры, острые словечки. Только я знал, что опорожнив тяжёлую почтовую сумку, Катя открывала бесшумно дверь, снимала запылённые башмаки и ложилась на диван лицом к спинке – перевести дух. Через час, свежая и бодрая, она звала меня «вечерять».
В Катином домике меня словно подменили, я стал таким же смелым и проказливым. Как-то осенним вечером я напялил Катину юбку и кофту, приделал пышные груди и предстал перед хозяйкой в облике соседки Нюрки – хитрой, скупой и мужелюбивой бабы. Катя опрокинулась на диван и зашлась в припадке оглушительного хохота: «Ой, не могу, ох, насмешил, ещё, Игорёк миленький… Вылитая Нюрка!» Практикуясь почти каждый вечер, я делал успехи, и Катя иногда приглашала на представление родственников. Я, впрочем, не смущался и с нарастающим озорством входил в образ.
В застолье Катя открывалась затаённой, поэтической стороной души. Все знали это, и после первых рюмок кто-нибудь обязательно предлагал: «Катюша, начинай». И она, сразу забыв о веселье, сильным покоряющим голосом затягивала любимую песню. Компания, так же серьёзно и прочувствованно, подхватывала. Катя знала много старинных песен, пела их одна и на пару с дочерью, но эта всегда была наготове. Я запомнил её непроизвольно и передаю дословно.
Ах, вспомни, мамаша, ту тёмную ночь,Когда дочки дома не стало.Красавец-бандит увозил мою дочь,Ушла – ничего не сказала.Он клялся-божился, что будешь моей,И в душу он крался змеёю.Потом насмеялся злодей надо мнойИ выгнал на двор меня зимою.Стою под забором, а ночь холодна.Вдруг едет купец полупьяный:«Ах, здравствуй, ах, здравствуй, красавица-дочь!А кто ж тебя выгнал зимою?Поедем, красотка, кататься со мнойВ ближайший кафе ресторана».Не знаю, что дальше было со мной.Наутро в больницу попала.Так неразрывно с песней и живёт в моей памяти вознесенская казачка Катерина Кармазина.
Самообразование
Я сделался самым прилежным посетителем библиотеки. Это сразу заметила библиотекарша и предложила подготовить один доклад, другой, третий – обычно к знаменательным датам и юбилеям великих. Я беспрепятственно проходил в хранилище и сам выбирал книги. Когда одной библиотеки показалось мало, пошёл в станичную и обратился к толстым томам энциклопедии и «Всемирной истории». Они понадобились при подготовке конкурсной работы о развитии техники. К моему огорчению, конкурс не состоялся, поскольку единственную работу представил только я.
В первый же год я плотно засел за книги Ленина, хотя никто этого не требовал. Главное место в конспектах занял его знаменитый труд «Государство и революция». Я увидел брошюру в витрине газетного киоска и купил. Чем дольше читал, тем больше разгорался интерес, главные мысли книги звучали для меня откровением и не потеряли своей привлекательности по сей день. Как неожиданно, что под подушкой умирающей 94-летней М. Шагинян лежали 2 книги: Новый Завет и «Государство и революция». Мудрая старуха безошибочно определила главный источник марксизма.
Только много позднее я понял, что государство – это та раковина, которую несёт на себе улитка: разъять их невозможно. Но пафос преодоления государства, этого бюрократического общежития; предложения по ликвидации чиновничьей касты путем привлечения способных людей из народа; требования отмены государственных льгот и привилегий; план построения общества подлинного социального равенства и свободы – захватили меня безраздельно. Мне захотелось донести идеи Ленина до моих товарищей. Их было четверо: два Николая – Александров и Боченин, Юра Печерский и Володя Денисов, остальные – девушки и женщины. Парни смотрели на жизнь спокойно и трезво. Они отслужили в армии, поработали на производстве и сознательно выбрали техникум. То, что я пересказывал, они восприняли как хорошо им известное: «Так и должно быть, а в жизни, посмотри, всё наизнанку». Непривычными для них были острота и смелость ленинских суждений, так не похожих на трескучую коммунистическую пропаганду.
Наряду с ленинскими работами, я усердно штудировал книги по культуре и основательно познакомился с мировой музыкальной литературой и русским искусством: за 2 года заполнил две толстые тетради. Мне не сиделось на месте, приобретенные знания рвались наружу. У словесницы Евгении Давыдовны была небольшая коллекция пластинок с записями классики, и она предложила ими воспользоваться. Так в техникуме начались музыкальные вечера. Несколько раз в году я собирал в одном из кабинетов любознательную молодежь и рассказывал о Даргомыжском, Мусоргском, Бородине, Чайковском… Музыкальные вечера перемежались лекциями о сокровищах Третьяковки, я сопровождал их кадрами диафильмов. Ребята слушали внимательно, задавали вопросы, делали записи. И я, и они впервые были увлечены познанием прекрасного.



