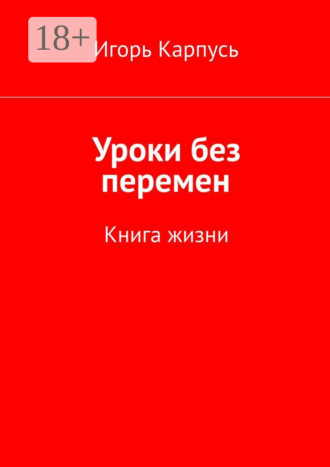
Полная версия
Уроки без перемен. Книга жизни
Вот террористка-народница Вера Фигнер, натура сильная, честная и прямая. Ей разрешили читать Чехова после 22 лет заключения в Шлиссельбургской крепости. Она поглощает один том за другим и останавливается: «Нет, больше не могу. На пороге второй жизни предо мной проходил ряд слабовольных и безвольных людей, ряд неудачников, ряд тоскующих. Страница за страницей тянулись сцены нестроения жизни и выявлялась неспособность людей к устроению её». Женщина, которая с юности выстроила свою жизнь так, как хотела, безоговорочно осуждает чеховских героев. Но ведь они не придуманы, они наводняют Россию. Довелось прочитать в Интернете мнения молодых о классике. Право, они почти дословно совпадают с чеховскими. 25-летняя Наталья Бушуева: «Я не понимаю, когда книги посвящают лентяям. Зачем мне хлам, который будет тянуть меня на дно!» Софья Колеватых, 17 лет: «Если всю жизнь лежать на диване и мечтать, ничего сверхъестественного не произойдёт и мечты так и останутся мечтами. И это касается не только каких-то материальных вещей, но и любви, друзей». Сразу видно, что обе не читали и судят понаслышке. Но 17-летней Соне простительно – в её возрасте такие вопросы не всплывают. В 25 лет можно попытаться и понять, а раз не поняла, то обнаружила ту самую обломовщину, которую осудила. Обломов – не лентяй, и любовью-дружбой не обделён, хотя лежит на диване. Суть в качестве человека, а не в поведении, вне смысла любая деятельность кончается дном. Печально то, что и без дивана ничего сверхъестественного у большинства не происходит: суетливые дельцы и ревнивые потребители. И как это обе не заметили Ольгу, Штольца? Роман-то бездонный, на все времена, как обожаемый ими «Мастер и Маргарита».
«Почему не читал?» – «А зачем?» После такого ответа хочется закрыть все школы. Как будто не было тысячелетия и благоговения летописца: «Это ведь реки, напояющие вселенную…» Нет, не в книги заглядывают нынче, а в экраны мониторов и расчётные ведомости.
Под сильным впечатлением «Жизни Василия Травникова». Пронзительная, суровая вещица о незаслуженности страданий и одиночестве гордой души. Такие истории – сплетение личного и внеличного, а наши, российские, трагедии – все сплошь рукотворные, из подземелий и подвалов.
Чехов в письмах из Сибири дважды описывает эпизод с золотопромышленником. Тот совал пачку ассигнаций за врачебную помощь, а писатель не брал, совестился. Отказался и от 6 рублей за лечение мальчика, потом пожалел. Уж лучше бы взял и промолчал. Как мучила его привитая себе добродетель в тех случаях, где она разорительна и неуместна. И всё-таки он оставался рыцарем. Вот это характер!
Задумался: почему «Горе от ума»? Ум в наличии: острый, насмешливый, беспокойный, приметливый, скорый на оценки и суждения, чуткий к переменам, жадный до нового и необычного. Жизнь и людей такой ум рассматривает как объект для критики, нападок и разоблачений. Это поняла Софья: «не человек, змея!» Никто не задается вопросом: а каким умом обладает герой? Что это за ум, который только озлобляет, отваживает и плодит врагов? С таким умом можно жить одному да еще с горем. Уверен, что в социальную сатиру Грибоедов вложил более глубокий, вневременной смысл. Его можно выразить народной мудростью: «ум доводит до безумья, разум до раздумья». Чацкий начисто лишен разума, он бестолков, безрассуден. А «ум без разума – беда, разум не велит – ума не спрашивайся». Чацкий не подозревает, что существует такое различие, не догадываются и миллионы умников. Он всем предлагает свой ум, и все отворачиваются. Ум следует подавать каждый раз в новой упаковке, смотря по потребителю. Иной раз съедают гарнир, не трогая основного блюда. Молодой девушке, например, ум влюбленного нужен во вторую очередь. А Молчалин это понимает, он везде свой и ловко обходит умного Чацкого. Как самоуверен, как ослеплен превосходством герой! Как далек он от разуменья фундаментальных свойств человека, видит повсюду только тыльную сторону. Там, где нужно сближаться, влиять, убеждать, входить в доверие, он с нарастающим жаром портит отношения и ссорится. Вот драма наших реформаторов-умников: никогда не умели встраиваться и постепенно переделывать общество, группировать и наращивать силы, вести за собой. Нет, только напролом, наскоком, дерзко. Горе себе, горе с ними. Однако, что это я распыхтелся, наговорил лишку? Ведь Чацкий так молод, ему простительно, да и сам я в положении постаревшего Чацкого среди вечно довольных и не рассуждающих. Да здравствует Чацкий! Да здравствует движение Чацких!
Ходасевич безошибочно угадал символизм «Ревизора». В анекдоте Гоголь бесподобно выразил характерную черту национального облика: видимость выдается за сущность, кажущееся принимается за подлинное. Безобидного вертопраха, не помышляющего об обмане, делают важной персоной и подстраивают под него всю городскую жизнь. Чиновничья логика не совпадает с логикой обычной жизни. Именно человеческая сущность Хлестакова вводит в заблуждение городничего, здесь его опыт надувательства бесполезен. Искренность Хлестакова обезоруживает матерого пройдоху. Бюрократия и обыватели постоянно пребывают в разграфленном иллюзорном мире, видят то, чего нет, чин и человек для них тождественны. «Ревизор» и «Игроки» – два действия единой комедии под названием «Вне игры». Герои проигрывают тогда, когда их выталкивают из игры в обычную жизнь. Для городничего и Ихарева нет тайн в призрачном мире бюрократии и карт, но они совершенно не знают подлинных людей и смешны вне очерченного круга. Финал там и тут одинаковый – саморазоблачение героя.
Последние два века – «Ревизор», поставленный в масштабах государства: гениальные артисты доигрались до банкротства. Сочинялись завиральные идеи, выдвигались хлестаковы, творили расправы городничие, из честных людей делали «врагов народа, шпионов и вредителей», а подонков объявляли героями. И до сих пор все ждут ревизора.
Из детства впечаталось: приходила одна из подруг матери и начинала тараторить, частить. Некоторое время мать слушала её и, потеряв терпение, властно прерывала: «Ну, залопотала. Сядь, помолчи и повтори снова, да так, чтобы я поняла». Закрываю последние номера толстых журналов и повторяю как мать: залопотались. Всё вымученное, претенциозное, худосочное и невнятное: язык, темы, композиция, стиль, персонажи. Режут заржавленным тупым ножом, и кроме пытки-чтения ничего не добиваются. Какие-то запутанные конструкции-скелеты, отталкивающие безжизненностью и холодом – постмодернизм. Зачем? Для кого? Для себя и своего приятельского круга. Пишут, издают и сами же читают, посылают друг другу шары. Им бы замолчать лет на 10—20 и начать снова. Может быть, тогда начнётся что-нибудь путное, настоящее. А пока печатать одну литературу факта.
Для Рикера состояние счастья в чтении прекрасных книг. Согласен: всегда под рукой, год за годом поглощают и возмещают все остальное: потерянное, несбывшееся, несбыточное. И еще, пока дышу, – музыка, степной ветер, приветливая улыбка.
Музыка
Грязный снег, базарная толпа, переполненные автобусы, а внутри непроизвольно и сладостно звучит: «И чего-то до слез и до боли мне жаль, в темном зале смолкает рояль». Звучит неотвязно и властно, как направленные сигналы с далекой планеты, как отзвук потерянного и забытого.
Слушал «Трубадура» и невольно сравнивал. В европейской опере всегда личные драмы и судьбы. У нас – грандиозные фрески народной жизни, торжество хоровой стихии. И здесь Русь неповторима, особняком, запредельна. А как распевается слово – уму непостижимо. Нет, мессианством не грешу, это же факт: одна Россия в позапрошлом веке стала вровень с целой Европой.
Чайковский рассказал о себе так, как никто другой. В 68-м, в Ростове, мы с Сашей на летней эстраде слушали «Зимние грезы». Перед исполнением он спросил: «А знаешь, что говорят о Чайковском?» Я тогда был совсем наивный и горячо возразил: «Вздор, послушай и сам убедишься». Он слушал впервые. Началось Адажио, мягко и пленительно запел гобой. Саша положил свою руку на мою, крепко сжал и выпрямился. После концерта он сконфуженно признался: «Ты прав, это сплетни». Какой рывок от прозрачной мечтательности и ожидания «Зимних грез» до сознательного прощания с миром в Шестой. Более полного и исчерпывающего ответа нет и быть не может: устремляться, надеяться, срываться и пасть, так и не взлетев до его упоительного Анданте.
Просидел неделю за нотами Литургии Чайковского. Глубинная неочевидная красота, извлекаемая постепенно от звука к звуку, от хора к хору. Выслушают, прослезятся, почистят душу и вернутся каждый к своему корыту. Жаль не людей – искусства, его кратковременной и бессильной власти.
Могучий животворный Бетховен. Он всегда требует участия, мобилизации сил. У него остановка, чтобы сосредоточиться перед броском; мечтательная отрешенность, чтобы накопить энергию для борьбы. А победа или поражение – это не выбирают. Это эпилог, в любом случае заслуженный и выстраданный. Анданте 4 концерта – выражение самой затаенной, хрупкой, стыдливой части души, то, что долго сопротивляется, прячется от когтистых лап потребы. Уже осталось одно невесомо-призрачное колыхание, но пока теплый пар туманит зеркало – человек жив.
Шнитке целиком перенес Пер Гюнта в наш век, его музыка выходит из берегов – расплавленное стекло, раскаленная лава, стирающая все на пути в бездну, даже песчинки. Сидел в холодном поту, пригвожденный и онемевший, вплоть до истерзанных, едва живых скрипок после урагана – слабый намек на мелодию, вернее – тень ее. Прямая перекличка с Шестой, но там личная трагедия, здесь – трагедия человечества. Куда дальше, если 19-летний матрос на атомной подлодке расстреливает спящих только потому, что «так решил», а садист организует детдом, чтобы мучить детей. Это уже не частности, не жалкий де Сад, «украсивший» собою целый век. Это конвейер, такой же привычный и обычный, как телеящики, компьютеры, реакторы, роботы, спутники… Перестали негодовать, рыдать, проклинать – вот что страшно, безропотно подчинились тому джину, которого выпустили из собственных недр в погоне за мнимым могуществом и комфортом.
Концерт Крамера – событие высшего порядка. Показал настоящий джаз – импульсивный, воспламеняющий, взмывающий и падающий орбитами электронов. Это было что-то невообразимое: вулкан, гейзер, кипящая кровь. Зал ходил ходуном, а маэстро, в отличие от классических исполнителей, надо обязательно слушать и видеть. Он не играл, он выхватывал из себя звуковую и ритмическую энергию и бросал на жалкие клавиши. Отметил отчётливость, чистоту исполнения: поданы и открыты каждый звук, аккорд, фраза, тема. А ведь так легко было смазать и затушевать. Великолепный урок для преподавателей и ораторов: слушай, вникай, перенимай, как следует держать и развивать ведущие идеи и понятия.
«Появились композиторы, которые, руководствуясь какими-то техническими догмами, я сказал бы – фашистскими началами, – лишили современную музыку мелодии. То, что рождается не от сердца, а от ума, меня абсолютно не интересует». Плассон высказался резко, но справедливо. Фашизм не отрекается от культуры – он выхолащивает её, вводит порядок, не допускающий исключений. Бегство от мелодии – свидетельство творческого бессилия, печать машинной эпохи. Но разве мелодия – излияние одного сердца, чувства? Самый простенький мотив, хоть «Во саду ли, в огороде», – это образ, чеканная мысль, признание. Что остаётся в памяти от необъятного «Тристана»? Насыщенный пламенеющий оркестр и клокочущая непобедимая тема любви-страсти – она-то и скрепляет беспредельную звуковую массу. Таривердиев оставил, между прочим, монооперу «Ожидание» – исповедь одинокой женщины. Слушается с нарастающим интересом. гибкий и разнообразный речитатив с неповторимой интонацией обладает главным достоинством: он напевен и продолжает русскую классическую традицию.
Пономарева, певица с тайной, исполняла авангард. Да ведь это деревенская вопленица: тот же первобытный хаос, излияние безмерного, гортанный голос пращуров. В авангарде современный человек движется вспять, к своему началу, бес-правильному существованию, торжеству восставшей природы. Отброшены массивы и нормы культуры, стерта память, разорваны условности и выпущено из-под спуда животное естество: больно – кричу, страшно – бегу, горе – бьюсь в конвульсиях, радость – прыгаю.
В «Саломее» опять изумила Стратас. Певица и актриса неправдоподобной силы. Читал музыку по ее лицу: от сладострастной и капризной девчонки до женщины, в которой преступление пробудило раскаянье и разум. Она вступила в поединок плоти и духа, чтобы обольстить еще одного мужчину. А вместо самца явился герой и вырвал юную прелестницу из плена вожделений. У Штрауса и Стратас – высокая драма. Такая же по смыслу концовка – в «Головлевых».
На последнем конкурсе Чайковского пианисты угробили романтиков – Шуберта, Шумана, Шопена. Играли технично, аккуратно, старательно. Боюсь, что эту музыку мы уже не услышим. Чтобы почувствовать себя романтиком, надо забыть о премиях, контрактах, гастролях. Надо быть и не быть, присутствовать и отсутствовать, помнить, что «обыденное – смерть искусства» (Гюго). Для молодых же артистов сущее – синоним истинного.
Отовсюду несется «Ave, Maria», превращенная в шлягер, и многие не подозревают, что у нас есть своя «Мария», прекрасная и возвышенная. Это «Мати Божия» Чеснокова. когда-то пел с «Соловушками», и ее воздушные гармонии навсегда остались в душе. Спору нет, обе гениальны, но я отдаю предпочтение нашей. Шуберт (да и Гуно) прославляет, любуется, восхищается Мадонной, но выражает земное отношение к небесной красоте и совершенству. Его мелодию можно напевать везде и всегда, она не выходит за грани видимого мира. Чесноков прорывается в мир вышний, бесплотный и бесконечный. Он достигает экстаза и вовлекает в экстаз всех страждущих и обременённых. Это благоговейное моление о защите и облегчении, трепетное созерцание, чистый порыв к милосердию и всепрощению. Порыв такой силы, что происходит вознесение.
Читаю священные тексты – не верю, слушаю колокольный финал «Китежа» – верю. Не посягая на место и славу Глинки, Мусоргского, Бородина, я все же уверен: величайшая национальная опера – это «Китеж». Здесь в первый и последний раз русский народ запечатлен в целостном образе: какой он есть и каким видит себя в истории и вечности. Русь живая, в шуме вековых лесов, кипении городской жизни, с «лучшими людьми», нищей братией и бражниками, в непрерывных схватках со «злыми ворогами». И Русь чаемая, омытая слезами и чистой верой, пришедшая в «град невидимый».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Посемейные списки Крутинского сельского общества. 1906 г. Исторический архив Омской области, ф. 20, оп. 1, д. 90а
2
ИАОО, ф. 20, оп. 1, ед. хр. 81. Статейные списки ссыльных…
3
ИАОО, ф. 2750, оп. 1, д. 98
4
ИАОО, ф. 16, оп. 6, ед. хр. 1423, л. 70
5
ИАОО, ф.20, оп.1, ед. хр. 90
6
ИАОО, ф..214, оп.1, д. 1207, 34 лл.
7
Онайко Надежда Анисимовна (1921—1983) – ст. научный сотрудник Института археологии АН СССР. Крупный специалист по античной археологии Причерноморья. Имя Онайко Н. А. присвоено одной из улиц Новороссийска.



