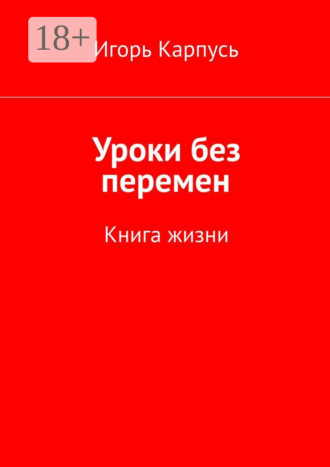
Полная версия
Уроки без перемен. Книга жизни
Дважды меня назначали начальником турпоездов. Сейчас я еще бы подумал, а тогда все происходило буднично и быстро: утром мне сообщали под расписку приказ, а днем я ехал на станцию и принимал состав. Это были первые турпоезда в Новороссийске. Сначала 360 горожан совершили путешествие в Волгоград, затем в Кабардино-Балкарию и курортную зону Ставрополья. В пути я обходил вагоны и знакомился с пассажирами, выслушивал пожелания, подбирал исполнителей для радиоконцертов. Энтузиастов хватало: читали стихи, пели песни, поздравляли родных и друзей. В Нальчике, на вокзале, встречало руководство местного турбюро. Мне организовали персональную экскурсию, покатали на канатной дороге, накормили шашлыком. Не скрою, я был смущён, никогда прежде не встречал такой предупредительности и внимания. С чувством сожаления и грусти мы оставляли этот чудесный город – необъятный благоухающий сад, окутанный прозрачным горным воздухом. Особенно восхищалась моя бабуля: «Вот где я осталась бы навсегда!» Знакомая учительница уже в пути сказала мне: «Ну, какой вы начальник? Ни осанки, ни важности. Видели, как ведут себя настоящие начальники? Рядом с ними вы были мальчиком». Мы посмеялись, и я согласился, что начальственным обликом не обладаю и в малой степени, а разыгрывать эту роль нет желания. «Жаль, значит начальником вам не быть», – предсказала знакомая и не ошиблась.
Зимой 1970 Ирина Ивановна предложила мне разработать к ленинскому юбилею новую городскую экскурсию. Приступив к работе, я обнаружил, что по разным поводам Ленин неоднократно обращался к черноморскому городу, начиная с «Новороссийской республики» и кончая восстановлением торгового порта. Получилось довольно интересное путешествие, в котором местная история переплелась с биографией вождя. Я старательно избегал слащавости, газетного стиля и ложной патетики. Заканчивал экскурсию так: «В Новороссийске имя Ленина встречается повсюду. Эта традиция сложилась после смерти великого человека и заботливо поддерживается в Советской стране. Зная личную скромность Ленина, думаю, что он был бы более счастлив, если бы видел, что дело его живёт не столько в памятниках, сколько в делах и планах поколений». Слушатели оживились, один из методистов подытожил: «Сложилось впечатление, что Ленин всю жизнь только и занимался Новороссийском. Мы понимаем, что масштаб намеренно увеличен, но в данном случае это оправданно». Моя экскурсия оказалась долговечной, я нашёл её в рекламном буклете Новороссийского бюро путешествий и экскурсий на 1988 год.
Следующей и последней моей экскурсией стал «Новороссийск писательский». Пересмотрел много литературы, собрал малоизвестный и занимательный материал и придумал для каждого эпизода особую форму изложения: диалог влюбленных Чехова и Книппер, встретившихся в Новороссийске; внутренний монолог-размышление о жизни Николая Островского в приморском парке; рассказ Гладкова о работе над «Цементом» у стен завода; путевой дневник Гл. Успенского о раннем Новороссийске на набережной; воспоминания очевидцев о молодом Вишневском в порту и т. д. В этой экскурсии в наибольшей степени мне удалось осуществить принцип художественности. Обыкновенная документальная экскурсия – это набор справочной информации, не более, и затрагивает слушателей поверхностно. Свои соображения я высказал на совещании экскурсионных работников в апреле 1970, где обсуждалась подготовка к 25-летию Победы.
«Где истоки подвига? Почему идут на подвиг так безумно смело? Неужели подвиг доступен любому и всегда случаен? Не опростить этот великий порыв, заставить готовиться к нему, думать о нём – наша задача. Экскурсовод должен показать человека войны, творца подвига. Здесь не отделаться общими фразами. Если экскурсовод не обладает данными для такого разговора, если у него отсутствуют навыки элементарного перевоплощения, владения голосом и жестами, умение присутствовать в рассказе, то не следует и приступать. Ныне патриотическая экскурсия не может ограничиться барабанным боем и победным салютом, слушателей утомит однообразный тон, и они быстро потеряют интерес. 2—3 минуты займут на Малой земле строчки из солдатского письма: простые, понятные всем заботы о жене, детях; скупое сообщение о гибели друга; тоска по дому – но как много эти минуты всколыхнут в душе каждого, какой болью наполнят сердца живых. Дайте возможность насладиться красотой окрестного пейзажа. Природа – одна из радостей жизни, война лишает этой радости. На Малой земле с её морскими далями, окутанными дымкой хребтами гор слушатели не могут не сравнить в воображении две противоположных картины – нынешнюю и фронтовую. Им станет понятно, как горько и мучительно было солдатам умирать посреди такого великолепия. Но они выполнили свой долг перед Родиной. Так мирный пейзаж можно раздвинуть во времени, сделать источником гражданских и эстетических чувств.
Сделайте с этой же целью «Неизвестного матроса» главной фигурой Новороссийской десантной операции. Его облик в памятнике статичен, но экскурсовод может несколькими штрихами показать этого богатыря накануне решающей битвы, передать его внешне спокойную сосредоточенность и накал страстей в душе, волевую собранность и готовность к любому повороту. Не бойтесь рисовать остроконфликтные ситуации, временную растерянность и замешательство, лихорадочные поиски выхода. Победа оплачена дорогой ценой, боевой опыт стоил многих жертв, просчёты и ошибки – крови. Слушатели должны сделать вывод, что война – это гигантский труд, работа мышц и ума. Воспитать патриота можно лишь тогда, когда сам будешь убеждённым патриотом, когда захочешь поделиться наблюдениями и раздумьями. Этого невозможно добиться только на время экскурсии, всякая же фальшь и риторика будут немедленно распознаны аудиторией».
В 1972 мне вручили удостоверение «Лучший экскурсовод» – первому в Новороссийске, а через полгода, с дипломом университета, я уехал к матери в Сибирь и открыл ещё одно направление своей жизни. Вскоре после отъезда Новороссийску было присвоено звание города-героя. Я не удивился, услышав радостную весть. После экскурсий меня часто спрашивали: «А почему Новороссийск не город-герой?» И я уверенно отвечал: «Дойдет очередь и до Новороссийска». Дошла.
Становление
1967 – 1971. Появилась такая потребность в дневнике, которой раньше не было и не могло быть. Я начинаю постигать смысл многих вещей, размышляю о жизни, людях, книгах. Зачатки этого были и прежде, но тогда я стремился больше впитывать. Упивался искусством, самозабвенно трудился, был обуреваем доброй слепотой. Для той эпохи характерна одна черта – восторженность, но не рассудок. Я жил преимущественно чувствами, и только теперь определяю свое кредо. Юность не прошла зря. Она укрепила здоровым оптимизмом, уберегла от самонадеянности и верхоглядства, научила постоянно работать над собой. Меня не коснулись болезни молодых: скепсис и рационализм, увлечение атрибутами моды, наигранный нигилизм. Да мало ли чем хотят блеснуть в молодости, подменяя истинное содержание вызывающей бравадой. Сейчас к чувствам присоединяется разум, и мне хочется кое-что сохранить для будущего. Вдобавок, мною движет интерес историка.
50-летие Октябрьской революции, Брежнев выступает на юбилейном заседании. Много в речи хорошего, а прошло всего полвека. Что-то будет еще через полвека? Плоды Октября ощутила прежде всего отдельная личность: безграничный простор для познания, любимого труда, духовного роста. Революция подняла обыкновенного человека на невиданную высоту, сделала честным, сильным и гордым. А этим определились наши успехи. Вообще моему поколению будут завидовать. Родились в год Победы, детство отмечено послевоенными тяготами и пафосом восстановления. Наши отцы и матери воевали, рядом участники революции, гражданской войны, первых пятилеток. А мы будем связующим звеном между довоенным и послевоенным поколениями. Завидная участь!
(Не знаю, как насчет зависти. А то, что стали связующим (или разделяющим?) звеном – это случилось. Маленькое и весьма важное уточнение: между советскими и несоветскими поколениями. Мы из тех, кто знали и пережили то, что никому уже не доведется. Пока у «новеньких» преобладают отрицание и жалость. Посмотрим!)
Странное состояние не покидает меня. Кажется, что атмосфера общественной жизни натянутая и слащавая. По крайней мере, такой она представляется со страниц газет и экрана. А ведь ясно, что наша жизнь не ограничивается славными починами, трудовыми победами и спортом. Что думает современник? Каковы люди нашего времени? Противен процесс духовной нивелировки. Вырабатывается какая-то пресловутая «правильная» линия поведения и проводится грубо, до тошноты приторно. А ведь в сознании идёт сложная жизнь и не может не идти, если человек не одеревенел окончательно. Хорошо, что есть гениальные книги – поддерживают, окрыляют. Твардовский – великий поэт. Читал его стихотворения последних лет, свежие и сильные, с огромным смыслом.
Сильнейшее впечатление от «Манфреда». К музыке обращаюсь всякий раз, когда испытываю неодолимое влечение. В ней действительно находишь опору в разных состояниях души.
Всё приобретаю с трудом, многого не понимаю, а природной хватки нет. Какой-то середнячок между обывателем и интеллигентом. А достоинство в полной мере развито у того, кто знает себе цену. Человеку скромных способностей остаётся окунуться в труд и не выделяться, ибо выделение будет амбициозным.
Непрерывное общение с молодёжью 15—17 лет. Интересно наблюдать, слушать, делать выводы. Время сложное, а взрослые не на высоте, дидактика же пользы не приносит. Кто не просто износил жизнь, а осмысленно, к тому юнцы тянутся сами. Практичность должна быть присуща каждому, но она должна слиться с нравственным отношением к жизни, познанием с высоты добра, веры, правды. Так, как народ осознаёт свою историю в былинах, песнях, сказках. В воспитании прививают либо одно, либо другое, и вырастают восторженные идеалисты или хладнокровные дельцы.
Читал урывками, между учебниками, «Живых и мертвых». Когда дошёл то того места, где 300 измученных людей выходят с боем из окружения, то не сдержался и заплакал. Что все мои переживания по сравнению с огромным и жгучим чувством, охватившим миллионы людей в первый же день войны! Что все мои размышления о жизни и смерти, которые тогда вмиг обесценились, а Синцов, Серпилин, маленькая докторша, старик сумели подняться выше убеждений эгоистичного рассудка. Минувшая война для меня то же самое, чем для Герцена был 12-й год. Я задаю себе те же вопросы, какими мучились в 41-м. Но мои отцы не прятались за навязчивыми вопросами, когда увидели за ними неизбежное.
Шум вокруг «Нашего современника». Честный, искренний фильм, но запоздал лет на пять, если не больше.
«Исповедь» Руссо достойна глубочайшего уважения, я подписываюсь под этой смелой и человечной книгой. Скажу тем, кто хочет разобраться в себе и других: читайте «Исповедь». Мы терзаемся угрызениями искусственной совести. Руссо сбросил псевдоморальные оковы и показал человека в его истинном движении.
В Китае недорослей не пугает абсолютное сходство между собой, их славу решили разделить в Варшаве. Ослы! Этот нигилизм мне хорошо знакомом по экспедиции: без царя в голове. Думаю, что красота цветущей вишневой ветки может излечить таких людей от всего наносного, и Саша согласился. Только одна ветка!
Осознал, что безгрешным и бесстрастным всю жизнь не проживёшь, даже оправдывая подобную позицию мерой терпимости или неприятия. В каких пределах можно оставаться спокойным за совесть? Всякий раз решать самому, но дрянь не щадить, несмотря на поражения.
Новый космонавт, юбилей комсомола и соответствующее отражение на радио и ТВ. Начинаю понимать неизбежность пропаганды для подавляющего большинства, иначе незанятый ум обратится к первобытной основе, как в Чехии. Не скоро наступит царство философов. Мудрецы всех времён об одном, а народ – о другом. Почва есть, условия есть, но только начало переворота, и надобно работать для него. Ни утописты, ни Толстой не ошибались, но они начинали с конца.
Нет, был не прав, одобряя методы наступления. Это не забота о людях, а торможение роста. Надо двигать вперёд все области наших отношений, а не делать это обособленно только в школе. Сизифов труд.
Новый год в компании друзей Зориных. Анекдоты на вечную тему, скука от пустой болтовни. Все они слывут за порядочных людей, исправно работают, занимают престижные должности и всем довольны. Не дай бог так жить. Ведь этих людей однажды уже обманули, а они не заметили, не спохватились. Единственной реакцией стало отчетливое разделение жизни на служебную и личную, то, что почти не встречалось до войны и после войны. Тенденция развития всё явственнее проступает наружу, а эти люди понять не в состоянии. Теперь нужны не просто исполнительные работники, а личности, и недопустимо внушать слабым людям изо дня в день стандартный набор материального и морального благополучия. Могут быть большие трагедии.
Помню чтение Писарева – как он всколыхнул и обрадовал! Нескончаемый поток ума и отваги, независимости и дерзости. Он сказал мне: не бойся, не укрощай себя, верь себе. «Три минуты молчания» Владимова написаны с писаревской смелостью. Наши охранители поспешили распять его без гвоздей – чернилами.
Как мы будем жить дальше? Тревожит, а правильного ответа не найду. Понимаю, что существующая неразбериха есть следствие исчезновения народа как целостного общества со своей духовной и трудовой жизнью. Ни о каком народе в прежнем, глубинном смысле и речи быть не может. Есть аморфная масса, в ней преобладают черты зависимости и полное отсутствие достоинства. Из массы должен сформироваться новый народ, но это такая даль, в которую и заглянуть-то страшно.
Что ни дом, то гнёздышко, плетут и утепляют с завидным усердием всю жизнь. Если бы каждый положил на себя хоть I/I0 этих трудов! А газетки бьют из пушек по воробьям, заштопают в одном месте – в другом прореха. Что поделаешь: масса-то передовая, а вот единицы портят картину. Тон, тон надобно менять, чтобы разворошить эту советскую массу. Запоем перечитал Щедрина. «История одного города» – наш скотный двор с послушной скотиной и болванами-скотниками. За границей двор почище, а в остальном мы на равных.
Нобелевская премия Солженицыну. Как с Буниным? Ничего не могу сказать, ибо он лишен слова. Явная подлость – бить поверженного. Если его мужество есть то, что подозреваю, я предпочитаю быть рядом.
Моряки с «Шушенского» пригласили на обед – отзывчивые, признательные ленинградцы. Еще одно объяснение Сталина в «Блокаде», словно он представляет загадку. Загадка в нас самих, но об этом предпочитают молчать.
Общение с людьми, за редкими исключениями, умаляет и искажает меня. Это химера – быть самим собой, ведь общество не выбирают. Всё боюсь успокоиться, не думать, и каждый раз, встречая острую мысль или человека, вижу: мне это не грозит. Беседовать с собой – занятие скучное. Нет живого дыхания, взаимного влечения – всего, что составляет обаяние умного разговора. Иной из них способен далеко продвинуть вперед.
Жажда лучшего проглядывает повсюду. Все хотят сытно и вкусно есть, модно одеваться, обзавестись полированной мебелью и полкой книг. Словом, комфорт и доставок стали непременным условием домашнего очага. Но насколько возросла тяга к устройству личного, настолько охладел интерес к общим делам. Поэтому рядом с комфортом – развал и запустение. В молодых лицах пошлость забивается свежестью и румянцем. К тридцати наружность приходит в соответствие с внутренностью.
Отчего многие страшатся свободы? Она не терпит пустоты, суеты, мелочных интересов, ей мало рабской работы рук и автоматизма. Испытание свободой проходят немногие, располагают ею и того меньше. Я – неисправимый утопист, не прощаю доверчивости и послушания, этих продуктов неразвитости и приниженности.
На семинаре говорили о неизбежности противоречий. Этакой шапкой можно прикрыть всё. Если на противоречия не реагируют, они вырождаются в идиотизм и перестают быть естественными. Есть политики, нет мудрецов.
Партийная вакханалия кончилась, можно отдохнуть от оваций и лозунгов. А ведь они осознают, что жизнь расщепляется и идёт своим руслом, мимо них, и все эти демонстрации от бессилия. Ни к чему серьёзному и разумному эти люди уже не способны, и чем скорее они уйдут – тем лучше.
Из Сибири. Дорогой смотрел на мрачные вокзалы, чёрные деревни, ветхие дома и видел: как необъятна и неустроенна ещё Россия, сколько грубых и нелепых вещей отравляют жизнь народа, оскорбляют и калечат. Где же возникнуть здесь тонкому вкусу и чувству прекрасного? Страдания Христа нейдут на ум, когда перед глазами муки миллионов, так призрачна одинокая жизнь, а катастрофы вызываются человеческими руками.
Почему мне так трудно? Я на всех ветрах, не укрыться, всё потеряло привлекательность и новизну. В 26 лет начать жизнь заново нельзя, но продолжать достойно необходимо. Утешаюсь тем, что не один, много кругом несчастных: не подозревающих, не признающихся или свыкшихся. Их судьба – моя, а благополучных – ненавижу. Много среди них прикрытых мерзавцев.
Лёха
Это был портовый матрос – долговязый и весёлый, лет 25. Он поселился у хозяйки раньше меня и встретил великодушным предложением: «Ты кто? Экскурсовод? Не встречал таких головастиков. Ладно, занимай хату и разбирай манатки». Так мы сошлись и прожили в одной комнате почти 2 года. Вместе воровали клубнику на загородных дачах, вместе шатались по знаменитой портовой барахолке, вместе пировали. Вечером Леха жарил выловленную с причала длинноносую иглу, а я выставлял бутылку «Столового».
Его жена Тамара жила с дочкой где-то в Ростовской области, в родительском доме, и изредка приезжала в гости. Тогда накрывался стол, супруги не скупясь наливали друг другу, быстро хмелели и начинали обниматься: «Рыбка ты моя. Летушок кареглазый». После длительного обмена нежностями, Леха нетвердо поднимался из-за стола и командовал мне: «Гаси свет!»
Он вставал рано утром, бесшумно собирался и уходил на работу. Однажды, примерно через полчаса, Лёха вернулся с дороги и прошёл к своей тумбочке. Тамара крепко спала, а я спросил: «Ты чего?» Не глядя на меня, Лёха буркнул: «Деньги на обед забыл», – и осторожно прикрыл за собой дверь. «Ах ты, хитрец, – догадался я. – Сам до чужих жён охоч и своей не доверяешь». После отъезда Тамары я упрекнул приятеля в подозрительности, и он не стал запираться: «Понимаешь, когда под боком хорошая баба лежит – почему не взять?»
Лёха не читал книг, и я занялся его просвещением. Он оказался восприимчивым и благодарным слушателем. Поначалу обращался я: «Почитать?» Прошло несколько дней, и Лёха сам стал просить: «Почитай-ка что-нибудь». Начали с рассказов Бунина, потом перешли на крупные вещи. Летом 69-го в «Новом мире» печатался роман Владимова «Три минуты молчания». Я был восхищён его суровым реализмом и страстным призывом слушать и ценить каждого человека. Покупал журналы в киосках и нервничал, если очередной № задерживался. Я не сомневался, что роман из жизни моряков понравится Лёхе, и не ошибся. Он с первых страниц влюбился в Сеню Шалая: «Настоящий братишка». Ненастоящих Лёха крыл по-матросски и каждый раз грозился: «Я бы их за борт бросал – вместо якоря».
Потом пришла очередь «Тихого Дона». После ужина мой приятель растягивался на кровати, а я открывал на заложенной странице книгу и превращался в Григория, Аксинью, Наталью, Степана, Дарью… Лёха слушал не шелохнувшись, положив голову на сцепленные руки. Стоило мне перевести дух, как он подстёгивал: «Дальше». И я с колотящимся сердцем продолжал.
Наконец произнёс последнюю фразу и услышал: «Ну и намучился мужик».
Былины
Незадолго до смерти Гоголь собрал воедино свои наиболее значительные письма и опубликовал отдельной книгой под названием «Выбранные места из переписки с друзьями». Унылая картина русской действительности толкала Гоголя к историческим сопоставлениям, и в этом смысле немалый интерес представляет его статья «Об Одиссее, переводимой Жуковским». Мир древнегреческого эпоса писатель примеряет к России и оказывается, что огромный временной промежуток ни на шаг не продвинул людей по пути нравственного прогресса. Скорей наоборот: «…мы, со всеми нашими огромными средствами и орудиями к совершенствованию, с опытами всех веков, с гибкой, переимчивой нашей природой, с религией… умели дойти до какого-то неряшества и неустройства как внешнего, так и внутреннего, умели сделаться лоскутными, мелкими,… опротивели до того друг другу, что не уважает никто никого…» Было от чего впасть в отчаяние и попытаться обмануть себя тем, что «Одиссея», может быть, сделает на родине то, что не смогли сделать ни время, ни правители. Конечно, проще всего упрекнуть художника в непонимании закономерностей общественного развития, идеализации прошлого, преувеличениях. Но вопрос об отношении современности к эпосу, который поставил Гоголь, тем самым не разрешится, не притупится его вечная острота: лучше или хуже стал человек? Это вопрос о соотношении материальной цивилизации и духовной культуры, о способности государства стимулировать или тормозить социальную политику. Человечество достигло технического могущества, но оно все так же далеко от подлинной свободы, той социальной гармонии, о которой всегда мечтали великие умы. И не потому ли мудрецы обращались к эпосу, что находили в нём то, чего так не хватало современности: господство народной инициативы, красоту и цельность личности, раскрепощённость внутреннего мира. Не потому ли так пристально вглядываются в эпос, что он сохранил отблеск короткого, но необычайно плодотворного взлёта народной жизни в переходный период от бесклассового общества к классовому? Герои былин ещё не связаны рабскими путами, над их сознанием не довлеет мораль покорности и христианского смирения. Их жажде подвига не противостоит беспощадная и косная государственная машина. И иго татарщины, и ужасы деспотизма – всё впереди. Взяты в дорогу лишь безусловные ценности родового общежития: коллективизм, честь и верность, любовь к родной земле, стойкость в испытаниях.
Путь духовного развития продолжается. Всё более возрастает роль государства в этом процессе и, следовательно, его ответственность за искривления и извращения на многотрудном пути. Былины, драгоценный источник народной культуры, свод жизненной мудрости, должны полностью раствориться в сознании общества, стать мерилом его духовной зрелости.
Добрыня – воплощение старшей княжеской дружины: талантливой, деятельной, свободной от родовых предрассудков. Его судьба – яркий пример возвышения человека незнатного, с младости повязанного службой князю. Во дворце Добрыня отшлифовал богатые природные способности, мы видим человека разностороннего и культурного, его качества не заглушены и не подавлены службой верховному владыке.
Характеристика Добрыни показывает, насколько ярко могла раскрыться личность в эпоху Киевской Руси. Чего только он ни знает, ни умеет: «горазд плавать по быстрым рекам», «изучился вострой грамоте», «научился да боротисе», «мастер метать» палицу, играет на гуслях и поёт, искусный шахматист. Все свои таланты Добрыня постоянно использует. Характер его деятельности таков, что требует обширных знаний и умений: выполнение ли то дипломатической миссии, подготовка ли похода, осуществление ли брачных намерений Владимира, напряженная ли работа по внедрению христианства… Народность, как фундаментальная черта, получает в Добрыне наивысшее развитие благодаря приобретённому образованию и государственному опыту. Его кругозор шире, внутренний мир сложнее и утончённее, его талант универсален. Многоцветный образ мудрого и культурного Добрыни живёт в былинах как провозвестник полного развития неисчерпаемых духовных сил русского народа. Такие деятели появляются только в периоды совпадения общественных и государственных интересов, что и наблюдалось в конце X века. Как только эти интересы расходятся, Добрыни сходят со сцены или перерождаются. А народный характер вновь выступает в своём первозданном качестве – трудовом и героическом. Поэтому образ Добрыни представляется мне более символическим, пророческим, чем образы других богатырей.
Илья Муромец – любимое детище народа, его личность – пример органичного проникновения простых людей в сферу общественно-значимой деятельности. Рука об руку с Ильёй стоят Добрыня и Алёша Попович, выходцы из иной социальной среды. Их единение, братство понятны. Но товарищи – не дополнение Ильи, не фон, а самостоятельные фигуры, во многом отличные от Ильи. У них часто проступают свои, особые интересы, они решают задачи и участвуют в делах, непосредственно не связанных с безопасностью Руси. Илью невозможно представить вне схваток с врагами, вне дум и забот о благополучии родной земли. Последовательность, верность долгу этого героя на протяжении всего былинного цикла изумительны. Как истинный сын народа, он взрослел вместе с ним, накапливал жизненный опыт и ненависть к притеснителям. Бунт Ильи против коварного неблагодарного Владимира отразил социальные противоречия, нарастающий разлад между низами и правящими верхами.



