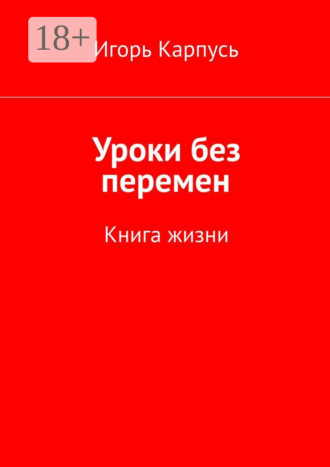
Полная версия
Уроки без перемен. Книга жизни
Позднее я часто ходил за 12—15 километров в Широкую балку. Покрытое густыми лесами урочище внезапно раздвигается и открывает морские дали. Между берегом и желтыми скалами то узкая, то расширяющаяся полоса чудесного пляжа из крупной гальки, огромные отполированные валуны и уходящее за горизонт густо-синее море. В знойный полдень медлительный накат прибоя сливается со стрекотом тысяч крылатых тварей, воздух пропитан ароматом горячего можжевельника, первозданное безлюдье. Только моя одинокая душа то вбирает и вырастает беспредельно, то дробится на атомы и колышется медузами на волнах, вскипает шипучей пеной, проносится крикливой чайкой. Какое счастье, что все это было! Надо пожить так хоть несколько дней, чтобы понять, зачем дается жизнь, и надолго – навсегда! – привязаться к земному великолепию. Только через годы человеческое стало вровень с Природой и омрачило ясное утро детства.
Лагерь
Наступало лето, мать приглашали воспитателем в пионерский лагерь, и мы выезжали в Кабардинку. Лагерь находился у подножия Маркотхского хребта, вдоль шоссе на Сухуми, и сразу через дорогу начинался
спуск к морю. В окрестностях переплелись непроходимые заросли ежевики, по-местному – ожины, и когда она наливалась, все ходили с лиловыми губами и руками. По узкой мергелевой тропе мы поднимались с вожатыми и воспитателем на вершину хребта и с перевала, как вольные птицы, могли обозревать все стороны света: море, долины, городские окраины.
В отряде матери отдыхали девушки-старшеклассницы, и она часто ходила с ними в походы на Дообский мыс, увенчанный белой башней маяка. Я всегда был рядом. Мыс врезается скалистым выступом в море и открывает вход в красивейшую Цемесскую бухту – колыбель Новороссийска. К мысу примыкают одна за другой три пологих горы. Здесь я услышал и записал легенду про трех сестер, которых злой колдун превратил в каменные изваяния. Легенду прочитал Т.И.Гончаренко и напечатал в школьном альманахе «Алые паруса».

Среди сосен, на мягкой подстилке, мы устраивали привал, закусывали и допоздна плескались среди обточенных морем валунов, а в сумерках, у костра, славили походное лакомство: «Ах, картошка, объеденье – денье – денье, Пионеров идеал – ал – ал». Теплая южная ночь накрывала мягким пологом, сосны навевали дремоту, и под рокот прибоя мы засыпали.
По подсказке взрослых меня неизменно выбирали председателем совета, и утром я делал перекличку, выводил отряд на линейку и сдавал рапорт старшему пионервожатому. Обязанности были несложные: выпустить стенгазету, подобрать участников турниров и конкурсов, составить график дежурства по палате и столовой. После отбоя вожатый из комсомольцев укладывался вместе с нами, рассказывал какие-нибудь истории, и мы погружались в сон.
Любимой игрой была «Почта» на центральной аллее лагеря. Кто-нибудь из старших девочек раздавал участникам номера на картонных кружочках, мы прикрепляли их на груди и становились адресатами. Добровольные почтальоны собирали записки и вручали указанному номеру. По условиям игры, встречаться адресатам было запрещено, и весь интерес заключался в неожиданности: кто тебя выбрал? что напишут? как примут твое послание? Писали знакомым и незнакомым, приятелям и врагам, объяснялись в любви и сводили счеты. Конечно, под записками «Ты дурак», «Я набью тебе морду» подписей не было. Нередко устраивали розыгрыши: «Приходи после ужина к умывальнику, я хочу с тобой познакомиться». Приходишь, а там никого нет.
Но однажды я развернул и прочитал: «Ты мне нравишься. №74». Я прошелся по аллее и из-за спин разглядел большеглазую смуглую девочку с косами. Она читала одну за другой записки и рвала на мелкие клочки. Я разволновался: никто таких признаний мне не делал, другие мальчишки, я знал, получали их десятками. «Наверное, шутит», – решил я и ответил: «Давай знакомиться. Меня зовут Игорь». Через несколько минут я узнал, что ее зовут Катя, и она перешла в 7-й класс. «На целый год старше, – подумал я, – чего ей от меня надо?» В очередных записках Катя сообщила, что играет на фортепьяно и рисует, а я перечислил ей свои любимые книги и кукольные спектакли.
На следующий день я сразу предложил моей знакомой встретиться. «Я могу только переписываться», – написала девочка и вызвала недоумение. «Почему?», – полетела моя записка. – «Потому что я скоро уезжаю, и у меня есть мальчик в школе. Не бросай игру», – попросила она, и я, покоренный ее прямотой, выполнил просьбу. Мы обменялись сведениями о родителях: «Папа – моряк», – увлечениях, школьных предметах, затаенных желаниях, и наконец я получил грустное известие: «Завтра за мной приедет мама. Спасибо тебе, до свидания». За ужином нам раздали яблоки, и я попросил приятеля Кольку отнести свое яблоко на ее стол. Когда она повернулась в мою сторону, я быстро отвёл глаза. Через неделю сезон закрылся большим праздничным костром, и мы разъехались по домам. Но девочка с черными косичками еще долго не отпускала меня.
Увлечения
Мои уроки начинались на любимой скамейке, где в сумерки, после жмурок, казаков-разбойников и скакалки, собиралась вся уличная команда. Мне отводилось почётное место в середине, и я продолжал прерванную накануне историю летающего мальчика Ариеля. Весь беляевский 3-томник был не раз прочитан и пересказан мною летними вечерами вплоть до той минуты, когда от калиток раздавались родительские голоса: «Витька! Сашка! Игорь! Домой». Мои любимые книги «Без семьи», «Рыжик», «Капитан Гаттерас» стали любимыми книгами улицы. Одну из них, «Пятнадцатилетнего капитана», – хорошо запомнил малый формат и синюю обложку – мне подарила Светочка Непейвода в день рождения. И было это ещё во втором классе за столом, накрытом матерью, в доме военкоматского извозчика Семёна, у которого мы снимали комнату. До сих пор сохранилось в душе то неудовлетворённое чувство жадного интереса, с каким смотрел на толстый потрёпанный том «Детей капитана Гранта». Он небрежно лежал на подоконнике одного из домов в центре Новороссийска, и мимо этого дома я проходил по пути в музыкальную школу и обратно. Невольно задерживался у особенного окна, устремлял взор сквозь запылённое стекло на книгу и шёл дальше. Кинокартину нам показали в лагерной столовой минувшим летом, и вот теперь перед глазами была недоступная книга с таким же названием. Остро хотелось её схватить и унести. Увы, в школьной библиотеке «Капитана Гранта» не оказалось, у ровесников – тоже. Я успокоился лишь тогда, когда книга исчезла с подоконника.
Я пересказывал по-книжному, натурально передавал чужую речь. Разумеется, я не помнил авторского текста дословно и стремился лишь точно передать сюжетные хитросплетения. А вот подробности, детали, реплики нередко сочинял, словно «вышивал по канве». Как пригодилось это умение в школе, когда надо было оживить, расцветить историческую сцену, придумать диалог или внутренний монолог героя.
Дальше – больше. Как-то в универмаге приметил большую яркую коробку «Наш театр», долго приглядывался и выпросил у отчима деньги на покупку. В коробке оказались картонные заготовки для настольного театра сказок. Несколько дней мы с папунчиком вырезали и склеивали фигурки персонажей, монтировали вертящийся диск-сцену. На очередных посиделках я пригласил товарищей в «театр» – они недоверчиво посмотрели на меня и стали расспрашивать, но я твердил одно: «Сами увидите». Явились не все. Когда я с колотящимся сердцем поднял бумажный занавес, перед «сценой» в дверном проёме сидело 4 зрителей. На следующий день, после «Колобка», их стало вдвое больше, и в 11 лет я заслужил первые зрительские аплодисменты. Через две недели репертуар был исчерпан, но я настолько вошёл во вкус, что не желал и слышать о закрытии «сезона». Я перешёл от настольного к настоящему кукольному театру. Из магазинных выкроек мы с кузиной смастерили разных кукол, надели их на пальцы и наловчились управлять. Я перекрыл подвальный вход одеялом, и спектакли пошли один за другим. Они потребовали от меня значительно больше подготовки и напряжения, однако все усилия вознаграждались шумным признанием улицы. Прошли годы, и мои ученики на выпускном вечере надели мне на шею картонную медаль «Самому артистичному учителю за преподавание истории в лицах». Принимая награду, я вспомнил свои дворовые представления, первых зрителей и разрывающее чувство подъёма и парения над землёй.
С детства я стихийно противился тому, что пытались навязать и заставить. Я сам находил занятия и отдавался им до самозабвения. Так получилось и с музыкой. Родители подарили баян и записали в музыкальную школу только потому, что знали: у меня есть слух, я быстро схватываю и напеваю услышанные по радио песни. Так, в 3—4 года я запомнил и часто исполнял «Одинокую гармонь», «Хороши весной в саду цветочки», «До свиданья, мама, не горюй, не грусти». Произошло то, что часто бывает в семье: воля старших пошла вразрез с желанием ребенка и обернулась принуждением. В музыкальную школу я ходил неохотно, занимался мало. В овладении инструментом большое значение имеет механическая тренировка и усидчивость, тут ничего не добиться без стойкого интереса и нарастающего упорства. Поэтому я не приобрел ни беглости пальцев, ни уверенности и играю только на бытовом уровне.
Возмужав, я вполне оценил преимущества человека музицирующего. Какое наслаждение, как вырастаешь в собственных глазах, когда разучишь незнакомую пьесу, песню, услышанную мелодию. Случалось, что баян давал мне работу и заработок. Так, после переезда в Омск, я не нашёл другого места, кроме учителя музыки в одной из городских школ. Любопытно, что никаких документов о музыкальном образовании от меня не потребовали и приняли на работу как студента-заочника.
Когда я пришёл с баяном на первый урок, семиклассники совсем не обратили на меня внимания, да я и не ждал другого приёма: на уроках пения ученики привыкли отдыхать от серьёзных занятий и развлекались на полную катушку. Так и тут. Одни тараторили и хохотали, другие прыгали и бегали, третьи уткнулись в тетради. И лишь несколько человек внимательно наблюдали за мною. Я постоял, обвёл сборище долгим взглядом и, не говоря ни слова, развёл меха. Решение пришло сразу – спеть. В кинотеатрах только что прошла картина о советских разведчиках «Щит и меч», а в ней звучала запоминающаяся песня. И я вполголоса, как бы для себя, запел: «С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре…» Класс по-прежнему бесновался, а я пел, пел и слышал, как тишина постепенно растекается по классу, и мой голос захватывает всё пространство. Спел последнюю фразу и предложил: «Хотите, попробуем вместе? Запишите слова». И подростки без возражений потянулись к ручкам, а потом пытались вспомнить, когда и где впервые узнали о родине. Следующий урок был в параллельном 7-м, там встретили меня криками с мест: «А нам споёте?» Так и пошло – через сопротивление, срывы, озорство. Разучивали новые песни, слушали пластинки и писали сочинения (чего только я ни начитался), устраивали «концерты по заявкам», конкурсы исполнителей, музыкальные путешествия. В начальных классах я проводил по просьбам учителей тематические утренники и подыгрывал на пионерских сборах. Малыши особенно любили инсценировать песни и старательно представляли песенных персонажей: пограничников, клоунов, зверей, весёлых ребят.
Как и книги, баян обогатил и украсил мою жизнь, помог подчинить беспощадное время. А сколько друзей и симпатий доставила мне игра! В деревнях меня приглашали на семейные торжества, мой класс лучше всех выступал на смотрах, я готовил и проводил школьные праздники, выводил на сцену ученические и учительские хоры. И всю жизнь с уважением смотрю на людей, умеющих выразить себя в инструменте. Нет, не ошиблись родители, когда наградили поющими мехами и заставили ходить в музыкальную школу.
Пластинки
По-другому вышло с классической музыкой. Пока учитель объяснял и проигрывал отрывки для всех, я был совершенно безучастен. Но вот однажды на рынке я заглянул в магазинчик уцененных товаров и увидел на прилавке кипу очень дешевых грампластинок – по рублю за штуку вместо положенных десяти. Именно дешевизна и подтолкнула меня к покупке. Я принес домой 5 дисков «Руслана» с голосами Лемешева, Фирсовой, Нэлеппа, Петрова, Вербицкой, включил проигрыватель и при первых же громовых аккордах увертюры вздрогнул от восторга узнавания. Бывает так: долго не видел близкого человека, не брал в руки прочитанную книгу, отсутствовал в родном доме. И вдруг мелькнет полузабытое лицо, откроется страница, покажется заветное крыльцо. И вмиг ударит в сердце горячая волна воспоминаний. Один взгляд, одно слово, одна вещь влекут за собой сонм картин, образов, впечатлений. Жизнь внезапно вырывается в прошлое и будущее, открывается незнакомыми гранями. Так волшебный «Руслан» увлек меня в мир высокой музыки.
Я заиграл пластинки до хрипоты, выучил оперу наизусть, она стала клеточным материалом моего существа, эталоном совершенства, красоты, смыслового и мелодического богатства. Восхищение, радость были безмерны, хотелось их с кем-нибудь разделить. Я позвал сестру Нину, запустил радиолу и по мере звучания оперы давал торопливые пояснения. Нинуля, как и я, сразу подпала под обаяние глинкинской музыки, запомнила многие мелодии, и если я начинал, она тотчас присоединялась:
Успокойся, минет время,Радость тихая плеснёт,И над нами солнце жизни,Счастье новое взойдет.Через 50 лет я не поверил глазам, когда прочитал в серьёзной газете, что «Руслан», «длиннющая и скучнющая опера», переделан в лёгкий водевиль «Мученики любви». Какой же слух надо иметь, чтобы не услышать этот, по выражению Б. Асафьева, «музыкальный эпос русского народа». Сделали из искусства развлекательную дребедень, но алхимией тут не пахнет. Те пытались превратить олово в золото, эти поступают наоборот. Вместо сложной и увлекательной алхимии расцвело прилюдное мародёрство. Со страниц газеты заявила о себе эпоха, когда тон задаёт не человек, а возведённая им цивилизация: совсем другие уши, другие глаза, другие понятия – всё мировосприятие, в котором зрелой красоте нет места. Маргарин вытеснил масло, и маргариновое поколение не знает, что такое масло, потому что вскормлено на эрзацах. Эрзац прост, доступен и совсем как масло, тем более что цвет и аромат подделаны под натуральные. Полвека я слушаю оперу и нахожу всё новые и новые оттенки – «Руслан» неисчерпаем. А по богатству заложенных чувств и душевных состояний он не имеет соперников в мировой оперной литературе.
Я горжусь своим детским открытием, как гордился всю жизнь гениальный Римский-Корсаков. Он услышал «Руслана» примерно в моём возрасте и «сразу решил, что автор… – личность, по таланту из ряда вон выходящая». В письме к родителям 11 октября 1859 г. юноша восклицает: «Чья лучшая опера в свете? Глинки «Руслан и Людмила». Кадет Морского корпуса Римский-Корсаков уже хорошо знал европейскую классику, он регулярно посещал Петербургскую оперу и сравнивал с Моцартом, Россини и Беллини, Доницетти и Верди, Вебером и Мейербером. Но Глинку безошибочно поставил выше всех.
Вслед за «Русланом» пришли «Иоланта», «Садко», «Царская невеста», рапсодии и поэмы Листа, симфонии Рахманинова и Бородина – всё в благодатную детскую пору, когда душа открыта на все стороны и алчет понимания, отклика, чуда.
Звучащие диски, купленные по случаю, развернули мою жизнь в новом направлении. Я бредил ариями и мечтал о карьере оперного певца. «Хованщину» вобрал и пережил от первого звука до последнего – уже сознательно, имея большой опыт слушателя. Меня потрясли изумительно-певучие речитативы, бесшабашные стрельцы и непреклонные раскольники, гордая и бесстрашная Марфа: в любви и вере – до конца. «Хованщина» дала мне для понимания нашего народа и истории больше, чем сотни книг и документов; начинаясь рассветом, она завершается костром и самосожжением непокорных и отвергнутых. И полыхают эти костры до сих пор. Я впервые задумался: что же это за страна, где легче сгореть, чем договориться; проще обмануть, чем выполнить?
Погружение в музыку было так велико, что в 1963 году, 17-ти лет, я под впечатлением «Хованщины» взялся за сочинение собственной «музыкальной драмы».
Тогда я был опьянен некрасовской поэмой «Кому на Руси жить хорошо». Она насыщена песенной лирикой и настолько музыкальна, что сама просится на голос. Я до сих пор удивляюсь, почему никто из великих не положил на музыку эту несравненную вещь.
Конечно, то была безумная дерзость, немыслимая в годы зрелости и расчетливости. Юность безумна от избытка сил, старость от безысходности. В 68-м я привез на экскурсию в Москву 120 школьников. В Третьяковской галерее мне сообщили, что все экскурсоводы заняты, и просили подождать. И тут я решился на дерзость. «Ждать из-за такого пустяка? Не буду», – и повел за собой толпу молодежи. Не помню, что я говорил, но когда через час остановился у картины «Черное море» Айвазовского, то обнаружил, что меня слушает вдвое больше людей. Думаю, что сейчас я бы не отважился на подобную выходку.
А что же моя «музыкальная драма»? Прежде всего, я выбрал из сборников и переписал в нотные тетради полсотни народных песен – обрядовых, плясовых, семейных, лирических. Я не только узнал неведомые мне мелодии, я буквально пропитался строем и духом родной песни. Тогда-то я и понял: то, что звучит с эстрады, весьма отдалённо напоминает подлинный крестьянский мелос, это зазывные размалеванные матрешки. Вечерами в потемках, когда отключали свет, моя хозяйка баба Соня просила: «Игорек, спел бы ты „Поле“, что-то на душе муторно». Я брал баян и протяжно, на широком дыхании, без нажима выводил грустный рассказ о неоглядных просторах, долгой разлуке и молодой загубленной жизни. Когда я уходил от бабы Сони, она мне высказала: «Характерный ты и дюже гордый, а вот за песни я бы тебя всю жизнь обиходила».
Как и полагается, я составил либретто, занявшее три школьных тетради, наметил список действующих лиц и расписал голоса, а затем принялся за сочинение. Листаю сохранившуюся нотную тетрадь и читаю названия готовых номеров: Веселая, Солдатская, Голодная, Барщинная, две песни Матрены, песня Гриши, притча Ионы, дуэт Гриши и Саввы, песня молодки, хор «Русь». Вот и все, что удалось сделать в короткие осенние каникулы того года. Непосильная затея как вспыхнула, так и погасла. С той поры музыка перестала быть обычным наслаждением. Она звучит во мне постоянно. Я сочиняю без бумаги.
Поклон
«Кому что дати или у ково ми что взяти». Взять-то можно, если отдавать надумают, а сам с отдачей опоздал – некому. Но всех, кто приметил меня, расширил пределы моей жизни – не забыл и вписываю в эти страницы. Пора поклониться школе и учителям.
Как я теперь понимаю, моя родная 21-я школа имени Пушкина была выдающимся учебным заведением. Хорошо узнав школьную систему, я не изменил своего убеждения и вижу, как новоиспечённые гимназии и лицеи только пытаются приблизиться к той всесторонней модели образования, которая была воплощена полвека назад в одной из городских школ. И не для избранных, а для всех детей.
Школа открылась в 1936 году, а в 37-м, когда с размахом праздновался пушкинский юбилей, ей присвоили имя поэта. Во время войны здание школы вместе с городом было полностью разрушено. Восстанавливали 21-ю основательно, без мелочной экономии, и школа стала символом возрождения Новороссийска из руин фашистской оккупации. 1 сентября 1954 г. ученики и учителя вернулись в родные стены, а в декабре, после возвращения из Бикина, мать привела меня в новую школу во 2-й класс. Величественный светлый фасад с классическими колоннами настраивал на возвышенные чувства, и мы действительно гордились школой – второй такой в городе не было. Удивление возрастало под сводами здания-дворца: просторный вестибюль в зелени фикусов и пальм, широкие светлые коридоры, огромный актовый зал со сценой, где нередко выступали заезжие артисты, превосходно оснащённые естественнонаучные кабинеты, спортивный зал, мастерские, столовая и буфет. Школа была переполнена, занятия шли с раннего утра до позднего вечера, но тесноты, нехватки пространства мы не ощущали: бестолковые переходы, неоправданные перемещения просто не допускались.
У нас всё было своё, особенное. Ухоженный виноградник, и осенью каждый класс получал по корзине заработанного винограда. Духовой оркестр, который приглашали на городские торжества. Серьезный детский театр и массовый хор. Многочисленные научные общества для старшеклассников и кружки для малолеток. Знаменитое литературное общество «Алые паруса» и, наконец, ежегодный праздник «За честь школы». Он проводился как творческий смотр всех школьных достижений и успехов, каждый класс блистал на этом великолепном торжестве своими талантами, каждый ученик стремился показать искреннюю любовь к школе. После праздника актовый зал превращался на несколько недель в увлекательную выставку ученических подарков, среди них, помню, было немало искусных макетов и действующих моделей. Ничего подобного я нигде больше не встречал.

Мой 4 А класс.
В центре В. Одинаркина, Г. Алексанян, А Каллистова (сл. напр.), С. Непейвода (2-й ряд, 4-я сл.), В. Потолицын (стоит 6-й спр.), Н. Пухальский (стоит 5-й сл.), С. Коднер (сидит 2-й спр.). 1957
Так и стоят в памяти завуч В. Одинаркина, словесницы Л. Шушара и М. Суркова, биолог З. Шишкина, математик Лебедева, географ В. Шапиро, преподаватель физкультуры В. Демидкина… Разные по темпераменту и мастерству педагоги, но резких перепадов в обучении мы, ученики, не замечали. Всех цементировала массивная, внушительная фигура директора Г. П. Алексаняна. При всем благодушии и терпимости, он мог быть и строгим, и требовательным, когда дело касалось авторитета школы, интересов детей. Первой учительницей была мать, а последующие три класса в 21-й учила Александра Владимировна Каллистова. Она и слышать не хотела о выходе на пенсию, хотя давно преодолела этот рубеж: приросла к школе и, пока оставались силы, преданно ей служила. Обитала в коммунальной комнатке на пару с такой же вдовой. Я часто бывал у нее, а когда старушка уезжала к единственному сыну, мне разрешалось приходить одному, копаться в книгах, заводить патефон и угощаться калеными орехами. Изредка она в гневе отчитывала меня за вертлявость и рассеянность, но вообще-то была добрейшим существом и быстро забывала обиды. Нас видела насквозь, с каждым из 40 работала по-своему, терпеливо поправляла, наполняла и отделывала наши способности и характеры. Помню, как учила оформлять и надписывать поздравительные открытки, делать маленькие сувениры из бумаги и картона, как внимательно следила за внешним видом, состоянием тетрадей и учебников, ценила и поощряла красивое и аккуратное письмо. Она ставила в дневнике две оценки: за поведение и прилежание.
Работая рядом с матерью и хорошо зная мою семью, Александра Владимировна уделяла мне больше заботы. Так, случайно я узнал, что новое пальто мать купила мне по ее настоянию, и обновку первой одобрила она. От нее я нередко получал дополнительные задания и поручения, которые с неудовольствием и ворчанием приходилось выполнять. Кто знает, может быть, это полное совмещение одинокой жизни с профессией непроизвольно отложилось в подкорке и объяснило смысл учительства с предельной простотой и наглядностью.
Из всех школьных предметов особенно полюбил химию и English, остальные не затронули. Химия околдовала еще дома, когда упросил отчима купить большую коробку с загадочным названием «100 опытов по химии». После этого поочередно комнаты и веранда превращались в лабораторию и были наполнены дымом и едкими запахами. Я научился собирать несложные установки, вызывать элементарные реакции, получать газы, проделал почти все опыты, описанные Фарадеем в «Истории свечи». Людмила Васильевна, химичка, оценила мой багаж и открыла двери школьной лаборатории. Она доверяла мне подготовку оборудования к урокам, мытьё посуды, разборку поступающих реактивов. Особенное удовольствие я получал, когда демонстрировал в разных классах серию занимательных опытов на тему «Химия разоблачает чудеса». На глазах изумленных зрителей я «превращал» воду в вино, медь в серебро, извлекал из воздуха дым и воображал себя всемогущим магом, чародеем. Я выучил наизусть таблицу Менделеева и щеголял на уроках точными названиями элементов, бойко писал химические формулы и уравнения.
МетОда Людмилы Васильевны была проста: она ничего не навязывала. Она наблюдала со стороны и как бы говорила: «Смотри, повторяй, учись, пробуй». И это невидимое воздействие оказалось во много раз полезнее, чем прямое руководство. Химиком я не стал, но благодаря химии рано испытал радость открытий и сотворенного собственными руками чуда.
Как сейчас вижу тот урок, когда в класс вошла высокая полная женщина в простых металлических очках; глаза острые, требовательные – новая учительница. С непривычной интонацией она произнесла первые слова на незнакомом языке, и мы узнали, что звать ее Вера Георгиевна, и она будет учить нас английскому языку. Она показала на карте полушарий те страны, где люди говорят по-английски, и мы прониклись уважением к новому предмету. Все 45 минут родная речь чередовалась с английской, эффект путешествия по далеким странам возник сразу и не отпускал до звонка. Была английская народная песенка, считалки, смешные диалоги. Захотелось так же свободно, даже небрежно, разговаривать, острить, петь. У многих начинающих интерес к языку пропадает после первых же препятствий. У меня, напротив, разгорался с каждым уроком. Вера Георгиевна умело поддерживала и подогревала мое старание: часто спрашивала, поручала заниматься с отстающими, снабжала книжками с адаптированными текстами, приучала работать со словарем. Когда я набрал порядочный запас слов, мне дали роль Волка в «Красной Шапочке», и с истинно волчьим рвением, без единой ошибки, я сыграл на сцене, надев вместо шкуры вывернутую меховую безрукавку. А в 7 классе предстал перед одноклассниками в образе Робин Гуда – защитника бедняков. Была В. Г. Лебединская незаурядным педагогом – строгим, нетерпимым к разгильдяйству, лени, притворству. Ее властный и звучный голос, иронический взгляд серых прищуренных глаз, которым она высматривала лодырей, сразу создавали в классе рабочую обстановку. Она не злоупотребляла двойками, но несколько насмешливых фраз по адресу провинившихся делали их самыми несчастными людьми.



