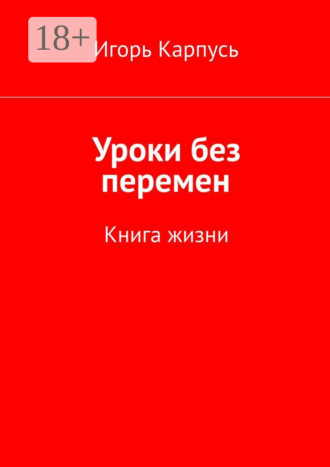
Полная версия
Уроки без перемен. Книга жизни
«Чисто поле», «добрый конь», «бел шатёр», «поездочка богатырская» – неотъемлемые принадлежности большинства былин. Их герои постоянно в разъездах, готовы к поединку и бою, к любой внезапной опасности. Беспокойная бивачная жизнь неотразимо действовала на мужчин, выковывая тот особый их тип, для которого характерны свободолюбие, решительность, отвага.
Добрыня в чистом поле наезжает на чёрный шатёр Дуная и разоряет его, уязвлённый, как ему кажется, вызывающе-дерзкой надписью на «чарочке позолоченной». Дунай вступает в бой с обидчиком-«невежей», и в состоянии противоборства богатырей застаёт Илья, названый брат Дуная (вряд ли Илья побратается с изменником). Каждый из противников излагает Илье свою обиду и просит рассудить. Исповеди богатырей составляют ядро этой замечательной былины. Кого же осудит и кого оправдает народный заступник? И когда кажется, что исход поединка предрешён, происходит неожиданное: Илья, в сущности, отказывает богатырям в последнем слове, он поочерёдно поддерживает то одного, то другого «поединщика». В итоге он примиряет соперников, подчиняясь смутному внутреннему побуждению, и отправляется с ними в Киев на княжеский двор.
В Киеве сцена повторяется, но в отличие от Муромца, который отстранился от суда над богатырями, князь решает дело круто, и Дунай брошен в земляную тюрьму. Для Владимира не существует противоречия, заставившего Илью усомниться в своём праве судить других. Сомнение в незыблемости традиционных подходов к человеку придаёт облику старшего богатыря волнующую философскую глубину. Он разрешает конфликт тем, что выходит из него, встаёт над частной правдой каждого из соперников и соединяет их правдой прощения и согласия.
Илья Муромец – фигура героическая и одновременно трагическая. Он вырван из родной среды, у него нет и не может быть семьи. Старые патриархальные связи в прошлом, новые не складываются; их место заняли связи служебные, интересы государственные. Из всех богатырей лишь одного Илью былины сталкивают с сыном. Сын – враг, но какова тяга Ильи к семье: он забывает на миг об опасности и того, кто его чуть было не убил, называет «дитя моё сердечное», наказывает про мать: «привези ей ты нонче в стольно Киев-град». Но не дано простого человеческого счастья. Слияние личного и общественного, которое на время торжествует в сюжете, разрушено в пользу последнего. Сын убит, и снова впереди сражения и дозоры на заставе богатырской. На отношения отца и сына наложились веления надличного долга, необходимости и смяли их. Сколько раз в русском искусстве будет громко и драматично звучать эта тема. Народный эпос заметил её и развернул в столкновении незаурядных характеров ещё на заре русской истории, ярко показал разобщенность людей и зависимость от неподвластных им сил и обстоятельств.
В какой-то мере былина «Три поездки Ильи» подводит итог. Впервые богатырь свободен от князя и его поручений, не ввязывается в схватки. Тут разлито спокойное сознание выполнено долга, углублённость в себя, неизбежные раздумья на склоне лет. Как раз в эту пору ему попадается чудный камень с перечислением вариантов человеческой судьбы и ставит богатыря перед выбором: куда направиться? Мало кто пойдёт туда, где «убиту быть», т. е. захочет подвергнуться смертельному риску; большинство предпочитает «женату быть» и «богату быть». Илья и на сей раз остается верен себе и подтверждает только то, что сделал давным-давно, в начале жизни: «А й пожил я ведь, добрый молодец, на сем свете, И походил-погулял ведь добрый молодец». Вот чем может показаться стороннему наблюдателю его неприкаянная жизнь: ходил-гулял… Но мы-то знаем, что «старый казак» Илья Муромец прокладывал, «очищал дорожки прямоезжие». Чтобы другие беспрепятственно ходили и гуляли. (1969)
Столкновение
Поздней осенью 69-го меня наградили бесплатной путевкой в дом отдыха, и я поехал в Анапу как отдыхающий. В трехместном номере моими соседями оказались Колян и Толян – здоровенные мужики лет под 30 из строительного треста. Они отличались только лицами: у Толяна круглое и масляное, как блин, у Коляна – квадратное, со скошенным подбородком. В первый же день они несколько раз сбегали в магазин и к отбою изрядно нагрузились. «Присаживайся, кореш, – позвали меня и, услышав отказ, Толян зыркнул налитыми кровью глазами. – Брезгуешь, значит… Ну и хрен с тобой, переживем». Ночью дружки отсутствовали и ввалились только к завтраку, довольные и возбужденные. А за обедом я обнаружил в своей тарелке под вермишелью вторую, дополнительную, котлету. Мои знакомые с набитыми ртами переглянулись и фыркнули: «Что, не ожидал? Рубай и помалкивай, это подарок».
После обеда они признались, что ухаживают за стряпухами, и те выражают свои симпатии усиленными порциями. «Горячая деваха, – облизывался Колян. – Хотел уснуть хоть часок – куда там: всю ночь жарила». Прошло дня два. Я бродил по пустынному пляжу, сидел в библиотеке, ходил на массовки и в кино. Во время тихого часа Толян откупорил бутылку и спросил: «Ты что, кореш, книжки приехал читать? Или монахом заделался? Чо зеваешь? Такие бабочки есть аппетитные – сами напрашиваются. Про тебя уже одна спрашивала. Познакомить?» – «Не стоит, – примирительно ответил я, – у меня есть знакомые». – «Ну так чо? Думаешь, у нас нету? Ты в доме отдыха или на подлодке? Значит, отдыхай, тут больше делать нечего». Я промолчал. «Он с нами базарить не хочет, друган, – заревел мужик. – он, видишь ли, культурный, правильный, а мы – работяги, крановщики». – «Пидарас он, – подхватил собутыльник. – Слышишь, ты?! Пидарас и козел!» И на меня обрушился град такой гнусной матерщины, что я поторопился выйти вон.
На следующее утро, после завтрака, я покинул дом отдыха и вернулся в Новороссийск. «Что случилось? – спросили на работе. – Заболел? – «Нет, заскучал – делать нечего», – успокоил я коллег. И с тех пор избегаю многолюдных мест отдыха. Кем бы я стал, если бы поддался один раз, другой, третий? Моя природа подсказала: отступай, но не уступай.
Калачинск
В 72-м, с дипломом историка, я приехал в пристанционный городок и был назначен зам. директора в большую новую школу. Предоставили и временное жильё – 9-метровую каморку с печью в рабочем бараке. Встретили меня радушно: как же, из большого южного города уехал добровольно в сибирскую глубинку. Коллектив был сборный, все приглядывались и приспосабливались, и в этой раскованной обстановке я начинал легко и воодушевлёно. В моём кабинете разместился комитет комсомола, постоянно толпилась молодёжь: заседали, спорили, репетировали, выпускали стенгазету… С первых же занятий я стал любимцем учеников 4-х классов: они пожирали меня глазами, ловили каждое слово, окружали после звонка и сопровождали до учительской. Их преданность и обожание кружили голову, я с нетерпение ожидал очередных уроков. Помню, как один из мальчишек долго не мог отыскать в портфеле ручку, запоздал и начал переспрашивать. Немедленно к нему повернулся самый сильный в классе Слава Фурманчук и показал кулак. Я, конечно, одёрнул драчуна, и Славка обиженно возразил: «А чего он возникает?» Словом, моя школьная жизнь начиналась как педагогическая поэма, и вдруг всё мгновенно оборвалось. Месяца через два меня вызвали в райком комсомола и потребовали объяснить, почему я не встал на учёт. По документам мне шёл 28-й год, комсомольский возраст завершался, и я ответил, что взносы продолжаю платить аккуратно, а постановке на учёт не придаю никакого значения. Увы, я совсем не знал автоматизма и беспощадности партийно-комсомольской машины.
Немедленно создали «персональное дело», и на бюро райкома обвинили в идейной незрелости. Я стоял перед «высоким» руководством и выслушивал, как они, заранее сговорившись, хлестали меня по очереди: обманул, скрыл, не оправдал, не имеет права воспитывать (через 13 лет точно такие же слова мне бросали на бюро райкома партии и снова «выразили недоверие»). Но вместо страха внутри закипала волна негодования. За что? в чём я провинился? разве я преступник? Почему они оскорбляют меня как мальчишку-шалопая? Выдерживая намеченный сценарий, первый секретарь Баранова подвела черту: «Вы совершили непростительную ошибку и потеряли наше доверие. Мы смотрели на вас, как на молодого перспективного специалиста, вам был открыт путь в партию. Если вы сделаете серьёзные выводы и признаете свою вину, райком комсомола готов закрыть персональное дело».
Во мне поднялась гордость. Я посмотрел в глаза Барановой и отчеканил: «Если доверие зависит от бумажки, я никогда не признаю своей вины». Райкомовцы возмущённо зашумели: «Это вызов. Хватит его уговаривать. Исключить!» – и Баранова, вся в красных пятнах, отрезала: «Мы могли бы ограничиться выговором, но вы сами поставили себя вне Союза. Комсомольский билет на стол!»
Я выложил билет и порывисто вышел из кабинета. Знал, что последствия наступят незамедлительно, но не переживал – была какая-то отстранённость. Директриса, добрейшая Мария Николаевна Блынская, на следующий день мягко укоряла: «Зря вы погорячились, И.А., у кого из нас нет выговоров. Как видите – не умерли, живем, работаем. Никто и внимания не обратил бы. Так хорошо начали, а теперь, сами понимаете, у вас останутся одни часы. Могу предложить дополнительно уроки английского». На том и поладили; про себя я уже решил, что уеду сразу же после учебного года.
Ученики по-прежнему радовали вниманием и старательностью, но мною овладела хандра. Почему я оказался в этом скверном городке, в окружении мерзких физиономий, на положении поднадзорного, в жалкой и смешной роли школьного учителя? Обстоятельства переменились, но неизменны люди, жизнь. Я был занят, и все вокруг заняты и даже гордятся этим, а мне казалось, что занятость такого рода хуже всякого безделья. Большинству взрослых и детей не под силу расточительность и дробность нашего века, они находятся в плену его грубых приманок, не умеют выбирать. Они обжираются объедками, проходя мимо изысканных яств.
Через 19 лет от меня отказалась партия, как и от 18 миллионов таких же, как я, коммунистов. После августовских событий и самороспуска парткомов, школьный секретарь перестал собирать взносы, и я убрал с глаз ненужный партбилет. Я вступил в партию в 1981, по предложению совхозного парткома, и не торопился выйти из партии тогда, когда доблести для возврата партбилета уже не требовалось. Тысячи обилеченных попутчиков отреклись на моих глазах от звания коммуниста и оплёвывали поверженную КПСС. Тогда-то, в разгар сумбурной перестройки, запустили ложь о том, что социализм не поддаётся реформированию. Я поверил в эту ложь одним из последних и несколько лет ждал честных выстраданных перемен. То, что произошло, перечеркнуло наши надежды, каждый год обнажал всё сильнее страшную харю «демократической России». Обуржуазившаяся советская верхушка с облегчением сдала вылупившемуся капиталу и партию с её идеалами, и социализм. Колоссальные жертвы, провалы, преступления начинают подсчитывать сейчас, через полтора десятка лет, и главный итог – впереди. А свой неиспользованный партбилет я сдал в музей народного образования – там ему место.
Эпоха
Новейшая биография Брежнева с подзаголовком «Золотой век социализма». Преувеличения нет, 70-80-е гг. были пиком материальных и культурных достижений Советского Союза. Бесспорно, по стране картина складывалась пёстрая. Например, Нечерноземье и Поволжье были беднее, Сев. Кавказ и Сибирь, где я жил, побогаче. Когда в 1973 мы приехали в Тёткино на Украину, то из продуктов, кроме хлеба, смогли найти лишь отвратительную колбасу кровавого цвета, да и ту расхватывали моментально большими сумками. Тем не менее, именно в те годы простой народ впервые получил широкий доступ к образованию, медицине, жилью, отдыху. Сельские магазины, как правило, выглядели обильнее городских, здесь свободно покупали даже импортные товары. Что касается книг, то самые ценные и интересные я приобрёл в районах, в городе они до прилавка не доходили. Сейчас любят бичевать коммунистов за всевозможные дефициты. Я смотрю на витрины и думаю: все нынешние товары по советским ценам смели бы с прилавков за день! Товарный голод во многом объяснялся не объёмами производства, а волюнтаристской ценовой политикой советского руководства: заниженными ценами на продовольствие и завышенными на ряд промтоваров. При растущих доходах населения напряжение на плановом рынке было неизбежным, денежная масса всё больше отрывалась от товарной. Плавающий курс цен наряду с переходом к многоукладной экономике вдохнул бы в социализм свежие силы, но во имя стабильности и доступности коммунисты не отважились на подобные меры. Теперь на смену дефицитам пришли огромные свалки нераспроданных гниющих продуктов.
Во времена Брежнева во всех хозяйствах возвели типовые 2-этажные десятилетки на 300—400 мест, отлично оборудованные и оснащенные вплоть до технических средств – кинопроекторов, телевизоров, эпидиаскопов и пр. В таких школах я учил 10 лет и не завидовал городским учителям. Только в первый год, в Калачинске, я жил в насыпном бараке, и вечерами фабричные рабочие забегали ко мне одолжиться разной мелочью, а взамен предлагали картошку со своих огородов. Они-то и приучили меня расплачиваться за разного рода услуги не деньгами, а бутылками: разгрузить машину – бутылка, наколоть дров – пара бутылок. С тех пор я держу дома запас поллитровок, совсем недавно «благодарил» слесаря-сантехника. В сёлах мне предоставляли просторные 3-комнатные квартиры независимо от того, приезжал я один или с женой. В целинном Добровольске и таёжной Петропавловке мы жили в благоустроенных многоквартирных домах, а под окнами располагался огородный участок; в других местах я занимал половину особняка с собственным двором и огородом и нигде не платил ни рубля: за жилье и услуги расплачивался бюджет. Я покупал в хозяйствах по дешёвке муку и мясо, соседи снабжали молочным, а ученики нередко угощали рыбой из местных водоёмов. Иногда сытно обедал в столовых буквально за копейки. Мне оставалось засадить огород и обеспечить себя овощами. Зарплаты в 120—150 рублей хватало на все расходы, а неистраченное оседало в сберкассе. Рядом со мной ещё лучше жили рабочие и специалисты: большие приусадебные хозяйства, автомобили и мотоциклы, поездки на курорты и в соцстраны. Брежневский «развитой социализм» осмеяли и опорочили. Он действительно разлагался изнутри и не мог быть длительным. Но несколько поколений хранят о той поре благодарную память: до них по-человечески жили немногие.
В 25-ю годовщину смерти Брежнева слушал в московском эфире развязную и самоуверенную радиодевицу, тоже 25-летнюю. Она морочила молодых слушателей затверженными репликами: «Скажите, а сколько лет вы мучились без жилья? А как вы доставали еду? Неужели забыли очереди за колбасой? Может быть, вам нравились политзанятия?» Ей про бесплатные детсады, квартиры, профсоюзные путёвки, послевузовское распределение, а она заложила уши и снова про любимую колбасу и тряпки. Да, славно поработали наёмные трещотки и щелкопёры, взрастили целое поколение манкуртов. Это же очевидно, что между поколениями никогда не будет согласия в оценке и понимании вчерашнего прошлого: одни переворачивали годы и жили, другие переворачивают страницы и запущенные мифы, но лишь особо спланированная и направленная пропаганда геббельсовского пошиба может добиться полного извращения истины. Неужели моя эпоха отложится в памяти потомков исключительно охотой на диссидентов и колбасными очередями? Неужели нас будут только оплакивать и жалеть? А ведь мы волновались, работали, любили, спорили – и думали, думали, чёрт возьми! Не о колбасе – о смысле мироздания. Нет, знаю, что через полвека напишут не плоские страшилки, а новую «Войну и мир», и в широкой панораме будут достоверно смешаны свет и тени, счастье и трагедии, боль и радость, победы и поражения – всё, чем переполнена жизнь во все времена.
Контрасты
В 1983 мы с Надей приехали в северный Муромцевский район. Живописные окрестности посёлка сразу покорили мою душу: древний сосновый бор, родниковая речка Шайтанка, заливные луга. Как театральная декорация, на берегу речки возвышались краснокирпичные стены большого винокуренного завода. Он был построен местными купцами ещё
в 1893 г. и сгорел по халатности персонала после войны. Заведующий отделом образования выполнил обещание и вселил в 3-комнатную квартиру в новом учительском доме. Как издавна повелось в сельской местности, благоустройство на поверку оказалась хлипким и ненадёжным: горячей воды вообще не было, и я спускал из батареи тёплую; за холодной часто приходилось ходить в колодец; пол в прихожей, настланный из гнилых досок, внезапно провалился. Рядом со школой находился детдом, куда помещали детей отцов и матерей, лишённых родительских прав, и во всех классах половина учеников приходилась на детдомовцев. Я наведывался в это заведение регулярно, и каждый раз преодолевал внутреннее сопротивление. Стоило показаться во дворе, как навстречу устремлялись малолетки с возгласами: «Папа, папа пришёл!» И в коридоре детдома обязательно попадались малыши, которые заглядывали в глаза и спрашивали: «Вы мой папа?»
Зимой 1985 в район прибыла с инспекторской проверкой методист из московского Центрального института усовершенствования учителей. Накануне её приезда меня вызвали в РОНО, и я застал там всеобщую сумятицу: женщины носились из кабинета в кабинет, перебирали папки, стучали на машинках и оформляли стенды.
Знакомая методист-историк из Омска С. Н. Пашина задала несколько вопросов и сообщила новость: «Завтра будем в вашей школе и придем к тебе на уроки. Не растеряешься?» – «Нет, даже интересно. Пусть посмотрит, как работают в глубинке». – «И мы хотим ей показать, что уровень обучения не связан с расстояниями от Москвы. Иди, готовься и отдохни».
Я знал, что многие учителя с ведома и одобрения администрации заранее отрабатывают, репетируют показательные уроки, и находил этот приём для себя унизительным, бесчестным. В любой класс я входил подготовленный, и мои открытые уроки отличались от обычных лишь более детальным и тщательным построением. В учениках я был уверен, они охотно пойдут туда, куда поведу. Урок в 10 классе по обществоведению «Труд при социализме» прошел в форме живого обсуждения письма молодой работницы в «Комсомольскую правду», а выводы помогла сделать Конституция СССР: с её текстом старшеклассники работали самостоятельно. На втором уроке, в 5 классе, я использовал метод сравнения: ученики по плану делились знаниями об Афинах, по этому же плану я рассказывал им о Спарте, а сходство и различие находили сообща. Едва прозвенел звонок, как столичная гостья не удержалась: «Превосходный урок!»
Обсуждение прошло чисто формально. Сыпалась дидактическая терминология, выявлялись мои замыслы и результаты, а секрет успеха знал я один: если интересно самому учителю, будет интересно и ученикам. Меня угнетали длинные зимние ночи, я проклинал медлительный ход будильника: когда же утро? скорей бы в класс. Любовь к профессии рождает вдохновение, отсутствие любви не прикроет ни одна методика. Все остались довольны, уроки жены тоже понравились. Мы не уронили чести района, и нас решили наградить. Через несколько дней директриса заявила, что нас представляют на звание «Учитель-методист», и предложила мне написать на себя деловую характеристику. Я вытаращил глаза: «Неужели характеристика тоже входит в мои обязанности?» – «Не удивляйся, – спокойно ответила хитрая баба.– Для области я написала бы эту бумагу и сама. Но характеристика вместе с представлением пойдёт в Москву, и её следует написать профессионально, учёным языком – чтобы не завернули. У тебя лучше получится». – «Да ведь неудобно и не принято», – промямлил я. – «Неудобно кривить душой, а ты напиши правду». Что делать? Сел и написал, как требовалось. Через 10 лет история повторилась в Омске, но тут объяснили по-иному: «Тебе нужно, ты и хлопочи. Типовая характеристика для тебя не подходит». Что верно, то верно: мне всегда затруднялись давать оценки. Другим я раздаю их щедро, не стесняюсь.
После двух лет мучений в промерзающей квартире моё терпение истощилось, и мы предупредили начальство о предстоящем увольнении. Что тут началось! В райкоме партии меня припугнули тем, что не снимут с партучёта и заставят исполнять партийную дисциплину. Я подключил мать, побывал на приёме в обкоме партии и начал паковать вещи. В конце августа нас вызвали на бюро райкома. Стоял жаркий день, и в зал заседаний я вошёл в цветной сорочке с короткими рукавами. «Это неуважение к членам райкома, нескромность и развязность с вашей стороны», – отчитал первый секретарь Карпов, и все присутствующие, в тёмных костюмах и галстуках, потные и красные, свирепо уставились на меня. Я читал на их лицах: «Эх, нам бы твою вольность». Я сдержанно объяснил, что оделся по сезону и не вижу в этом неуважения к райкому, но Карпов стукнул кулаком: «Замолчите! Вы нарушили партийный этикет, а он не зависит от сезонов».
Теперь я понимаю, насколько он был прав. Сезон давно сменился, но этикет повсюду остался прежний – этикет непререкаемости и непогрешимости. Замахнёшься – и сразу окрик. Моя сорочка разозлила партократа, а то, что зимой мы ложились спать в одежде, не вызвало ни одного слова сочувствия. Я мог бы рассказать, как в первую же зиму вынужден был поставить в спальне железную печь с трубой, выведенной в форточку; как после уроков отправлялся на лесопилку за посёлком, набивал мешок чурками и на санках тащил домой; как приезжала комиссия, и серьёзные дяди в дублёнках обещали исправить положение; как директор детдома, где топилась котельная, обматерил меня и захлопнул перед носом дверь… Мог бы, но жена знала мою вспыльчивость и незаметно толкнула в бок: помолчи, не заводись. Я вежливо предложил кому-нибудь из райкомовцев пожить в нашей квартире хоть с неделю, и председатель райисполкома высокомерно оборвал меня: «Мы знаем и принимаем меры. Не вы один переживаете трудности». Взывать к этим людям было бесполезно, и я замолчал. Утешало то, что задержать нас они не могли: по жалобе матери из обкома последовал звонок с приказом не препятствовать отъезду, и напоследок нам просто устроили головомойку. С выраженным «недоверием» за добросовестную работу мы оставили Муромцевский район.
Земля
Куда ухожу от этой политики, этих судов, этих улиц, этих рынков, этих соседей, этих нравов? К этим волнистым снегам, к этой жёлтенькой траве, к этим чёрным вётлам, к этим чижам и синицам, к этим стройным тростникам, к этим багровым закатам, к этим остро мерцающим звёздам… И жалею только об одном: почему с ними не навечно. Скоро, скоро…
Сирень цветёт. Налетит порыв ветра, и ударит в лицо нежный, тонкий аромат – как выдох земли. Берёзовая аллея, тёмная и прохладная, трепещущая каждым листом, вся в солнечных бликах. Совсем другое бытие – благодарная мать-земля: в ответ на усилие выбрасывает зелёный росток и венчает труды плодами. Работаю в классе и на земле, и как многократно перекрывает второе результаты первого наглядностью, весомостью, удовольствием. Ведь сею в почву, а не на камни.
Яблоня в цвету под моим окном, на моей земле. Не чувство собственника взыграло, а радость ещё одного, заслуженного, обретения. Теперь свободный день и час – своей земле и дому. Погружённый в череду деревенских забот, не усвоил ни одной мысли – всецело приворожен землёй. Только ей одной стоит поклоняться, искать защиты и спасения подобно язычникам. Золотистые сосняки, их буйный аромат. В молодых борах такая чистота, как в прибранной избе. Так и у людей: благостное, неомрачённое начало, а потом гниль, вырубки, бурелом.
Время распалось на две неравные части – там и здесь. Здесь – дело и деньги, усталость, мусор межчеловеческого трения, бескровная война; там – погружение и растворение в эфире, полнота одиночества под сенью берёз и сосен, подлинное перевоплощение. Здесь я – пигмей, соринка; там – космическое существо, открытое во все стороны и вбирающее энергию природы. Да и натура моя монашеская, лесная, молчаливая. Всегда уходил от разговоров о себе, от саморекламы, карьеры.
Всё больше и больше природа, исключая музыку, вытесняет всё остальное. Если бы почему-либо стали невозможны мои походы в пустыню, стала бы невозможной и жизнь в том виде, как я её веду. Это – быть с собой и миром без преград и посредников.
Подтвердилось убеждение, что «обитатели леса не борются между собой. Наоборот, кооперируются. Жизнью леса руководит не борьба за выживание, а законы всеобщей поддержки. Деревья и кустарники в лесу помогают друг другу» (открытие британских и канадских учёных). Заметил давно: моху, ягоднику, грибу, траве, высокому и низкому дереву – всем находится место, удивительное содружество. Посели же десяток людей под одной крышей, и обязательно найдутся несовместимые пары. А что творится в казармах, тюрьмах – кровь стынет. Кто же произвёл нас, неужели Господь? Нам, как брошенным детям, жаждущим усыновления, надо просить Природу: возьми нас к себе снова. Мы будем хорошие, будем слушаться – вот увидишь.



