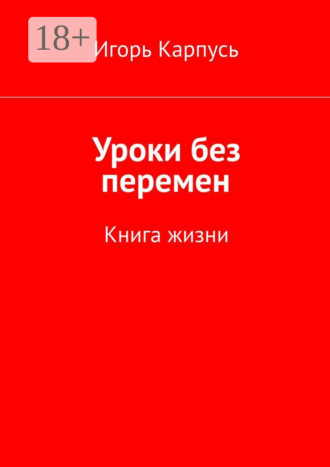
Полная версия
Уроки без перемен. Книга жизни
По самому скромному подсчёту, с мая по октябрь выходил по лесам и полям 800 километров. Если у земли есть память, она меня не забудет. С детства не хватало расстояний, простора, движения. Где бы ни жил, уходил в безлюдье, дальше и дальше, куда глаза глядят. В деревнях провожали взглядами: куда его нелёгкая понесла? что забыл в пустом осеннем поле семейный мужик? Какая нужда гонит в голый лес, на зимний тракт? А я знаю? Не в силах усидеть на месте, замкнутое пространство доводит до исступления. И лишь под небом успокаиваюсь, обретаю равновесие. Это не тяга к путешествиям, мне не нужна вся планета, смена впечатлений и открытий. Меня срывает жажда дали и движения, зов земли, сладость бродяжничества. Кого только ни просят о помощи – врачей, политиков, актёров, священников… А помощница, целительница, утешительница – под ногами, ждёт. Но приходят единицы.
Вот Солоухин задаётся вопросом: «Откуда же пришла красота в повседневный быт, в резьбу, в кружева, в вышивку, в песню, в танец, в живопись? Да из души человека, откуда же ей ещё было прийти?» Вторичное выдал за первичное. Из природы пришла красота, из её жизни, красок, линий, образов. Из природы – в душу, а из души – в быт и искусство. По-иному и быть не может, потому что душа вышла из земной купели и пребывает в ней вечно.
Выводы этологов бесспорны: «мораль есть практически у всех животных», мораль присуща живой природе так же, как эволюция, смена поколений, жизнь и смерть. Эта мораль удерживает организмы от внутривидовой борьбы и самоистребления. И только «человек разумный» не удержался даже на уровне природной морали и подменил её безудержной жаждой господства и подавления себе подобных. Что же остаётся от религии и Слова Божия? Одно то, что они переводят на человеческий язык Слово природы, универсальное и непререкаемое. Природа сотворила живую материю и наделила её духом, а вознёсшийся разум вступил с ним в борьбу. Спасение – в возвращении, природа и разум едины.
Не знаю, есть ли поэма о сибирской яблоне-дичке? Я бы написал. В мае яблоневые ряды тянутся вдоль дорог белоснежными заносами, вздымаются клубами облачной пены, словно земля празднует своё пробуждение. А лесные чащи яблонька превращает в сказочные сады. Воздушные, с розовым оттенком, венчики висят среди молодой зелени кружевным узором – так густо они покрывают ветви и испускают едва уловимый аромат. Проходит 2 – 3 дня, и лепестки осыпаются, видение исчезает, яблоня становится обычным деревом. Только до осени. В сентябре-октябре яблоня снова набирает цвет, красный или жёлтый, и радует глаз обилием мелких плодов на длинных черешках. В первое время плоды твёрдые и кисло-вязкие – лучше не пробовать. Однако дерево не обманет. Ближе к зиме, накануне заморозков, яблочки наливаются и расплываются во рту приятной прохладной мякотью – у садовых вкус совсем другой. Можно лакомиться всю зиму, если не опередят птицы. И снова ждёшь с нетерпением весны, той короткой и радостно-грустной поры, когда земля украшается дивным яблоневым цветом.
В ноябре, по первым морозам, отправился за город. Белое рассеянное солнце клонилось к закату, над полями стояла холодная тишина. Пушистый снежок искрился, и полевая дорога, казалось, была выстлана солнечным песком – так и пылала; если идти без остановки, то непременно выведет к самому светилу. Светло-жёлтая густая трава по обе стороны отливала мягким светом и успокаивала. Ожидал, что буду первый и обновлю зимний путь – куда там! Податливый снег был испещрён на каждом шагу следами птиц и зверей, иногда такими замысловатыми, что я останавливался и гадал: кто же здесь побывал, кто оставил эти узоры? Уж не гномики ли?
Поворачиваю на заброшенные дачи и собираю всеми забытые плоды. Вот яблонька, усыпанная мелкими красными яблочками; до холодов они отдавали кислинкой, а теперь в самый раз. Вот давно примеченное «Уральское наливное», яблоки жёлтые и мягкие как воск, с медовым вкусом. Правда, на ветках уже пусто, но я разгребаю снежок и быстро наполняю пакет. Хороша в эту пору и калина – пунцовые кисти среди оголённых ветвей, а уж черноплодная рябина – одно наслаждение. Долго она отталкивала оскоминой, и вдруг набралась терпкой сладости, размякла и стала желанной. На ходу общипываю сморщенные сухие ягодки сизого цвета – ирга. Их надо старательно разжевать, и нежный сироп напомнит прелести ушедшего лета. Вяленую и удивительно вкусную вишню я обобрал давно и с сожалением посматриваю на вишнёвые заросли.
Можно дышать, бродить, наслаждаться, если бы не жалкий вид разорённых дач: поваленные заборы, выломанные рамы и двери, руины кирпичных стен. И всюду бурьян, бурьян – выше головы, расползается и торжествует. Как будто неприятель прошёл, ураган промчался, и трудно примириться с мыслью, что строили для того, чтобы бросить и отдать на поругание – легко, бездумно, беззаботно. Наверно, от нашего фантастического богатства. Разве своё, выстраданное и нажитое, бросили бы? В начале 90-х, под занавес социализма, предприятия раздавали рабочим и служащим даровую землю: бери, сколько хочешь. И хватали больше, чем могли проглотить – дальнюю дикую землю без дорог, воды и электричества. Не колебались, потому что в безвластной стране набирала обороты великая «грабижка». Дачи строили из краденного и купленного за гроши на заводах, в колхозах, железной дороге… Теперь высовываются среди чертополоха бетонные блоки и кольца для колодцев, металлические ограды и вагончики. Возвели, распахали, посадили, а содержать и обслуживать силёнок не хватило: подпитка иссякла, «грабижку» прикрыли. И сотни, тысячи застроенных участков были обречены нерасчётливыми хозяевами на запустение, разруху и поживу мелким хищникам. Как пришли, так и ушли. Под Омском повсюду разбросаны памятники людской жадности, бесхозяйственности и легкомыслию. Памятники корыстному перевороту и обвалу, сотворённому в конце 20 века. Жаль обманутой испакощенной земли, да ведь не одна земля: разрушена и стоит половина промышленности. Чем живёт омский завод «Лаки и краски»? Мне отвечают: арендой. А лаки и краски из Подмосковья и импортные. Чем кормится производственное объединение «Ковровые изделия»? Тоже арендой. Вся страна сдана в аренду и превратилась в гигантский мост между Востоком и Западом со встроенными товаропотоками. Производят другие, мы перехватываем.
Омская земля. Не думал в ранние годы, что проживу здесь вторую половину жизни. Заслуга матери, она всегда помнила родину и без колебаний рассталась с Кубанью. А я, наоборот, со своей родины перебрался в Сибирь да тут и остался. Среди людей жилось по всякому, а к земле прикипел. Исходил ногами, прощупал руками, вобрал глазами, прирос душой. Что любишь, то и прекрасно. Любил море – полюбил равнину. Знаю твои реки и озёра, степи и тайгу, луга и пашни; знаю тебя во всех состояниях и нарядах, во все времена года. Иду к тебе с радостью и горем, больной и здоровый, и ты всегда встречаешь, как сына; ни разу не отвернулась, не оттолкнула. Сколько картин открыла ты мне, сколько подсказала мыслей, рифм, образов. Ты постоянно во мне, я слышу твой зов, тороплюсь в твои объятия. И знаю: примешь и успокоишь мой прах.
Пушкин
Первый пушкинский юбилей в развороченной запущенной стране с изверившимся народом, поверженной культурой. Сразу видно, что забота одна: отдать неизбежный долг, погреться у памятника и помчаться дальше. Утешает то, что для Пушкина и для нас казённые юбилеи давно потеряли всякое значение – мы нераздельны. Пока живёт Пушкин, будем жить и мы; пока жива нация, будет звучать и Пушкин. Лучше Толстого не скажешь: Пушкин – наш отец. Истинно отец: дал нам язык, вложил самосознание, указал путь к полноте и совершенству. А мы, неразумные, в ослеплении и гордыне часто плутаем по бездорожью.
Пишу и обнаруживаю удивительную вещь. Казалось бы, никогда преднамеренно не заучивал его стихи, не увлекался безоглядно творчеством… А вот в сознании то и дело всплывают пушкинские строки, выражения, лица. Причём без всяких усилий и напряжения памяти. Как будто вложены эти магические фразы в моё существо с рождения, даны мне свыше, как родовое наследство, для передачи уже моим потомкам и продолжателям.
В самом деле, разве я когда-нибудь не слышал, не знал «Гонимы вешними лучами…», «Мой друг, отчизне посвятим…», «Мчатся тучи, вьются тучи…», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Сижу за решёткой в темнице сырой…», «Прощай, свободная стихия…» и ещё, ещё… Это было и будет всегда, как родной дом, ключевая вода, небо и звёзды.
И всё-таки, когда же пробудился и зазвучал во мне Пушкин? Помню себя трёх-четырёхлетним на коленях у бабки. Под потолком тусклая лампочка, стёкла затянуты белым мохнатым налётом, в большой комнате пусто и неуютно. В крепких объятиях бабки мне тепло и покойно, сквозь обволакивающую дрему, как заклинание, доносится до слуха: «Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя…» Неизъяснимый ритмический поток убаюкивает и уносит в радужные выси, я крепко засыпаю. А через несколько дней, невыносимо картавя, декламирую: «Выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей».
В пять лет, когда выучился читать, моим кумиром стал королевич Елисей. Я часами перелистывал страницы любимой книжки, жирным черным карандашом пачкал ненавистное лицо царицы, в невыразимом ужасе цепенел от мрака и холода той норы, где «во тьме печальной Гроб качается хрустальный». По-видимому, тогда впервые Пушкин внушил мне понятие о силе любви и тайне смерти.
Позднее, в школе, на глаза попалась богато иллюстрированная книга-биография поэта. С жадным интересом я разглядывал многочисленные репродукции, но только вид Пушкина в гробу заставил бесповоротно-болезненно ощутить его телесное небытие. С чувством кровного горя я пережил его предсмертные страдания, кончину и излил свою печаль в первом стихотворении. Мой наставник Т. И. Гончаренко позволил прочитать его на школьном вечере, и я прямо выкрикнул в зал: «Раздался выстрел одинокий – И рухнул скошенный поэт. Его убил француз жестокий и подлый равнодушный свет».
У Пушкина я нашел идеал женщины, и произошло это в пору цветущей юности, на 18-м году. Уже кружилась голова от прикосновения девичьих рук, уже неясные волнующие грезы туманили воображение, на лекциях всё чаще накатывали рассеянность и отрешённость. Предстояло выступить на шефском концерте перед рабочими учебного завода. Под рукой был «Евгений Онегин». Я раскрыл томик и тотчас погрузился в письмо Татьяны.

Читаю «Письмо Татьяны». Вознесенский маслосырзавод, 1963
Да ведь это обо мне, это со мной! И сновидения, и чудные взгляды, и голоса в душе – незримое присутствие рядом кого-то близкого, желанного. А мне твердили про «энциклопедию русской жизни» и «типичных представителей дворянского общества». Да, энциклопедия человеческих обретений и потерь. Да, представители бессмертного племени влюбленных. Покоренный искренностью и чистотой выраженного чувства, я прозрел, я понял, кого следует искать. Смутные мечты и влечения воплотились в зримый облик.
После смены к заводу подогнали грузовик, откинули борта, и с открывшейся площадки я нерешительно и смущенно произнес: «Я к вам пишу – чего же боле?» А через год, тихой кроткой осенью, на древней владимирской земле я встретил свою Татьяну.
Шли годы. Из ученика я превратился в учителя, но по отношению к Пушкину остаюсь робким почтительным учеником. Нередко ловлю себя на том, что пытаюсь найти в Пушкине своё, а в себе – пушкинское. И с грустью отмечаю, что сходство не затрагивает главного, определяющего. И вокруг себя вижу немало именитых умных людей. Слушаю их рассуждения, споры и думаю: «Э, брат, так и я могу. Далеко тебе до Пушкина». Поражают его всеохватность и всепонимание. Как легендарный Мидас, он превращал в чистое золото поэзии и житейский мусор, и кровавые драмы истории.
Бывают часы изнурительного разлада с самим собой, ощущения своей ненужности и бесполезности. Что я принёс в мир, нашёл ли своё место, любезен ли людям? Беспощадный внутренний дух отвечает: нет, нет и нет. Как-то на лесной тропинке, когда нерадостные думы обступили со всех сторон, в поисках спасения губы непроизвольно прошептали: «И меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он».
Вот оно, искомое! И Пушкина обуревали сомнения, и его лучезарный гений метался в поисках смысла. Да и не может человек иначе, если погружен в «заботы суетного света». Есть ли выход из гнетущего состояния? Есть, и Пушкин его хорошо знал: «Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется…» Чем бы ни занимался, даже наедине с собой, не уставай творить. Когда вхожу в класс и вижу 30 пар внимательных глаз – происходит чудо. Душа сбрасывает ветхие покровы обыденности и воспаряет, «как пробудившийся орёл». Нет за окнами дождя и снега, потока автомобилей, людской толчеи; отступают заботы, обиды, боль, тоска. В едином порыве мы устремляемся к вечным загадкам мироздания. Спасибо тебе, Пушкин. Ты научил меня слушать голос моей Музы и, наперекор всему, следовать её велениям.
Читатель
Через 30 лет с наслаждением перечитал дневник Герцена. Когда теперь славословят Самиздат, диссидентов и тогдашних «властителей дум», я задумываюсь: почему я прошёл мимо них, о многих даже не слышал, влияния – никакого. А между тем, шёл в нужном направлении и многое понимал верно. Меня умудрили и вынесли история, классика, Герцен, Чаадаев, Писарев, Толстой, Щедрин – их разносторонняя культура, до которой далеко нынешним, их «движенье умственное, беспокойное, ищущее разрешений…» Вся русская литература с возвращением капитала стала вдвойне актуальной, потому что по-прежнему отсутствует второе слагаемое – зрелость, культура. Объясняя своё время, Герцен лучше всех диссидентов объяснил и моё, наложение полное. Как будто дух его явился посреди выжженной пустыни и сказал: я это уже пережил и знаю, пойдем за мной: научу и предостерегу. Я пошел и иду до сих пор, дух не отлетел и напоминает: продолжение мне тоже известно, и через эти искусы я прошел, но не остановился; следуй за мной дальше. И надо идти, хотя сама история устала и спотыкается, как пьяная баба. «Наши внуки увидят». А внуки видят то же самое, что и пращуры.
За 6 часов перечитал «Остров сокровищ», славная книга: возбуждает тоску по прошлому. Все наши романтики в искусстве – последние его отголоски. С годами чтение станет ещё слаще и приманчивей, потому что никак нельзя вернуть утраченное. И пираты для нас уже не злодеи, а наша невосполнимая частица.
Юбилей Фета его почитатели отметили задушевно и негромко. Не было привычных для больших поэтов славословий, торжеств, памятников, но не потому, что имя Фета малоизвестно. Просто сам характер его жизни в поэзии таков, что не терпит над собой никакого насилия – ни доброго, ни злого. Человеку чуткому и душевно одаренному фетовская муза сама привыкла открывать свои тайники. Её искренний и чистый голос породил эхо редкостной поэтической силы, а наши времена подтвердили её нетленное обаяние и глубину.
Фет познал сполна холод отчуждения современников. Немногие из них, в том числе и Толстой, понимали, что с приходом Фета в мире поэзии заполнилась зияющая пустота. Впервые так ясно и точно строфы поэта вывели наружу изменчивый и бездонный мир души, обозначили все её колебания и переливы. Нить живописных строк тянется свободно и непринужденно, и каждая – драгоценное мгновение жизни. Кому не знаком хаос внутренних переживаний и ощущений, а Фет ведёт себя в нем как властный и зоркий хозяин. Ничто не ускользает от его внимания, перо художника заключает в словесную оправу даже мимолётный порыв.
Половодье дум и чувств поэта приводит современного человека в смятение. Перед ним вдруг открывается простор, который он по незнанию искал совсем в другом месте. Встреча с Фетом подобна прозрению. После него невозможны успокоение, самообман, будничность – «весь этот тлен, бездушный и унылый». Потомки признали Фета кровно своим. Он верил, что придет пора, когда истинные потребности человека вытеснят в нем все вынужденное и преходящее. 1970
Книга Станиславского – упоительный рассказ с детства очарованной души. Ребенок должен на заре проиграть уготованную ему жизнь, в этом назначение детства. Иначе впереди прозябание.
«Гамлет Щигровского уезда» и поразительное сходство с записью 1967 и настроением последнего времени. Действительно, не оригинал: «…на серединке остановился: природе следовало бы гораздо больше самолюбия мне отпустить либо вовсе его не дать». Отсюда всё и идёт. Да неужто мне определена его судьба? Жизнь проходит мимо, а я не умею, не могу войти в неё. Правда, я и сам никуда не рвусь – это утешает.
Дивная «Ночь» Бунина, где человек и природа – одно нераздельное. Среди неумолкающих движений, колебаний и изменений природы течёт такая же своенравная, неуловимая, иссушающая мысль ни о чём и обо всем.
«Мастер и Маргарита» – вещь на века. Роман заболтанный, расхватанный на фразы и выхолощенный, как всё, что пытаются сделать модным. Он в тысячу раз злободневнее именно сейчас, в разгар рыночного психоза, потому что следует сатирическим руслом и жалит всё человечество – низменное и мелкое в утробных запросах. Ему Гоголь – дедушка, а Свифт – отец. Мистика Булгакова реальна, а реальность отдает мистикой. Предмет романа совсем не советские будни, а идиотизм и бессмысленность повседневной жизни рода человеческого. Не нужен и распят Христос, Бога нет среди людей, и его место занял бессмертный Сатана. Даже он потрясен земной картиной. Он устраивает издевательский экзамен горожанам и видит, что ему нечего делать среди них. То, что должен был выполнить Всевышний, делает Дьявол: уводит с собой пару беззащитных и невинных. Где же взять мазь Азазелло? И еще – в меру сатанизма, которым обладает Маргарита, а не Мастер. Спаситель же пригревает непротивленца Пилата.
Язык Солженицына тяжел, нарочито старомоден, продираешься медленно и с потерями. Конечно, наложил печать Гулаг, но гордыня неуместна и в этом случае. А рядом – Зайцев, без тени исключительности, преувеличенной скорби и суровости, с мягкой печалью и необъятной отзывчивостью, как его любимый Сергий. В его невесомой прозе – последний эпический век на Руси, от «Сельского кладбища» до «Степи». А дальше распад, безумие, скольжение в бездну.
«Мелкий бес» ранит навсегда. Его нельзя читать в юности, а понять можно, только пожив, насмотревшись и намучившись. Давно открыто, что оправдать существование может только золотой век, а неизменно выскакивает и хохочет над нами вездесущая недотыкомка. Апогей рутины и абсурда, из которых выход для большинства – могила. Единственное, что разбудило давние переживания – это история юной пары: чистая, нежная и ароматная, без притворства, грубости и расчета. У нас с Ритой было так же. 19-летний дичок и 22-летняя самостоятельная девушка; восторженность одного и спокойное, обдуманное чувство другой; желание и неготовность к плотской близости с моей стороны и сознательная отстраненность – с её. Если бы она, в силу своего превосходства, проявила инициативу, как Людочка Рутилова, наша жизнь повернулась бы по-другому. Но Рита предпочла остаться на высоте безукоризненной порядочности, а во мне не разглядела надежного спутника-мужа. И оказалась права, мужа из меня не получилось.
«Лето Господне» захватило до донышка. Медленно, постепенно втягивался в повествование, вначале раздражали подробности и широта описаний, пока не понял, что в этом вся прелесть книги. По-другому не воссоздать в слове наполненность, зернистость, многоцветье московской жизни. Мастер сознательно выделяет дорогие ему линии и узоры и убирает, разглаживает чуждое ему. И засверкала самородная православная, разгульная и работящая, восторженная и земная Русь. Здесь и намека нет на маету, бесцельность, скуку, томление – всё, чем мы переполнены. И скажи высокоумный Бердяев филёнщику Горкину или приказчику Василию Васильевичу о том, что для него философия дороже жизни, они посмотрели бы на него с подозрением. Народ так устроил жизнь, что смысл её был определён навечно и заложен в том, как в положенный срок пекли куличи и пасхи, мочили яблоки и солили огурцы, заготавливали лёд, крестили и женили сыновей, праздновали именины, совершали крестные ходы, катались с гор и, само собой, рубили избы, возводили храмы, сплавляли лес. Душевная бодрость после такой книги и – боль, что не защитили себя, а сожгли на вселенском костре: расплата за патриархальность, беспечность, наивность сознания. Конец печальный и безнадежный – смерть отца, хозяина, мастера, раба Божьего Сергея, а с ним и всего русского мира.
Нельзя жить умом и талантом одного человека, непрочное и зыбкое это удовольствие. А мы прожили так тысячу лет и ещё просим: «Дай, хозяин, разговеться, накинь гривенник для радости».
Естественное чувство гадливости у Щедрина к напирающим Колупаевым и Разуваевым; честного, культурного, бессребреника – к стяжателям, прохвостам, сластолюбцам. Во времена Щедрина они таились в складках крепостничества, спустя век – в щелях социализма, и когда рухнуло то и другое, вылезли на свет и плодятся, как клопы. Чем лучше чумазых коммерсантов чумазые учителя, журналисты, актеры, программисты, профессора, слесари и т. д.? Да хотя бы тем, что загнивают только сами, а владельцы капиталов пускают гниль в подвластную среду.
Опалённый, бьющий наотмашь Зубакин, раздавленный режимом: «Молчи, моё сердце, молчи, Мы сами свои палачи». Светоносная личность, разбрасывающая направо и налево брызги своего гения, нисколько не заботясь о славе. А что мы о нём знаем, кроме скупой публикации? И потому кормимся непристойными шоу и политическими скандалами. Уж насколько слащавой и навязчивой была советская масскультура, но там была хоть какая-то подделка под золото. В рыночном ширпотребе, кроме пошлости и бесстыдства, ничего нет.

Встреча новороссийских экскурсоводов с Ф. Монастырским, комиссаром 83-й бригады морской пехоты и малоземельцем, автором книги «Земля, омытая кровью». 1967
Солоухин: «Не знаю, чем объяснить, но посмотрите, сколько песен сложено в народе про Стеньку Разина, про его удаль и разбойничьи похождения, и нет ни одной народной песни про Пугачёва» («Камешки на ладони»). Объяснение простое: невежество или предвзятость писателя. Открыл бы любую хрестоматию и увидел: песен о Пугачёве – донских, волжских, уральских – не меньше. Как же иначе? Пол-России пошло за ним, «от Сибири до Москвы-матушки, от Кубани до муромских лесов».
Мельников-чародей, 4 тома и все безупречным русским языком. Конечно, возьми он другую тему, героев, обстановку – пришлось бы и языком поступиться. Ведь у Пушкина, Тургенева, Толстого язык европейский, и только у Мельникова, Шмелёва – это нетронутый заповедный материк. А идея вечная и грустная: раздельность божьего и мирского, служение тому и другому по их законам: согрешу и покаюсь.
Громада «Обломова» – вся жизнь, весь человек. Но интересней других женщины, так бы и назвал: «Две женщины». На одном полюсе Ольга, на противоположном – Агафья, насквозь земное существо, и выписана теплее и сочувственней, а в конце романа она поднимается выше Ольги. Та смотрит мимо мужчины, вдаль, где нет ничего, или хочет переделать спутника, поэтому любовь её скоротечна, несёт прикладной характер. Такие вечно любят свою мечту и самих себя. Агафья любит Обломова без притязаний, целиком и безоглядно, ничем не жертвуя, ничего не отбирая. На наших глазах совершается чудо: домашний талант хозяйки наполняется радостью любви и нежно обволакивает всё существо любимого человека. Эта женщина преображается, не ломая себя. А Ольга остаётся в зыбкой облачной стихии, где всё неразличимо и смутно, ей важно «не состариться» – детское заблуждение многих женщин и вообще людей. В погоне за новыми картинами, впечатлениями и прочими призраками они действительно «не старятся», а просто останавливаются в развитии. Одна полоса вытесняется другой, один человек – другим, одно увлечение – вторым, третьим: как вода из худого ведра постепенно понижает уровень. К концу жизни ничего не нажито, не усвоено, кроме последних кусков и эпизодов.
Что же такое обломовщина? Насмешка и торжество над сальной прозой жизни: добычливостью, подсиживанием, изворотливостью, хитростью, скопидомством… Это выход за круг ежедневной обрядности, полнота и величие олимпийского спокойствия, взгляд сверху на всё, что лежит дальше дивана. Многие ли способны свой халат поставить вровень со всеми приманками мира? Только разночинец, замордованный борьбой за кусок хлеба, может возненавидеть обломовщину, но он же и отдаст должное её самоценности, как оборотной стороне отупляющей гонки за успехом. Каждый в душе более или менее Обломов, но не каждый наденет его халат.
Странно было читать в письме Чехова такие строки: «…за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем? Его „Обломов“ совсем неважная штука. Сам Илья Ильич… не так уж крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяй, каких много… возводить его персону в общественный тип – это дань не по чину…» И такие же пренебрежительные отзывы об остальных типах. Чтобы не понимал, не чувствовал – не могу допустить: слишком значительный и умный художник. Тогда почему? Да потому, что ревновал, потому что Гончаров был предшественником, а Чехов шёл по его стопам. Половина чеховских героев – обломовы, скрытые или явные, «преждевременно утомлённые люди» вроде того же Иванова. В письме к Суворину он описывается именно как разновидность Обломова, «каких много» – массовость и есть главный признак «общественного типа», в то время как исключительность, своеобразие характерны для личностей. В «Обломове» спрятаны все чеховские пьесы с их отсутствием действия, бессобытийностью: лежит человек на диване, спит, ест и разговаривает; человек, который отказался от себя. Жизнь без цели и смысла, «драма самой жизни». Причём Гончаров, в отличие от Чехова, подал своего героя обнажённо-выпукло, заострённо, без подтекста и недоговорённости, так что последователь неосознанно подпал под обаяние старшего и пошёл дальше, открыл новые обломовские типы в новое время. Эту преемственность углядели и современники Чехова.



