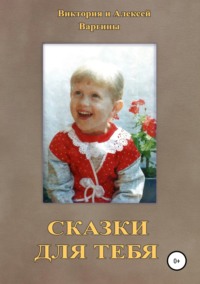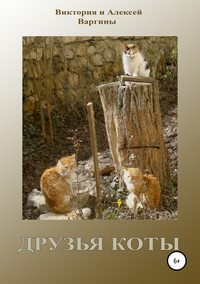полная версия
полная версияСолнечная тропа
– Угу, – кивнул писатель. – Ну а теперь, будь любезен, объясни, с какой целью ты пожаловал ко мне в такое время.
– Знаете, Лев Борисович, я сегодня был неправ, когда сказал, что у вас сказка плохая. Я потом думал-думал и понял, что она хорошая.
– Да-а? – писатель опустился в кресло. – Приятно это слышать. Даже не ожидал. И ты пришёл, чтобы мне об этом сказать?
– Ну да.
– Замечательно, – резюмировал Лев Борисович. – Я тебя понимаю. И очень ценю твой поступок. Хочешь, я принесу тебе конфет?
Лёнька поморщился:
– Не надо конфет, Лев Борисович, вы лучше дочитайте мне свою сказку.
– Сказку? Сейчас?
– А что?
– Ну, хорошо. Если моя сказка для тебя дороже конфет, дочитаю. Надеюсь, ты не станешь больше упрекать меня в наговорах?
– Не стану, – пообещал Лёнька.
– И утверждать, что домовые существуют взаправду?
– Нет, – Лёнька отвёл глаза в сторону. – Вы читайте, я буду молча слушать.
– Вот и отлично.
Писатель Мойдодыров порыскал в своих бумажных джунглях и нашёл давешнюю рукопись. Тут взгляд его нечаянно упал на лист с заглавием «Кикимора-бражница», и писатель отвлёкся.
– А я, Лёня, ещё одну сказку задумал. Там уже другой главный герой – кикимора. А домового уже нет. А может, ещё и будет, кто его знает. Я когда начинаю писать, совершенно не представляю, что у меня получится.
– Кикимора тоже будет злая? – полюбопытствовал Лёнька.
– Как ей и положено! И кроме того – бражница.
– Ладно, – Лёнька махнул рукой. – Читайте про домового, Лев Борисович.
– Тебе сначала?
– Нет, с того места, как он решил хозяев извести.
– Ну, слушай.
Лев Борисович откинулся в кресле, рождающем умные мысли, и принялся читать:
– Вскоре задумал домовой своих хозяев из дому выжить и самому в нём остаться. Стал он по ночам хозяев пугать. То начнет выть, то мяукать, как кошка, то по чердаку…
Писатель не успел закончить эту фразу, как внизу неожиданно и громко хлопнула дверь.
Лев Борисович вздрогнул, как тогда, увидев Лёньку за окном.
– Что это? – с беспокойством спросил он. – Я ведь запирал все двери.
Лёнька пожал плечами.
– Или не запирал? – засомневался Лев Борисович. – Наверное, хотел, но не запер… Ладно, закрою, когда ты уйдёшь.
– Читайте, Лев Борисович, – поторопил Лёнька. – Такая интересная сказка…
– Ну, да, да… Значит, по чердаку ходить. А потом и вовсе стал хозяев душить. Только те заснут, он уже тут как тут…
«Скрип», – раздалось на лестнице, ведущей в мезонин.
Писатель Мойдодыров побледнел и уставился на Лёньку.
– Слышишь?
– Что?
– Там кто-то есть… Кто-то идёт по лестнице!..
– Кто же там может быть? – хладнокровно ответил Лёнька. – Вам показалось, Лев Борисович. Читайте лучше сказку.
– Показалось? – плаксиво переспросил Мойдодыров, косясь на дверь в комнату. – Пожалуй… Знаешь, Лёня, у меня что-то нервы расшалились. Давай отложим эту сказку…
– Нет, Лев Борисович, – не отступал Лёнька. – Вы обещали, читайте!
– Он уж тут как тут, – неуверенно проговорил Мойдодыров. – Прыгнет на грудь и давай душить. Душит и приговаривает…
«Скрип… Скрип…» – отчётливо пропели ступени на лестнице.
– А-а! – не выдержал писатель и выронил рукопись. – Неужели и сейчас не слышишь?!
– Нет.
– Господи, что же это?.. – простонал Мойдодыров, затравленно глядя на дверь.
Лёнька поднял рукопись и сунул писателю в трясущиеся руки.
– Мерещится вам какая-то чепуха. А ещё страшные сказки сочиняете, – пристыдил он.
– Нет! Я не стану больше читать!.. – запротестовал Мойдодыров. – Сейчас эта дверь откроется…
– Чего вы боитесь? – напирал Лёнька. – Может быть, домового? Или свою кикимору… эту, как её… бражницу? Читайте!
Взгляд у Мойдодырова был совсем помутившийся, и Лёньке стало жаль его. Он не предполагал, что писатель так сильно испугается. По мнению мальчика, с Мойдодырова было достаточно. Однако он знал, что Кадило не остановится на полпути и разыграет свой спектакль до конца. Придуманная Мойдодыровым страшная сказка уже ожила.
Лёнька вздохнул:
– Читайте, Лев Борисович. Что там у вас приговаривает домовой?
– А?.. Приговаривает? Уходите из этого дома, если вам жизнь дорога!..
Мойдодыров выкрикнул эту фразу, уже будучи вне себя, и увидел, как дверь в комнату начала медленно открываться.
По мере того как она тихо отворялась, писатель Мойдодыров вжимался в кресло, ожидая увидеть самое страшное. Дверь открылась совсем… и за нею Лев Борисович не увидел никого. Несколько секунд писатель Мойдодыров исступлённо смотрел в тёмный проём, а затем повернул к Лёньке совершенно белое лицо.
– Никого… – сдавленным голосом проговорил он. – А я уже подумал бог знает что… Это, наверное, сквозняк…
– Как бы не так! – раздался над головой писателя чужой резкий голос.
Мойдодыров дёрнулся в кресле, и его лицо исказилось от ужаса.
– Что это? – задохнулся он.
– А ты не догадываешься? – зловеще спросил всё тот же голос. – А ещё сказочник!
– А ещё портрет свой повесил! – как гром с ясного неба прозвучал другой невидимый голос – звонкий и дерзкий.
Первый голос хохотнул, и вслед за этим настенный портрет Мойдодырова снялся с гвоздя, проплыл по воздуху и встал на пол лицом к стене.
– Вот так-то лучше! – удовлетворённо сказал первый голос. – Ишь, повесил себя, как будто он Пушкин!
– А может, лучше в окошко его? – прозвенел второй голос.
– Рамку жалко, – возразил первый. – Хорошая рамка, настоящая. А ты не смей этого больше на стену вешать! – назидательно сказал он Мойдодырову. – Ты ещё до такой чести не дорос.
Писатель, изнемогая от страха, смотрел на творящуюся чертовщину и едва понимал, о чём говорили страшные, неведомые голоса.
– Значит, про домовых сказки сочиняешь? – снова обратился к нему первый голос. – А зачем?
Писатель Мойдодыров хотел было ответить, но лишь что-то невнятно промычал.
– Смотри, он нас боится! – торжествовал второй голос. – Может, нам его подушить маленько? Чтобы в чувство пришёл?
– Можно и подушить, – угрожающе проговорил первый голос, и тут писатель Мойдодыров наконец-то обрёл дар речи.
– Не надо!.. – закричал он и забился, как пойманная рыба.
– Ага-а! Развязался язык! Тогда говори, зачем пасквили пишешь?
– Я не писал! – отчаянно крикнул Мойдодыров.
– Врёшь! – опять сурово прогремел первый голос. – А про домового что ты наплёл?
Чья-то невидимая рука взяла злосчастную рукопись, пролистала её и с презрением швырнула на стол.
– А «Кикимора-бражница» – это что? – допрашивал незримый голос.
Писатель Мойдодыров готов был заплакать.
– Скажите, кто вы такие?.. – взмолился он.
– А ты так и не понял? – в тон писателю промямлил главный голос. – Спроси вон у Лёньки.
Писатель посмотрел на мальчика безумными глазами.
– Лёня, ты их видишь? – с содроганием спросил он.
– Вижу, – ответил тот.
– А почему я не вижу?…
– Скажи спасибо, что не видишь, – насмешливо посоветовал первый голос. – А то бы душа из тебя вон вылетела. Ну, что с ним делать будем?
– Пускай конфет принесёт! – ответил дерзкий голос. – У него конфеты есть.
– Неси конфеты, сказочник! – распорядился первый голос. – Потом придумаем, как с тобой быть.
Мойдодыров встал и вышел из комнаты какою-то несвойственной ему подпрыгивающей походкой.
– Кадило, не пугай его больше, – сказал Лёнька довольному домовому.
Кадило вопросительно посмотрел на мальчика.
– Тебе его что, жалко?
– Жалко, – ответил Лёнька. – Разве ты не видишь, как он боится?
– И поделом ему! А зачем мы сюда пришли?
– Хватит, Кадило, он больше не будет.
– Конечно, не будет, – вступился Панамка. – Он вообще ничего, за конфетами сразу пошёл…
Кадило свысока поглядел на Панамку.
– С вами только лягушек пугать, – пренебрежительно сказал он. – Ну, как хотите.
Вернулся писатель Мойдодыров с коробкой шоколадных конфет. Он снял крышку и, не зная, как предложить угощение невидимым гостям, неловко положил коробку на стол.
– Кушайте на здоровье, – робко пожелал он.
– Вот это другое дело! – обрадовался звонкий голос, и сразу же одна конфета выпрыгнула из коробки и бесследно исчезла в воздухе.
Писатель Мойдодыров проводил её круглыми глазами, в которых Лёньке даже почудилось восхищение.
– Что, нравится? – спросил заметно подобревший первый голос. – Смотри, пока мы ещё здесь. Не каждому так везёт. Лёнька, а ты чего не угощаешься? Писатель на всех принёс, верно?
Мойдодыров автоматически закивал, не отводя глаз от волшебного полёта конфет.
– Слушай, – причмокивая, продолжал первый голос. – Ведь ты не такой уж плохой мужик. Не жадный… Только многого не понимаешь. Не понимаешь, а пишешь! – голос опять осерчал, и писатель испуганно съёжился. – А если ты чего не знаешь, зачем строчить? Пиши про свой город, а в нашу жизнь не суйся. Понял?
– Понял, – кротко отвечал Мойдодыров. – Я ведь не хотел никого обидеть… Больше не стану писать, слово литератора!
– То-то, литератора. Ты же для детей пишешь, а зачем их пугать напрасно? Вот они сами разберутся, что к чему, и скажут: «Чушь собачью этот Мойдодыров пишет. Не нужен нам такой писатель!» Что тогда?
Пристыженный Мойдодыров не оправдывался. Между тем конфетная коробка быстро опустела.
– Ладно, – порешил совсем уже довольный голос. – Засиделись мы у тебя, да уж больно ты гостеприимный. Хоромы твои посмотрели, богато живёшь. Тебе в этих хоромах только домового не хватает.
– Да пусть он лишь позовёт! – озорно подхватил другой голос. – Отбою не будет от желающих!
Писатель Мойдодыров с болезненным выражением на лице слушал этот диалог.
– Нет, – сокрушённо вздохнул первый голос, – не станет он никого к себе звать. Тёмный он ещё, суеверный. Пускай развивается, а там поглядим. Ну, спи спокойно, сказочник! Да впредь бумагу не марай. А это… – рукопись про домового зашуршала, повиснув в воздухе, – это тебе всё одно не понадобится!
В следующий миг окно в комнату распахнулось, и рукопись, как стая белых голубков, вылетела на волю в ночной сад.
Писатель, казалось, без сожаления отнёсся к последней выходке своих гостей. Не замечалось в нём больше и страха. Лицо Мойдодырова было одновременно сосредоточенным и отрешённым. С этим нетипичным для него выражением Лев Борисович слушал, как скрипят ступени на лестнице и прощально хлопает входная дверь. Однако он не пошевелился.
Лёнька знал, что домовые ждут его во дворе, но отчего-то не решался оставить писателя.
– Лев Борисович, – несмело позвал он.
– Что?.. – очнулся писатель. – Ах, Лёня, это ты… Знаешь, Лёня, иди домой. Уже очень поздно.
Лёнька не узнавал Мойдодырова, таким усталым и измученным выглядел писатель.
– Лев Борисович, простите, пожалуйста, – сказал мальчик.
– О чём ты? – рассеянно спросил тот, глядя куда-то мимо Лёньки. – Ступай, мы с тобой завтра поговорим.
– До свидания, – одними губами промолвил Лёнька и тихо вышел из комнаты.
Кадило и Панамка поджидали его в самом весёлом расположении духа.
– Ну что, очухался литератор? – беззлобно спросил Кадило, когда Лёнька подошёл к воротам. – Или он теперь до утра будет зубами стучать?
– Не будет, – ответил Лёнька, отпирая щеколду и выходя с домовыми на улицу.
– Эх, жалость, так ведь и не узнали, как мужик домового перехитрил! – и Кадило расхохотался.
Панамка тоже прыснул.
– Пойдём к нашим, расскажем? – засматривая в глаза Кадилу, предложил он.
– Вот ещё! Побегу я докладывать, – заартачился тот. – Иди, если хочешь.
– А ты?
– А я с Лёнькой гулять буду.
– Мне, пожалуй, домой надо, – вспомнил Лёнька. – А то бабушка опять проснётся…
– Не проснётся! – ответил Кадило с такой убеждённостью, что мальчик вмиг успокоился. – А может, ты сам спать хочешь?
– Я не хочу, – поспешил ответить Лёнька. – Только… куда же мы пойдём?
Глубокая ночь хозяйничала в Песках, где одни уже давно спали, а другие, те, кто бодрствовал в это время, старались до рассвета управиться со своими делами: полетать, поохотиться, поквакать и поцвести. Но что было делать в эту пору Лёньке?
– А ко мне в гости пойдём! – нашёлся Кадило. – Дом мой вот, далеко ходить не нужно.
Дом бабки Долетовой темнел по другую сторону улицы, выделяясь на блёклом фоне серого, как будто туманного неба.
– Пойдём туда? – спросил Лёнька.
– А чего! – встрянул Панамка, планы которого, похоже, изменились. – Конечно, пойдём, раз Кадило зовёт.
Кадило хмыкнул и, кивнув Лёньке, двинулся через улицу. Панамка потрусил за ними.
– Здорово этот писатель живёт, а? – спросил он, поглядывая на Кадило. – А уж в городе-то, поди, чего у него нет!
– А тебе-то что? – с прохладцей отвечал Кадило. – Тебе вообще сладкого нельзя.
– Это почему? – Панамка даже остановился.
– Избалуешься быстро! Сегодня – конфеты, завтра мороженого захочется, а послезавтра тебе торт со свечками подавай.
– Не надо мне никаких свечек, – напыжился домовёнок. – Тебе хорошо говорить: живёшь у своей бабки, каждый день ватрушки трескаешь. А я что, всю жизнь в пустом магазине жить должен?
– А ты не живи, – парировал Кадило. – Возьми и переберись к сказочнику, ты же теперь считай друг ему. А ещё лучше – поезжай-ка с ним в город. Он там, чай, не в общей квартире ютится. Сказочник – это тебе не Васька Попругин.
Панамка взволнованно засопел. Он не мог понять, шутит ли по своему обыкновению Кадило или говорит серьёзно.
Они подошли к крылечку бабки Долетовой. Дверь в дом охранял амбарный замок, и Лёнька остановился у крыльца.
– Здесь тебе с нами не зайти, – сказал ему Кадило. – Обойди дом, там другая дверь. Я её изнутри открою.
Лёнька послушно затопал к другой двери, но вдруг резко остановился и обернулся – Кадила и Панамки на крылечке уже не было.
БАБКА ДОЛЕТОВА
Дом бабки Долетовой разделялся на две половины – холодную и тёплую.
– Изба большая, – говорил Кадило, ставший вдруг очень степенным и домовитым, – всю отапливать накладно. Зимой, как ни крути, тесновато приходилось, зато летом жили по-барски: тута ещё всяких чуланчиков и подчуланчиков полно. А нынче моей бабке и тёплая изба велика, как дети-то по свету разъехались.
– А отчего разъехались? А что у вас в холодной? – сыпал вопросами Панамка.
Едва ли не впервые бездомный хохлик оказался в человеческом жилище и с жадностью набирался впечатлений.
– В холодной? Старьё разное за восемьдесят лет… И ещё кое-что, – Кадило помолчал. – Там у моей бабки тайник для предметов культа. Хотите поглядеть?
– Хотим! – за двоих ответил Панамка, которому всё было одинаково интересно.
Дверь в холодную была заперта аж на два замка – внутренний и навесной. Невесть откуда Кадило извлёк нужные ключи и при этом обронил непонятное:
– От нас не утаишь, нас не обманешь…
Все три больших окна в холодной половине были плотно завешены мешковиной и, судя по всему, не прозревали давным-давно. Внутри холодная скрывала несметное количество «старья», чем напомнила Леньке бабушкин чердак. Но множество икон, обветшалых книг в старинных переплётах, всевозможной церковной утвари придавало помещению такой несуразный вид и вызывало такие противоречивые ощущения, что сразу было ясно: холодная изба бабки Долетовой – единственная в своём роде.
– У-у-у, сколько икон! – прогудел Лёнька. Прежде он встречал столько лишь в музее.
– А зачем ей так много? И где она их взяла? – затараторил Панамка.
– Это со всех окрестных деревень добро, – ответил Кадило. – Как кто в город на жительство уезжает, так всё это бабке моей и тащит.
– Почему?
– Потому, что Катерина Долетова в нашем многогрешном краю первая в церкви прихожанка, чуть не святая – такую славу заимела.
– Как Егор Сеничев? – подсказал Лёнька, но Кадило скривился, словно от оскомины.
– Вот сравнил: один в небо кличет, а другой в землю тычет.
Мальчик окончательно запутался в характеристиках бабки Долетовой и беспомощно смотрел на Кадилу. Панамка наконец тоже замолчал и только без устали стрелял по сторонам глазами.
Кадило призадумался. Как настоящий хозяин дома он обязан был отвечать на вопросы гостей. В данном случае отвечать было не шибко приятно, однако что поделаешь… Лёнька всё-таки свой, уже много знает о Песках. Ну, пусть узнает ещё о бабке Долетовой. Если Кадило и проглядел что-то в жизни бабы Кати, не сумел что-то исправить – то, по крайней мере, он старался это сделать и не его вина, что все получилось не так, как хочется…
– Что, ознакомились с экспозицией? – отгоняя мрачные мысли, спросил Кадило. – Пошли теперь в тёплую избу, на действующие экспонаты посмотрим.
И в горнице бабки Долетовой первым делом бросались в глаза иконы на стенах и целый иконостас в углу. Перед ним темнела незажжённая лампадка. Рядом на полочке, завёрнутые в салфетку, лежали свечки, стояла бутылка с маслом для лампады. Ещё одну полку занимали книги – судя по названиям на корешках, божественные.
Железная бабкина кровать была заправлена как по линеечке и смахивала на белое изваяние у стены. И вообще всё у Долетовой в комнате было белое: скатерть на столе, занавески на окнах, чисто выбеленная печь. Лёнька, научившийся у домовых видеть в темноте, с немалым удивлением заметил, что в комнате нет ни фотографий, ни зеркал, никаких излюбленных деревенских украшений. Несколько подавленный этой белой пустотой, мальчик пытался представить, какая же в действительности бабка Долетова, но образ её никак не складывался…
– Какая хозяйка моя? – переспросил Кадило. – Да на вид бабка как бабка, ничем особым свыше не отмечена. Её, Лёнька, хорошо узнать надо, чтобы понять, какой это божий подарочек. Она ведь не всегда такой ретивой до веры была… Лет пятнадцать назад моя бабка в убеждённых атеистках ходила и всех древних старушонок, которые ещё в прошлом веке выросли, против Бога агитировала.
– Как это так? – спросил Лёнька.
– Я и сам не понимаю! – с чувством ответил Кадило. – Вот слушай, я тебе её биографию обрисую.
Мужа с войны Катерина не дождалась, одна подняла четверых детей. Работала на ферме, как и бабушка твоя, до работы была злая, как будто пружина в ней какая-то сидела. Всех хотела за пояс заткнуть. Окончила техникум заочно, в заведующие фермой выбилась. Активистка была такая, что аж страшно за неё становилось… На всех собраниях и слётах до хрипоты выступала. Даже чуть в партию не вступила, но тут как раз на пенсию вышла, а в пенсионерах партия почему-то не нуждается.
Тогда и заговорили в Песках: всё, потухла Екатерина Долетова, завершилась её ударная трудовая вахта. И сама она вначале приуныла: «Ой, дура я, дура набитая!.. Нет бы раньше в коммунисты податься, теперь бы по партийной линии бес меня кто из заведующих снял». С самой-то фермы, заметь, никто её не увольнял, хочешь – иди опять в доярки. Но разве ж Долетова после своего командирства пойдёт к бурёнкам в стойло?
И вот затаилась баба Катя, исчезла на время с глаз людских. А потом взяла и повесила в избе икону. Никто этому значения не придал, а Долетова в церковь стала наведываться, Библию почитывать… Так её ослабевшая пружина в другую сторону закручиваться начала. И только тогда народ дружно рты поразевал, когда Долетова во весь голос о Боге возопила.
Если бы она взялась самогонку гнать и из-под полы продавать, в Песках и то бы меньше удивились. А тут никто понять не может, как из Долетовой в одночасье такая ревностная богомолка получилась. Самые сердобольные жалели бабу Катю: «Не иначе от горя она помрачилась, ведь сколько лет на ферме проработала, одной работой жила, а тут – пенсия! Глядите, ещё в монастырь уйдёт наша Катерина!» Другие злословили: «Никуда эта сума перемётная не уйдёт: чай, в монастыре жить – это не в президиуме юбку протирать!»
А баба Катя будто и не слышит никого, каждый день в райцентр в церковь мотается, икон себе в дом понатащила, книжек… И один за другим замолчали люди, ну а что сделаешь? Была атеистка, стала верующая – в жизни, может, ещё и не то бывает. А закон в Бога верить не запрещает.
И вот как свыклись все с бабкиной переориентацией, как поутихла о ней молва, она и поняла, что пришло время действовать. Ведь если только молиться потихоньку, кто ж тебя заметит? А Долетовой слава нужна, она всю жизнь за неё боролась. И стала баба Катя возвращаться к активной общественной жизни, только под другими лозунгами. Раньше она когда с трибуны кого-то клеймила, то непременно с позиций марксизма-ленинизма, а теперь от имени Бога заговорила. И сама была вездесущая и всеведущая, знала про каждого всё – до последнего слова, до последнего шага. Стали Долетову в Песках не шутя побаиваться, а те, кто посмеялся над ней когда-то, сто раз об этом пожалели. И как не испугаешься, если за всякую ерунду Долетова над тобой принародно божий суд устраивает, а у самой глаза стеклянные, на губах пена… Тут и не веришь ни во что – перекрестишься, если она недалече рыщет. В общем, Лёнька, у нас в округе самого Бога меньше боятся, чем эту приходскую чуму.
– И моя бабушка боится?
– Нет, бабушка мою неистовую не больно жалует, а вот над Пелагеей Долетова заимела власть. Пелагея ей в рот смотрит, поддакивает, помогает грешникам косточки перемывать. Акимыч однажды их благочестивую беседу услыхал и говорит: «Тебе бы, Николаевна, не в церкви службы простаивать, а в газете работать». – «Это почему ж так?» – «А потому, что бичевать да ярлыки вешать – оно как раз журналистское занятие, не христианское. Или не в Библии написано: не суди, да не судим будешь?»
Лучше бы он этого не говорил. Долетова вскочила, захватила побольше воздуху да как зайдётся криком! Ох, досталось тогда деду Фёдору, как ни от кого в жизни не доставалось. И Пелагея свою долю заодно получила, до смерти перепугалась. Кормишины тогда в дом убежали, а Долетова ещё час под их окнами стояла, божий глас в ней не умолкал.
Правда, Пелагею она скоро простила, куда ей без Пелагеи – в Песках у неё одна поддержка осталась. Не то что в других деревнях. Долетова и то говорит: «Надоть мне в Раменье перебираться, поближе к святой церкви…» Оно понятно: что ей Пески, кого здесь вразумлять-наставлять?..
– Так ты что, в Раменье переселишься? – спросил Панамка, до того прилежно слушавший Кадилу.
– Не знаю, – угрюмо ответил тот. – Не хочу я никуда с ней переселяться, устал я от неё. Если бы этот дом купил кто-нибудь, я бы здесь остался. Да кто ж его купит, кроме дачников? Приедет сюда какой-нибудь… Мойдодыров!..
– Да-а, – пригорюнился Панамка, – не поймёшь, чего лучше…
– Кадило, бабка Долетова с Акимычем навсегда поссорились? – вернулся Лёнька к тому, что его интересовало.
– Ну как поссорились… Моя бабка его безнадёжным сочла, в плане религиозного воспитания. Это уже после другой стычки случилось, в пост. Тогда, видишь ли, полагается по христианскому обычаю сидеть впроголодь, и для Долетовой самое распрекрасное времечко настаёт. Бегает этот попадьи старый ботинок по всему околотку и всяко народ честной пужает: мясо есть грех, яйца – тоже ни-ни, молоко – боже упаси! Ну, люди и остерегаются есть это всё при Долетовой, кому лишний шум нужен? А Пелагее тогда достаётся всех больше: Кормишины-то рядом, баба Катя десять раз на дню залетит покрутить носом – как тут её предостережения выполняются? И что странно: ни во что-то Кузьминична не верит и свечку в церкви ни разу не поставила, а на тебе – начинает от моей святоши таиться, запираться, оглядываться…
Однажды застала их Долетова в пост за мясными щами. Пелагея свою миску успела под стол сунуть, а дед не захотел, принял огонь на себя. Ты, говорит, Николаевна, образцово-показательная християнка, вот и постись себе на здоровье. А я, может, мусульманин. Как там у мусульман, нету ещё поста? Они вона баранов по штуке на брата за один присест съедают, а я всего-то крошку мяса по тарелке гоняю. Ой, не лишку ли я праведный?
На такое богохульство моя бабка даже слов в ответ не нашла. Посмотрела на деда как на прокажённого и – в двери. С тех пор считает Акимыча совсем пропащим.
Она и бабушку твою, Лёнька, пыталась на путь истинный наставить:
– Что это ты, Тонь, в воскресенье – и работаешь, грех ведь большой. А вот Бог накажет!
Да бабушка твоя не сплоховала:
– Это за что ж он меня накажет? Что работаю всю жизнь не разгибаясь, за это, что ль? Да неужто на лавочке сидеть и семечки от скуки лузгать – это Богу угоднее?
– А ты не семечки, не семечки, ты в церковь съезди, помолись. Вот и не будет скуки, вот и будет умиротворение, в сердце лёгкость…
– И на что мне за этим в Синий Бор тащиться? – говорит Антонина Ивановна. – Работаю я с утра до вечера – вот она, моя молитва, и есть. И умиротворение тут тебе, и лёгкость в сердце. И не тянет никого обсуждать да учить. Может, и тебе, Катюша, лучше коровёнку завести, хряка?..