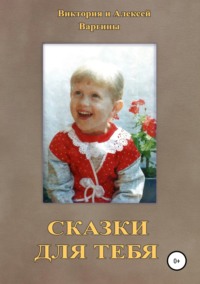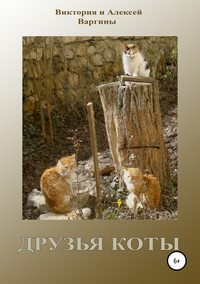полная версия
полная версияСолнечная тропа
Вскинула Долетова гордо голову и пошла восвояси. Нет, не празднуют её нынче в Песках, не дождаться ей почитания… А мне, видно, не миновать новоселья…
– Кадило, а зачем ей старые иконы несут? – поинтересовался Панамка.
– Несут, потому что в город никто их не берёт, а бросить – страшно, грех всё-таки. Баба Катя же любому случаю рада, чтоб свою набожность показать. Видели бы вы, как она эти дары принимает! И целует их, и по избе мечется, и слезу пустить не забудет. А уж кресты выписывает – как рука не оторвётся! А ты спрашиваешь, зачем ей столько? Да если она откажется брать – это уже не Долетова будет. Ведь это праздник для неё, когда иконы несут. Ей несут, не кому-нибудь!
– Но она же не бережёт ничего! – запальчиво возразил Лёнька. – И вообще как будто не заглядывает туда.
– Ну, чтоб очередную «добычу» бросить, наведывается. А гости за порог – икона в мусорок!
– И никто ни о чём не догадывается?
– А как тут догадаешься? – спросил в ответ домовой. – Видали два замка? Эта мышь церковная и третий повесит, лишь бы всё шито-крыто было. Из людей, Лёнька, ты первый это безобразие увидел… И после каждого приношения бабка моя скорбящая к Пелагее забегает. Ох, плачется, опять несчастье, ой не деревню оставляют – божий храм покидают люди! Слово за слово, глядишь – и уже костерят отъезжающих разовсю. Всё припомнят: и как те женились глупо, и как жили непутёво, и корова не доенная у них сутками орала, и родительская могила бурьяном поросла… Про иконы уже и не вспоминают, до икон ли! Так и растёт эта свалка…
– Кадило, там кто-то ходит! – вдруг отпрянул Лёнька от двери. За ней он явственно различил чьи-то мягкие крадущиеся шаги.
– Это Васька, наш кот, – успокоил его домовой.
– Тот рыжий?
– Тот, тот, шельмец…
– Почему шельмец?
– А хитрый, нахальный… Кусок стянуть из-под носа для него раз плюнуть. Я-то ему спуску не даю, а бабка балует, холит. Васька у неё в любимцах. С Васькой она откровенничать любит, может целый вечер проговорить.
– Кадило, – сказал Панамка, которого давно мучил один вопрос, – если твоя бабка такая, почему ты её не поучишь, как нынче писателя?
– Учил уже, – после долгой паузы ответил Кадило. – Да хотел масла, а получилась брынза.
– Чего у тебя получилось?
– Ничего не получилось! – внезапно озлился доможил, и Панамка испуганно прижал уши.
– Ты думаешь, я всю жизнь Кадилом прозываюсь? Как бы не так! Раньше меня Озорным звали. И вот этот самый Озорной как-то раз не вытерпел да и решил Долетову проучить.
Нашёл я в бабкиной коллекции кадило. Уж как оно там очутилось, даже я не знаю, – кадилу-то место только в церкви. С виду оно как металлический кубок, наверху крышечка, внизу дырочки… В нём во время службы зажигают ладан, и ладан дымит, а священник ходит по храму и кадит. Увидел я это кадило и думаю: ну, я не я буду, если не повыкуриваю из своей бабки всех бесов!
И хоть нельзя нам к таким вещам прикасаться, да уж очень захотелось образумить Долетову. Раздобыл я, себе на горе, ладана и однажды вечером запалил кадило. Баба Катя как раз душу перед Васькой изливала – момент самый что ни на есть подходящий.
…Вдруг в горнице церковью запахло. Бабка на полуслове запнулась, оборачивается – а в воздухе кадило на цепочке из стороны в сторону качается, и дым благовонный по всей избе.
– О господи!..
Долетова как сидела перед Васькой, так и упала на него. Васька ну орать и из-под бабки выцарапываться! А Долетова его с перепугу давит, никак отпустить не может. Я голос понизил и сурово так спрашиваю:
– Праведно ли живёшь, раба божья? Верно ли Бога почитаешь?
Тут Васька вырвался на свободу, прыг на стенку, потом через бабку перемахнул – и под кровать.
– Катерина, отвечай! – приказываю я, чтоб не захохотать. – Не обманываешь ли ближних, не лукавишь ли перед собой?
И вижу – бабка моя с кровати-то сползает и туда ж, куда Васька, норовит втиснуться, а отвечать и не собирается, совсем ополоумела. Когда она в подзоре запуталась, я чуть кадило не выронил. Эх, знал бы, чем всё обернётся, сказал бы прямым текстом: иди, старая плутовка, и наведи первым делом порядок в холодной избе. И нечего людям голову морочить.
Но что сделано, то сделано!.. Не вняла баба Катя моим нравоучениям, всё по-своему повернула. Выпуталась кое-как, вскочила на ноги и бегом из избы!
Все семьи тогда в Песках обежала. Растрёпанная, глаза навыкате, сама беспрестанно крестится:
– Что было, что было сейчас! Знамение мне божье было! Сижу я дома, молюсь себе тихонечко, вдруг – чудо: передо мной рука невидимая кадилом размахивает, а из кадила – дым, дым, дым!.. И голос слышу архангела Михаила: «Встань с колен, раба божья, ибо настал час твоей славы! За своё усердие и кротость сподобилась ты, Екатерина. Отныне и навеки с тобой божья благодать».
Ну и всё в таком духе. Переночевала Долетова в ту ночь у Ветровых, жили здесь через два дома от Кормишиных. Переночевала под предлогом, что не несут её от волнения ноженьки. Зато с утра понесли её эти ноженьки по всем ближним и дальним деревням. В Харине бабка рассказывала, что этот самый архангел самолично ей представился, пожал руку и благословил.
В Воронине уже Пресвятая Дева её благословляла и хвалила за благочестие, а в Глинищах баба Катя открыла народу, как с самим Иисусом Христом беседовала и великое откровение от него получила.
Словом, неделю дома не появлялась. За это время наши и окрестили меня Кадилом. Да и поделом мне! А впрочем, – домовой подмигнул Лёньке, – чем это имя хуже прежнего?
– И ты её больше не пугал? – спросил мальчик.
– А зачем? – как-то отстранённо ответил Кадило. – Можно было, конечно, ей и Михаила ещё представить, и кающуюся Магдалину, и самого Люцифера впридачу. Только зря всё это, её ничем не проймёшь. Видишь теперь, – с кривой усмешкой сказал он Панамке, – какие я каждый день ватрушки трескаю!.. Ну а ты, Лёнька, не засыпаешь ещё?
– Нет, – рассеянно ответил мальчик, – но знаешь, Кадило, мне, наверное, домой пора…
– Идите, – отпустил домовой. – Может, проводить тебя, Лёнька?
– Нет, я знаю, куда идти. До свидания, Кадило.
…Лёнька и Панамка вышли на улицу и почувствовали ободряющую прохладу, наконец-то она коснулась разгорячённой, ненадолго уснувшей земли. До рассвета оставалось ещё, должно быть, больше часа… Никаких видимых знаков его приближения пока не замечалось, однако ночь сделалась тихой, такой тихой, как будто в ней исчезло всякое движение. Когда где-то поблизости резким голосом вскрикнула сонная птица, Лёнька и Панамка в испуге прижались друг к другу.
– Лёнька, – смущённо отстраняясь, сказал домовёнок, – я хотел у тебя кое-что спросить…
– Давай! – с радостью ответил мальчик.
С того времени, как он увидел Панамку в домике Егора Сеничева, Лёнька очень хотел остаться с ним вдвоём, поговорить по душам, поиграть. При всей своей привязанности к Хлопотуше и дружбе с другими домовыми, Лёньку сильнее всего тянуло к этому маленькому, любопытному и неунывающему существу.
Панамка явно робел, не осмеливаясь заговорить.
– Ну, чего ты? – ласково подтолкнул его Лёнька. – Не бойся, спрашивай что хочешь.
– Скажи, в городе хорошо жить? – и Панамка вытянул шею, ожидая ответа.
– Хорошо. Но в Песках лучше.
– Да, наверное… Только я хотел про город разузнать. Вот Куличик из Харина не сумел там прожить… Это из-за соседей?
– Наверное…
– Послушай, а у писателя правда соседей нету?
– Нету, у него только жена. А зачем тебе это?
Панамка быстро оглянулся и, собравшись с духом, сказал:
– Хочу к нему в город на жительство переехать! Ты только не говори никому!.. – вдруг с опаской прибавил он.
– А чего ты боишься? Что тут такого? Я-то вот живу в городе.
– Ты – другое дело, ты же человек. А вот чтоб домовой в городе прижился, я такого не слышал. Я потому и спрашиваю, как там. Ведь если получится, как с Куличиком, то в Пески мне обратной дороги не будет – засмеют. Значит, опять мне скитаться…
– А ты что, скитался? – спросил Лёнька и почувствовал, как это слово отозвалось в сердце лёгким холодком.
– Скитался… – ответил домовёнок каким-то чужим, бесцветным голосом.
– Слушай, Панамка! – воскликнул Лёнька, ощущая растущую внутри тревогу. – А где твои родители? Или у вас нет родителей, у вас всё по-другому?
– Нет, не по-другому, – промолвил Панамка с какой-то незнакомой Лёньке надрывной ноткой в голосе. – И отец, и мать у меня были… Но когда я родился, дом наш старый сломали. Я даже не запомнил, что это был за дом, что за хозяева. Остались мы без угла… И потом ещё несколько лет скитались, это я уже помню. Из деревни в деревню переходили, а так ничего себе и не нашли. Ведь сейчас всюду такое – деревни пустеют, люди в город бегут…
– А где сейчас родители?
– Умерли, – промолвил Панамка, словно выронил тяжёлый камень в неподвижную воду.
– Умерли!.. – как что-то невероятное повторил Лёнька.
Он смотрел на Панамку и не мог связать свои представления о нём с этим страшным словом.
– Понимаешь, домовые не могут долго жить без дома, – помолчав, сказал Панамка, – без дома они заболевают. Правда, не так, как люди, у домовых ведь ничего не болит… Они начинают как бы таять, понимаешь? Ну, как снег тает понемногу весной…
– Снег?.. – прошептал Лёнька, чувствуя, как горячие капли неудержимо текут по его щекам.
– Ну, не совсем как снег… Им всё труднее становится проявлять себя в этом мире. Мы ведь из другого мира, понимаешь? А здесь живём, пока мы здесь нужны. Ведь домовой поставлен при доме, а если дома нет – зачем он? Тогда мы начинаем терять силу, нам становится трудно ходить, говорить… А потом приходит день, когда мы уже не можем сохранить своё тело в этом мире. Тогда мы уходим отсюда…
– Уходите? Куда?
– Не знаю… Родители мне говорили, что, когда домовые уходят, они возвращаются на родину.
– А родина это та гора, откуда их унёс Светоносец, да?
– Не знаю, – повторил Панамка, и было видно, что он действительно не знает.
– Ну а потом, – осторожно спросил Лёнька, – потом что было?
– Перед тем, как уйти, они мне велели искать себе дом. Сказали: если очень постараешься – найдёшь. И я стал один искать. Ходил по разным деревням, очень много деревень прошёл. И нигде мне не повезло. Я и в сёла, и в посёлки хаживал, да там ещё хуже, ещё больше бездомных домовых, чем в глуши. Я два года так искал, пока не попал в Пески… А тут здешние домовые меня приветили, и я остался…
– Панамка, а почему у домовых детей так мало? В Песках ты один всего. Почему у Хлопотуши ни жены нет, ни домовят?
– Да ты сам подумай, что было бы, если бы домовята рождались, как человеческие дети, – по-взрослому ответил Панамка. – Ведь даже тем, кто давно родился, и то жить негде. Я вот про город и спрашиваю: живут же там люди, почему тогда домовые в город не идут? Куличик один попробовал, да и вернулся ни с чем. И мои родители – сколько бедствовали, потом и насовсем ушли, а про город никаких разговоров у них не было. Как будто и нету никакого города… Ты не сердись, Лёнька, что я тебя так выспрашиваю, – будто прося прощения, сказал домовёнок, – маленький ещё я, глупый…
Лёнька хотел было возразить, что Панамка вовсе не маленький и глупый, а очень умный, совсем большой домовой, но понимал, что тот ожидает от него иного.
– Знаешь, Панамка, – сказал он, – ты съезди с писателем в город и сам посмотри, как там у него. Понравится – останешься, не понравится – сюда вернёшься. Почему тебе вернуться нельзя?
– Засмеют, – обречённо сказал Панамка. – Кадило засмеёт. Ему такие подарочки только подавай. Если вернусь, он с меня, как с Пилы, больше не слезет. А переселится Пила в Харино, я один для его насмешек останусь.
– Да пускай себе смеётся!
Лёньке было непонятно, как это независимый, самостоятельный Панамка, в одиночку прошедший множество деревень, боится шуток озороватого Кадила.
– Панамка, всё у тебя будет хорошо! – убеждённо проговорил мальчик. – Вот увидишь! А про писателя ты подумай, пока он ещё не уехал!..
– Подумаю, – пообещал Панамка.
ПАНАМКА ЕДЕТ В ГОРОД
Дед Фёдор в фартуке из непромокаемой ткани месил во дворе глину. При виде этого у Лёньки упало сердце: он понял, что и сегодня Акимыч занят по хозяйству.
– А, Лёня, – разгибаясь над своим корытцем, сказал Акимыч, – проходи, проходи… Я, видишь, никак с печками не разделаюсь. Вчера чистил дымоходы, а сегодня сами печи править надо, не то зимой беда.
– Так до зимы ещё далеко…
– Э-э, не успеешь оглянуться, – авторитетно возразил Акимыч. – Я тебе скажу, сейчас ещё не самая горячая пора. Пойдёт уборка, сенокос, заготовка – уже не до печей будет. А я нынче закончу, завтра с тобой куда-нибудь пойдём. Ты уж потерпи…
И желая расшевелить мальчика, спросил:
– А я вчера с крыши видел, как ты к писателю ходил. Понравилось, значит, тебе у него?
– Нет, – ответил Лёнька. – Он мне свою сказку читал, а она плохая получилась.
– Ну? – подивился Акимыч. – Неужто совсем плохая?
– Совсем. В ней всё неправда.
Акимыч хотел по привычке почесать бороду, но руки его были в глине.
– Гм… – сказал он и стал вытирать руки о фартук. – Так ведь в сказке и всегда-то неправда. Или нет?
Лёньке не хотелось распространяться о сказке Мойдодырова: слишком свежи были ночные воспоминания, и особенно сильно врезалось в память белое, неживое от страха лицо писателя…
Акимыч не стал ни о чём допытываться, однако заметил:
– А сегодня с утра у него суета какая-то во дворе. Уезжать, что ль, собрался?
Лёнька смотрел на деда округлившимися глазами.
– Сходи к нему, – предложил Акимыч. – Может, там случилось что. Может, помочь человеку нужно…
Лёнька молча развернулся и рысцой побежал к дому с мезонином. Открыв калитку во двор, мальчик сразу убедился, что Лев Борисович действительно уезжает. Как и два дня назад, его машина стояла с открытым багажником, а сам хозяин на этот раз укладывал в него свои вещи.
– Лев Борисович! Вы уезжаете? – крикнул Лёнька, даже забыв поздороваться.
Лев Борисович повернулся и некоторое время смотрел на мальчика, точно не узнавал его. Перемена, произошедшая с писателем ночью, казалась сейчас ещё более разительной. Лев Борисович, очевидно, так и не сумел уснуть сегодня. На его осунувшемся лице и в помине не было прежней самоуверенности, да и весь вид писателя был так далёк от респектабельного, что казалось, в модном костюме Льва Борисовича находится совсем другой человек. Он смотрел на Лёньку отсутствующим взглядом.
– Лев Борисович, зачем вы так рано уезжаете? – опять спросил мальчик. – Вы… вы ещё вернётесь сюда?
– Наверное, вернусь, – ответил писатель приглушённым голосом, – но не знаю когда… Мне ещё нужно…
Он вдруг пристальнее взглянул на Лёньку и не закончил. Впрочем, мальчик и так всё понял.
– Лев Борисович, вы когда вернётесь, мы с вами в лес пойдём! Вы же ещё не ходили в лес!
– Да вот, не получилось… Ты же знаешь, – и писатель поглядел на Лёньку так, будто хотел высмотреть в нём что-то не видимое обычным взглядом.
Лёньке сделалось зябко. Он понимал: надо бы что-то сказать в ответ, как-нибудь по-хорошему проводить писателя, но не находил слов. Он чувствовал, что того давешнего Мойдодырова, который поучал Акимыча и сочинял сказку про кикимору-бражницу, больше не существует. Вместо него на Лёньку смотрел незнакомый мужчина, облик которого говорил, что он переживает крайне серьёзные, даже трагические минуты своей жизни.
– Ну, всего тебе хорошего, – сказал писатель, – а Фёдору Акимовичу передай поклон.
Лёнька прикусил губу и посторонился, давая Мойдодырову подняться в дом, чтобы продолжить сборы. Выходя за ворота, мальчик обернулся на писательскую машину и вспомнил свой разговор с Панамкой. Панамка ведь хотел в город! Только кто знал, что Мойдодыров соберётся домой так скоро? Теперь Панамкина мечта о собственном доме опять не исполнится. Лёнька как будто снова услышал его берущий за душу голос: «Если дома нет – зачем домовой? Тогда мы начинаем терять силу, нам становится трудно ходить, говорить… А потом приходит день…»
– Нет! – воскликнул Лёнька и, не думая больше ни о чём, что есть духу припустил по улице. Он бежал по просёлочной дороге, перепрыгивая через выбоины и стараясь не попасть ногой в песчаную колею. «Скорее, ну, скорее!..» – сам себя понукал мальчик. Краешком сознания он снова отметил, как велика ещё недавно была их деревня.
Наконец за околицей показался дом из красного кирпича. Взбежав на крыльцо, Лёнька забарабанил кулаком в закрытую дверь.
– Панамка! – пронзительно крикнул он. – Панамка, где ты?
Мальчик прижался ухом к двери, но из магазина не доносилось ни звука. Лёнька припомнил, как некогда он так же искал и звал Хлопотушу на бабушкином чердаке. Внезапно он что-то сообразил и, спрыгнув с крыльца, бросился к окнам: сначала к правому от двери, потом к тому, что слева.
В этом окошке нижний край стекла не уцелел. Привстав на цыпочки, Лёнька попытался заглянуть внутрь, однако после яркого света его глаза отказывались хоть что-то различить в темноте.
– Панамка! – приходя в отчаянье, закричал мальчик. – Это я, Лёнька! Ну где же ты там?!
Он снова поднялся на носочки, и здесь в стекольной бреши перед его глазами что-то промелькнуло.
– Лёнька?.. – переспросил слабый голос.
– Да, да! – обрадовался тот, прилипая к окну. – Писатель Мойдодыров уезжает в город, понимаешь? Ты поедешь с ним?
– Я ещё не решил… – сонно протянул домовёнок.
– Тогда решай сейчас! Ты хочешь в город или нет? Да ты что, спишь?
– Я сейчас выйду, – пообещал Панамка.
Лёнька обернулся к крыльцу, и тут кто-то легонько взял его за руку.
– А-а, ты опять через стену!.. – засмеялся мальчик, но в следующую секунду отпрянул.
Рядом с ним стоял Панамка и в то же время не Панамка. Это было какое-то солнечное привидение Панамки – полупрозрачная сущность с очертаниями домового, через которую были видны небо, трава и светило солнце.
– Панамка, ты таешь! – ужаснулся мальчик.
– Нет, это потому что день, – ответил фантастический Панамка. – Днём мы должны спать.
– Нельзя спать! Писатель уезжает в город! Ты поедешь с ним?
Панамку, видимо, раздирали противоречия. Он молчал, и его прозрачное тельце дрожало, как паутинка на ветру.
– Может быть, он уже уехал!.. – следуя своим мыслям, сказал Лёнька.
Панамка колыхнулся.
– Я поеду, – решился он.
– Тогда побежали!
На бегу Лёнька то и дело посматривал на Панамку: домовёнок всё время отставал, хоть и старался поспеть за мальчиком. В самом деле, дневной свет не просто видоизменил Панамку, он словно рассеял его силы. Теперь Лёнька понимал, как могут таять домовые, когда теряют надежду обрести свой дом.
– Панамка, а писатель уже не такой, как раньше! – не останавливаясь, сообщил мальчик.
– А какой?
– Совсем другой! Тебе, наверное, у него хорошо будет!
– Лёнька!.. – будто издалека, доносился голос домового. – Я же с нашими не попрощался…
– Ничего! Я им всё расскажу! Главное – чтоб писатель не уехал!
…Ничего не зная о планах Лёньки и Панамки, писатель Мойдодыров раскрыл ворота во двор и сел в машину. Увидев это, Лёнька шмыгнул в сиреневый куст возле дома бабки Долетовой.
– Прячься! – зашипел он Панамке.
– Зачем? – бесстрастно ответил тот. – Он же меня не видит.
– Ну, тогда беги! Он сейчас выедет и пойдёт ворота закрывать, а ты – в машину!..
Взревев, писательская «Волга» вырулила на улицу.
– Ну, прощай, – сказал Панамка, и Лёньке почудилось, что это струйка осеннего дождя прожурчала в заоконной мгле.
– И ты прощай, – волнуясь, ответил он.
Выглядывая из тёмной листвы, Лёнька видел, как Панамка не таясь приблизился к машине, задержался возле неё, оглядываясь на Пески, а затем пропал из виду, будто окончательно растворился.
Писатель Мойдодыров уселся за руль, машина вновь зарычала, тяжело поворачивая налево, и прошла мимо Лёньки, обдав его резким запахом бензина. Мальчик не отрывал глаз от окон машины, но кроме Мойдодырова никого в ней не увидел.
Некоторое время он ещё посидел в своём укрытии. Вылезать и идти куда-либо Лёньке не хотелось. Их с Панамкой замысел удался, но теперь, когда прошло возбуждение, Лёнька вдруг понял, что и сам не знает, правильно ли они поступили. Конечно, у Панамки будет дом – это хорошо. Но с другой стороны, в квартире, где живёт Мойдодыров (а Лёнька примерно представлял себе эту квартиру), что будет делать там Панамка? И потом ещё – полюбят ли его хозяева? Ну, допустим, Мойдодыров сильно переменился, а его жена? Что, если она такая же, как бабка Пелагея? Лёнька представил, как она прогоняет Панамку из дому, и он, выбиваясь из сил, бредёт по шумной городской улице, никем не видимый и всем чужой… Нет, не нужно об этом думать!
Лёнька выбрался из кустов и поплёлся по улице. Незаметно для себя он снова очутился возле избы Акимыча, но вспомнил, что дед занят, и пошёл дальше – домой.
СЕКРЕТЫ СТАРОГО СУНДУКА
В бабушкиной кухне Лёньке снова попался на глаза большой кованый сундук, с которым некогда воевал дотошный Хлопотун. Мальчик уже не раз косился в сторону великана, гадая, что может прятаться у него внутри.
С любопытством он снял с кованого лоскутную накидку, и тот предстал перед Лёнькой во всей своей красе: перепоясанный крест-накрест железными ободьями, весь в заклёпках, с изъезженными металлическими уголками. Лёнька потрогал увесистый замок-подкову, и в этот момент скрипнула дверь, в кухню вошла бабушка.
– Вот он и до сундука моего добрался! – нестрогим голосом сказала она. – Интересно, что у меня за сокровища там?
– Интересно, – не стал отпираться Лёнька.
Бабушка сходила в гостиную и вернулась со связкой ключей.
– Как много! – обратил внимание Лёнька.
Бабушка тряхнула связкой:
– Да половину уж выбросить пора, кабы не жаль, – память все же, Лёнюшка…
Она отделила самый приметный ключ и им открыла подковообразный замок. Крышка сундука медленно поднялась.
…С первого взгляда Лёнька не увидел ничего достойного внимания: сверху лежала самая обыкновенная клеёнка для стола, правда, была она яркая, даже чересчур яркая – вся в цветах и фруктах.
– Праздничная скатерть, – с теплотой сказала бабушка Тоня. – Видишь, хорошая ещё, а ей уже столько лет… Эх, мало было праздников в нашей жизни!.. После войны я эту клеёнку раз лишь и вынимала, когда твой отец женился и с Леночкой в гости пожаловал. Вот и всё… Зато до войны праздники были хороши. Тоже не часто пировали, больше работать приходилось. Но уж если гуляли – так гуляли! Готовились заранее к торжеству, чтобы всё чин чином было. Ведь это ж за бесчестье считалось, если в такой день стол от угощений не ломился, если каждого пришедшего допьяна напоить не сумел. Помню, в какой-то праздник кончилось у нас вино, а тут как раз новых гостей принесло. Раньше ведь запросто, Лёня, было: приходит кто хочет, и бывает, плавает гулянка по деревне от одного дома к другому, а то и в соседнюю деревню перекинется.
Ну вот, прибилось тогда веселье к нашему дому, а у нас вина уже нету – как нарочно! Я к Ивану подхожу и шепчу на ушко: «Всё выпили, Вань, что делать?» Иван-то пьяненький уже был, а тут куда только хмель подевался! Встал, сказал гостям: «Один момент, сейчас всё будет в ажуре», – и ушёл куда-то. Гости ещё песню не допели, а он уже вернулся и столько вина натащил, что потом плясали до утра.
– И дрались? – с ехидцей спросил Лёнька.
– Бывало, что и дрались. Но так, больше для куражу – силой мерялись. Да ты-то отчего про это спрашиваешь?
– Отец говорил. Он когда из гостей приходит, всегда говорит: что это за веселье, ерунда, никто даже не подрался. Вот в деревне у нас!..
Бабушке стало смешно:
– Это он шутит, Лёнь, про драки! А вот ты послушай лучше, какие у нас силачи раньше жили.
Когда я ещё девчонкой бегала, ходил у нас в парнях Гриша Кудачкин. Вот сила была!.. Этого Гришу все парни побаивались, да и мужики старались не цеплять.
Дворов тогда в Песках было много, в каждом дворе – корова, а то и две, и всего набиралось большое стадо. Для этого стада кто-то обычно держал быка. Вот в то лето, про которое я говорю, пасся при стаде бык Лютый. Не бык, а дикий зверь какой-то, одного хозяина с грехом пополам слушался. Огромный, свирепый, злой как чёрт. Особенно не любил мужиков, как будто к своим коровам их ревновал. Увидит кого в поле ближе, чем за четверть версты, – обязательно погонится. Одного мужика чуть до смерти так не закатал, пастухи еле-еле кнутами отогнали.
Вот в один вечер, как пригнали коров с поля, взял Лютый да и увязался за Красулькой тётки Анюты Теребиловой. Уж не знаю, почему его хозяин не встретил… Тётке Анюте Красульку доить надо, а Лютый не подпускает. Она и пошла к Грише по соседству: