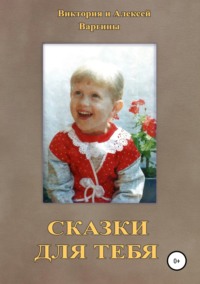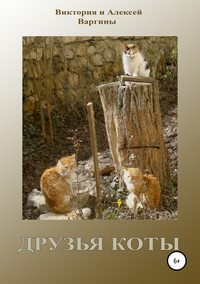полная версия
полная версияСолнечная тропа
Но Блюмеру было не до хитростей. Жил он как во сне, отдавал приказы пустым голосом, а по ночам пил водку.
В одну из таких ночей снова пришли за Егором. На этот раз Блюмер никого в избе не оставил, кивнул Егору садиться и сам упал на лавку, как тяжёлый мешок. Был он сильно пьян и долго молчал, не глядя на Егора.
– Что же, Сеничев, не хочешь мне помочь? – спросил наконец.
Блюмер, наверное, и сам не понимал, зачем послал за Егором. Может, блеснула в его душе какая-то надежда, да сразу и погасла. Зато Егор всё понимал и, такой уж он был человек, сочувствовал немцу.
– Вы верующий, господин Блюмер? – спросил он.
– Да, Сеничев, – ответил тот и даже голову поднял. – В моей стране большинство верующих, а вот в твоей их нет!..
– Есть, господин Блюмер, и в моей стране, – возразил Егор. – Но если у вас таких много, то зачем они пришли в чужую землю убивать и разорять? Вы-то вот зачем здесь?
– Затем, что я солдат! – рявкнул Блюмер, багровея. – А солдат не рассуждает, зачем и почему!
– Не рассуждает!.. Приходит в чужие дома, убивает невинных людей и не рассуждает! Надеется, что его командир, его фюрер ответят за него, когда придёт час.
– Про какой час ты говоришь? – спросил хрипло Блюмер.
– Про тот, что уже наступил для вас, – ответил Егор, и немец вздрогнул.
– Врёшь, Сеничев, – сказал он. – Мне расплачиваться не за что. На войне как на войне: я или буду убивать врагов, или стану дезертиром, и меня расстреляют.
И спросил с издёвкой:
– А другие? Они что, святые? Может, ты думаешь, что твой Курт не держал оружия в руках? Как же ты его вылечил?
– Курт не убийца, даже если ему пришлось убивать! – с жаром ответил Егор. – Он, как дитя, весь мир любить и обнимать готов. А в вашем сердце ни любви, ни благодати, одна ненависть и холодное отчаяние. Не может человек в таком аду жить, вот и приходит конец вашей жизни.
Блюмер выхватил пистолет и направил Егору в голову. Он держал палец на спусковом крючке, а сам всё заглядывал в глаза своему пленнику, всё надеялся увидеть там страх. Егор глядел на Блюмера спокойно и как будто издалека… Казался он глубоко задумавшимся. Вот он чуть заметно улыбнулся… и эта улыбка поразила Блюмера. Он отчетливо понял, что не сможет выстрелить, крикнул часового и, как когда-то, велел Егора увести.
С той ночи Блюмер потерял остатки покоя. Он старался забыть разговор с Егором, гнал от себя всякую мысль о нём. Но мысли возвращались и преследовали Блюмера, как стая голодных волков. Чтобы спастись от них, Блюмер убегал в воспоминания о своём детстве.
…Он видел родной дом – большой, засыпанный первым снегом накануне Рождества. Видел праздничный пирог на столе, который мать разделила для всех на множество кусков. Слышал радостные голоса и смех гостей. Потом Блюмер вспоминал, как старая няня укладывала его в постель, а он не хотел спать и просил её рассказать о младенце Иисусе. Добрая старушка принялась рассказывать, хотя накануне Блюмер уже слышал всю историю. Последнее воспоминание волновало его до слёз. Какое это было счастье – лежать, зарывшись в подушки, и думать о том, что мир прекрасно устроен, что все вокруг тебя любят и так будет всегда. Блюмер старался понять, когда, в какой день и час, нарушился этот миропорядок, почему счастье незаметно, по капле начало уходить из его жизни и осталось лишь в памяти. Невесёлое это было занятие, но для Блюмера крайне необходимое. Всё остальное как бы отступило на второй план и потеряло важность. Блюмер страстно желал разобраться в своей жизни, понять, как рождались его поступки, из чего складывался характер, что двигало им при выборе целей. Он стремился докопаться до самой сути, только так он мог ответить на вопрос, зачем жил, почему должен умереть и что его ожидает по смерти. Он вдруг осознал, что жизнь не кончается за гробом и что она вообще не имеет конца. Конечно, как христианин, он знал об этом с детства, но истина эта всегда была чем-то отвлечённым и как будто не имела отношения к реальности. Кроме того, где-то в уголке души Блюмер всегда сомневался…
И вот сейчас эта истина приблизилась к нему во всём своём величии, заставляя одновременно содрогаться и ликовать. «Оказывается, жизнь это совершенно не то, что мы о ней думаем, – с трепетом говорил себе Блюмер. – Ужасно, что я понял это только сейчас. Но с другой стороны, как хорошо, что я всё-таки успел понять…»
Порой Блюмер сталкивался в своих раздумьях с чем-то, чего он не мог осилить. Тогда он посылал за Егором, и они долго беседовали о чём-то без переводчика за плотно закрытой дверью. Приближённым Блюмера оставалось лишь строить догадки насчёт этих бесед. Многое было неясно в отношениях Блюмера и русского пленного. Вроде бы русский Блюмера лечил, но никто не видел, чтобы он приносил снадобья больному или отхаживал его другим известным способом. Хотя порой Егор и ходил за травами под конвоем из двух автоматчиков, но лекарства готовил для нуждающихся офицеров, для Блюмера же – никогда. Видимо, всё дело было в разговорах, которые продолжались в избе Блюмера до полуночи. О чём могли толковать немецкий полковник и пленный, который и языка-то путём не знал? Всё это было подозрительно и настораживало. Определённо, русский знахарь имел влияние на Блюмера, но какое? За последние месяцы Блюмер сильно сдал. Он сделался замкнутым, сторонился подчинённых и что-то без конца напряжённо обдумывал. Между тем дела в его подразделении шли из рук вон плохо. Дисциплина среди солдат расшаталась, они устали воевать, застряв в этой непокорной и непонятной стране, и в преддверии новой суровой зимы роптали на своих командиров. Офицеры ссорились друг с другом, громко бранили подчинённых и тихо поругивали начальство… Всё это не укрепляло моральный дух бойцов вермахта.
А Блюмер при этом вёл себя так, словно обстановка во вверенном ему подразделении его не касалась. Как ни разобщены были штабные офицеры, они дружно сходились во мнении, что Блюмер ведёт себя преступно и виной тому русский лекарь.
Курт, который многое замечал, сказал однажды Егору:
– Знаешь, тебя в штабе не любят.
– Что ж тут удивительного? – ответил Егор. – Было бы странно, если б меня здесь любили.
– Да нет, я не про это. Они считают тебя шпионом, думают, что ты склоняешь Блюмера к измене.
– Ну и пусть считают, – отмахнулся Егор.
– Да ты разве не понимаешь? – удивился Курт. – Или не знаешь, как поступают со шпионами?
– Догадываюсь, – ответил Егор, – а что я могу сделать? Я пленный. Если Богу угодно меня забрать, на то его воля.
– Ладно, понял я, – сказал Курт. – А сколько с тобой автоматчиков в последний раз в лес ходило?
– Один, кажется, – вспомнил Егор, и Курт насторожился, но ни о чём больше не спросил.
Несколько дней Егор не виделся с Куртом, и вот как-то в сумерки тот пришёл взволнованный и пахнущий опавшей листвой.
– Егор, – тихо спросил он, – сейчас в лесу можно ещё для твоих лекарств травы собирать?
– В лесу круглый год найдётся что собирать.
– А, неважно… Слушай, тебе нужно бежать отсюда. То, что наши решили прикончить тебя, это точно. Я всё думал, как? Проще всего отравить, конечно. Но тут Блюмер обязательно заподозрит, а Блюмера они боятся. Я думаю, выход у них один. Ты же ходишь в лес? Вот там тебе и пустят в спину очередь, а Блюмеру доложат, что застрелили при попытке к бегству. Это безопаснее всего. Когда ты сказал про одного автоматчика, я окончательно в их выборе убедился. Один солдат – это надёжнее, чем два, потому что чем меньше людей в заговоре, тем лучше. Они и этого одного тщательно выбирали и, скорей всего, уже отдали ему приказ… Понимаешь ты, как всё серьёзно?
– Понимаю, да мне-то что делать?
– Прямо завтра идти в лес за травами. Не смейся, Егор, слушай. Я три дня рыскал вокруг деревни и кое-что нашёл. Завтра с утра скажи своему часовому, что тебе срочно нужна какая-то трава. Он доложит в штабе, как всегда, и тебе дадут автоматчика. От деревни возьмёшь к северу, в сторону березняка. В березняк ведёт тропинка, по ней пойдёшь. Минут через пятнадцать будет поляна. Справа там молодой соснячок, а слева – несколько старых осин растёт. Под одной осиной я сегодня нашёл старую волчью яму. Я её замаскировал так – в упор не разглядишь, хорошо, листьев в лесу – море. И в ту осину, под которой яма, воткнул топор, обычный, деревенский, здесь подобрал. На этой поляне остановишься. И начинай собирать чего-нибудь. Шарь под листьями, а сам потихоньку подвигайся к осине, чтобы конвоир заметил топор. Если заметит, считай, повезло: девять из десяти, что он пойдёт за топором, это в человеческой натуре… И под самым деревом свалится в яму. Как только он упадёт, беги в сторону сосняка и через него прямо на восток. Конвоир из ямы сразу не выберется, там глубина – метра два. Начнёт стрелять, но если и услышат его, за тобой не скоро будет погоня, они ведь этой стрельбы и ждут. Ваши километрах в десяти отсюда. Главное – держи на восток.
– Курт, а если догадаются, кто это устроил?
– Не бойся, я всё обдумал, не догадается никто. Мне их провести нетрудно, недаром я два года среди них прожил. Ты лучше вот о чём подумай. Если этот автоматчик получил задание тебя убрать, то ведь можешь и не дойти до поляны. Имей это в виду. Хотя думаю, он торопиться не станет… В общем, Егор, решай, другого шанса не будет у тебя.
– Чего же тогда решать? Сам говоришь, здесь хоть так, хоть иначе погибну. А там – свои… Я ведь, Курт, полгода родного языка не слышал.
– Ну и хорошо, – обрадовался Курт. – С утра и ступай. А то ещё кто-то раньше вас на топор наткнётся…
– Спасибо тебе, – от всего сердца поблагодарил Егор, но Курт его перебил:
– Это тебе спасибо, ты меня летом на ноги поднял. Я ведь знаю, ты не потому меня лечил, что тебе приказали. Я это ещё тогда понял… И потом много я удивлялся твоей доброте и терпению, всё хотел чем-нибудь помочь. Если б они тебя ухлопали, я бы до конца жизни себе не простил. Ну, удачи тебе! – обнял Егора, как брата, и быстро вышел.
…Утро выдалось холодное, хмурое. Казалось, в низком небе уже созрел и вот-вот сорвётся первый снег. Охранник угрюмо шагал за спиной Егора, вороша сапогами слежавшиеся листья. А Егор вглядывался в сухие черты осеннего леса, словно пытался найти в них добрые приметы грядущего дня.
Поляну Курта он узнал сразу и, обернувшись, сказал конвоиру: «Здесь». Тот молча кивнул и обвёл поляну глазами. Его взгляд остановился на старой осине с торчащим в стволе топором. Удивившись такому непорядку, немец аккуратно зашагал к дереву, и через несколько секунд Егор вскочил на ноги от громкого треска и крика. Не медля, он бросился в молодой сосняк…
Через два часа Егор был уже у своих. Смертельно уставший, задохнувшийся от долгого бега, он едва держался на ногах, но был невыразимо счастлив. «Ребята, как здорово, – повторял он, – как здорово, что я с вами!» Ему тоже радовались, обнимали, хлопали по плечу. «Повезло», – говорили бойцы в один голос.
Ближе к вечеру Егора отправили в запасной полк на допрос. Целый час рассказывал он о своих злоключениях в немецком плену. Рассказывал всё без утайки, потому как всегда считал, что лучше правды ничего быть не может. Военный следователь, повидавший много разных людей и судеб, слушая Егора, мрачнел всё больше и больше. История этого парня была необычной и могла показаться выдумкой, но профессиональное чутьё подсказывало следователю, что Егор не лгал. Было в нём что-то, что вызывало доверие и уважение. Следователю очень редко, но приходилось встречаться с людьми такого сорта, и каждая встреча оставляла в его душе неповторимый отпечаток. Во всех этих людях было что-то общее – какое-то глубокое внутреннее достоинство, которое не зависело от внешних обстоятельств. Это спокойное бесстрашие следователь ощущал как силу, реальную силу, но природу её он не знал.
И глядя в лицо Егора, слушая его неторопливый рассказ, он чувствовал ту же силу и недоумевал, откуда она взялась в этом хрупком парне, которого и мужчиной ещё трудно было назвать. Следователь знал, что ожидает немецкого военнопленного после всех разбирательств, и его ум настойчиво бился над вопросом: как облегчить участь Егора?
– Хорошо, – сказал он, когда Сеничев описал свой побег, – я всё понял и верю тебе. Если говорить откровенно, я не считаю изменой твою работу у немцев, хотя грань тут очень тонкая… Я допускаю, что твоим способностям сопутствует особая этика, отличная от общепринятой. Но… вся беда в том, Егор, что не я буду определять, виновен ты или нет. Судить тебя будут другие. Моя задача в том, чтобы подготовить документы для этого суда. И вот смотри, что у нас с тобой получается. Тебя берут в плен по приказу Блюмера, которого мучает психическая болезнь. Ты отказываешь ему в лечении… и после этого ещё полгода безбедно живёшь при штабе. Где тут логика? Дальше. Ты вылечиваешь какого-то немецкого лейтенанта, и в благодарность за это он устраивает тебе побег. Егор, ни один трибунал не поверит в такую сентиментальную легенду. Тем более, что пришёл ты один, подтвердить твои слова некому. Вот если бы вас было двое, а ещё лучше – трое… Здесь ещё можно доказать, что ты не врёшь. В общем, Егор, вывод из всего этого получается один – что ты немецкий шпион.
– Там я был русским шпионом, а здесь – немецким, – усмехнулся Егор.
– Да, Сеничев, как ни печально, но это так. Однако есть одно обстоятельство, о котором тебе нужно знать. Если ты станешь отрицать, что ты шпион, и будешь стоять на этом до конца – тебя расстреляют. Как немецкого шпиона, который не сознался. Если же ты сознаешься и подпишешь соответствующий документ – тебе светит пятьдесят восьмая статья, а это дорога в лагерь. Десять лет каторжных работ. Шансов выжить очень мало. Но всё-таки это не расстрел. И потом для человека, с которым случаются такие чудеса, как с тобой, это всё-таки вариант. Ну так что, Егор?
Егор молчал. В его голове ещё не укладывалось, как всё это может быть.
– Я понимаю, что ты чувствуешь, – говорил между тем следователь. – Но война это жестокая вещь, и волей-неволей приходится принимать её правила. Я не должен был говорить тебе то, что сказал, но я хочу помочь. Хотя бы тем, что в моих силах. Как знать, может быть, это не так уж мало… Подумай, Егор, время ещё есть у тебя…
Через месяц Сеничев Егор, осуждённый военным трибуналом за измену Родине, был уже в лагере строгого режима, далеко-далеко от родных мест, вместе с тысячами других заключённых. Это были разные люди. Одни из них – настоящие преступники: бандиты, убийцы – отбывали наказание за свои злодейства. Но Егора поразило, как много людей попало на каторгу так же, как он, – без всякой существенной вины, по недоразумению, навету или чьему-нибудь произволу. Среди них были учёные, врачи, военные офицеры…
Лагерь сравнял всех. Это был настоящий ад на земле. Когда Егор вспоминал немецкий плен, ему невольно делалось смешно: жизнь там по сравнению с лагерной казалась забавой. Здесь существование заключённых трудно было назвать жизнью. Люди надрывались, работая в тайге на лесозаготовках, жестоко голодали, мёрзли, болели и падали, как скот. Да никто и не считал их за людей. Напротив, всё, что было в них человеческого, уничтожалось, растаптывалось… Выдержать все тяготы и издевательства над собой было почти невозможно. Заключённые бессчётно умирали, сходили с ума, многие накладывали на себя руки…
Живя в этом непробудном кошмаре, Егор Сеничев спрашивал себя, почему существуют в стране такие лагеря. Зачем они нужны государству, он уже приблизительно представлял. Но его волновало другое: что значило всё это с точки зрения высшей справедливости и любви? И что хотел показать Егору Господь, чему научить, проводя через такие мучения?
Егор вспоминал войну, там он увидел много горя и жестокости, от которой кровь стыла в жилах. Но на войне были враги, от которых не приходится ожидать милости. Будучи в плену, Егор находился только среди врагов. Там ему пришлось как бы подняться над этой категорией «враг» и относиться к немцам просто как к людям, с пониманием и участием. Только это позволило ему сохранить в своей душе любовь к людям и к миру.
В лагере у человека обрушивались все понятия о справедливости, добре и милосердии. Здесь свои были хуже фашистов, и осуждённый изнемогал умом, силясь понять, за что он так страдает.
Егор знал, что умом до истины тут не дойти. Он искал ответа в сердце и чувствовал, что найдёт его лишь тогда, когда в нём снова вспыхнет огонь любви и осветит окружающий мир. Но как ни старался Егор, он не мог зажечь в себе спасительный огонёк. Сердце его, изнывающее от боли, отказывало в любви этому миру.
И тогда Егор начал молиться. Он молился днём и ночью, на лесоповале и в бараке. Даже во время короткого сна его дух устремлялся с молитвой к Творцу. «Господи, – просил Егор, – ты умеешь всех вмещать в себя. Ты любишь и праведников, и грешных, любил даже тех, кто глумился над тобой, и тех, кто тебя распинал. Научи меня этой любви, ибо я погибаю без неё, и душа моя – как высохший колодец…»
Егор жил в этой молитве много-много дней, не переставая просить и надеяться. Однажды утром молитва его сама собой прервалась. Он вышел из барака и не узнал привычный унылый пейзаж. Всё вокруг заливали потоки ослепительного, не похожего на солнечный света, и Егор вдруг понял, что каким-то непостижимым образом он очутился по другую сторону этого мира, а может быть, внутри его – там, где лежит первопричина всех вещей и явлений, – безграничная любовь Творца к своему творению.
Егор, так истово просивший любви, теперь купался в её лучах. Не было больше страдания, не было неведения: его переполняла и окружала божественная милость. Егор не сумел бы передать словами то, что ощущал, но происходящее было очень конкретно, реально, намного реальнее, чем, к примеру, очередь из автомата. А главное – Егор знал, что этот свет и радость уже никогда не исчезнут из его жизни.
…Вот так произошло второе рождение Егора, и было оно много важнее первого, потому что было рождением для вечности.
А жизнь в лагере продолжалась своим чередом, принося людям новые тяготы и мытарства. Всем, кроме Егора, над которым страдание уже не имело власти. Егор знал, что разорвать цепь своих страданий человек может только сам, но он всей душой сочувствовал и старался помочь несчастным.
С первого дня в лагере Егор пользовался своим даром лечить, однако скоро увидел, что здесь от него мало проку. Егор сокрушался, что у него под рукой нет то одной, то другой травы, которая не росла в тайге… Но главная причина была в том, что заключённые теряли веру и не хотели жить. Они не надеялись на освобождение, а бороться за лагерную жизнь не имело смысла.
Раньше Егор Сеничев мучился от бессилия что-либо изменить, но, пережив озарение, почувствовал, что его сила опять с ним и теперь она умножилась. Ему уже не нужны были травы и заговоры… Сила, которая открылась в нём, действовала прямо, без всяких знахарских приёмов, исходила от Егора как свет, как живительное тепло, к которому потянулись заключённые. Прежде они почти не замечали Егора, несмотря на все его попытки помочь им. Ныне Егор Сеничев объединил их вокруг себя без малейших усилий. При этом никто из осуждённых не смог бы объяснить, почему его так влечёт к Егору. Одно только присутствие его вызывало прилив сил, а слова, даже самые незначительные, успокаивали душу, рождали в ней надежду. Забитые, изнурённые каторжники словно вспомнили, что они люди и несут в себе искру Божьего духа. Даже уголовники, даже лагерное начальство чувствовали эту силу Егора и были безоружны перед ней со всей своей грубой, сокрушающей мощью. Теперь никто не мог даже поднять руку на Егора…
– Толмач, Толмач! – вдруг настойчиво прозвучал голос Хлопотуна. – Прервись, Толмач!
Повествование оборвалось, и Лёнька, приходя в себя, закрутил головой:
– Хлопотуша, ты чего?
– Домой пора, – ответил Хлопотун, – а то бабушка тебя хватится.
– Ты же сам говорил, что она не проснётся…
Домовой встал с лавки.
– Через десять минут возле нашего дома грузовик остановится. Шофёр ехал в Воронино, да по ошибке завернул к Пескам. Твоя бабушка ему укажет дорогу, а потом зайдёт тебя проведать. Так что идём, чтоб не было переполоху.
Лёнька сразу поверил Хлопотуну и заторопился.
На улице они услышали шум приближающейся машины, а свет от её фар уже метался по верхушкам деревьев. Лёнька с Хлопотуном прибавили ходу.
Едва мальчик успел раздеться и прыгнуть под одеяло, в дверь избы громко застучали. В соседней комнате заворочалась бабушка. Потом она встала и пошла открывать.
– Хозяюшка! – пророкотал в кухне густой мужской голос. – Вы уж извиняйте, что потревожил. Похоже, заблудился я. Как мне до Воронина доехать?
– А вы с какой стороны? – спросила бабушка.
– От Малых Удол…
– Так вам на последней развилке надо было вправо свернуть, а вы влево взяли. Теперь поворачивайте назад. А это Пески…
– Эх, ёлки-палки, ещё хотел ведь к лесу свернуть, – прогудел бас шофёра. – Спасибо, мамаша, не обессудьте, что разбудил.
– Счастливо вам добраться. Тут недалече, на машине-то скоро в Воронино будете, – говорила бабушка, провожая незнакомца до крыльца.
Потом она вернулась, заперла дверь и направилась к себе. У дверей Лёнькиной спальни бабушка остановилась, словно вспомнила о чём-то, и тихими шагами вошла в комнату. Лёнька свернулся клубочком и зажмурился. Бабушка Тоня постояла над ним в полутьме, послушала, как сопит внучек, и вышла.
«Ну и молодец же наш Хлопотун, – подумал Лёнька, – только я опять про Егора историю не дослушал…»
ПРО ТО, КАК МУЖИК ДОМОВОГО ПЕРЕХИТРИЛ
За завтраком Лёнька думал о писателе Мойдодырове: хорошо это или плохо, что он появился в деревне? И всё выходило – плохо. Лёнька представлял, как они с Акимычем пойдут в лес, а писатель увяжется за ними. Дед станет отвечать на бесчисленные вопросы Мойдодырова, а Лёнька окажется третьим лишним. Или писатель подружится с бабкой Пелагеей и через неё подберётся к Акимычу. В таком случае Лёнька опять останется в стороне.
Мальчик взглянул на бабушку, которая привычно домовничала в кухне и даже не подозревала, какая беда нависла над Лёнькой.
– Ба, – сказал мальчик, – тот писатель, что вчера приехал, всё к Акимычу приставал…
– Это зачем?
– Хочет, чтобы Акимыч ему самое интересное рассказывал: про деревню, про лес…
– Ну и что! – беспечно ответила бабушка. – Он же городской, ему интересно, как мы тут живём.
– Ничего ему не интересно! Он хочет сказки сочинять, а без Акимыча у него ничего не получается.
Бабушка отставила свою стряпню и подошла к Лёньке.
– Ты чего, Лёнюшка? Может, он тебя обидел, этот писатель? Или ты его к деду приревновал?
От последнего слова Лёнька густо покраснел и сунул в рот пирожок, чтобы не отвечать. Нет, бабушка просто не знает этого Мойдодырова. Вот домовые – те сразу его раскусили…
После завтрака Лёнька отправился на улицу. Было ещё рано, и как ни хотелось мальчику увидеться с Акимычем, он не решался побеспокоить деда. Лучше он повнимательней обследует бабушкин огород – тоже не последнее занятие.
Несколько грядок, тепличка, участок с помидорами располагались прямо за домом и огораживались плотным забором. Дальше шёл сад, за ним картофельное поле – всё было не загорожено. Раньше Лёнька как-то не обращал на это внимания, а сегодня удивился: от кого же охраняются грядки?
В огород вела калитка с обыкновенной деревянной вертушкой, и это ничего Лёньке не объясняло. А он хотел найти решение огородной загадки, не всё же ему жить чужим умом…
Мальчик обошёл огород кругом, покачал штакетник, потом зашёл внутрь – побродил между грядками, заглянул в тепличку.
Вчера бабушка пропалывала и прореживала морковь, и Лёнька ещё полакомился молоденькой сладкой моркошкой. Бабушка выдёргивала её из земли вместе с сорняками, и после прополки на грядке красовались ровные рядки узорчатой зелени. Бабушка Тоня сказала, что прополка да прорежка нужны для того, чтобы выросли хорошие, крупные овощи.
А вот с огурцами всё наоборот: чем больше они переплетаются, тем лучше. Они, видите ли, тень любят! Зато потом сыскать в этой зелени огурец – дело непростое.
Лёнька пригляделся да и увидел один колючий огурчик среди других только начинающих поспевать пупырышек. Он съел запашистый хрустящий «ёжик» и вспомнил о своей задаче. Мальчик решил взглянуть на неё с другой стороны и пошёл осматривать сад и картошку. В саду он пощипал красную смородину и кислый зеленоватый крыжовник, дотянулся до тёмных вишнёвых бусин…
Наткнувшись на курицу, Лёнька насторожился: наверняка где-то поблизости расхаживает бабушкин петух. Значит, нужно быть начеку, чтобы задира не застал Лёньку врасплох. Забыв про забор, мальчик начал выслеживать своего противника.
В саду петуха не оказалось, и Лёнька стал подкрадываться к картофельным зарослям, откуда доносилось квохтание хохлаток. Тут им было вольготно зарываться в сухую землю борозд и при этом поднимать целые фонтаны пыли. Лёнька насчитал таких фонтанов аж одиннадцать – какой из них принадлежит петуху? А может, хитрюга ведёт себя иначе и не пылит? Но Лёньке и так было ясно, что он тут, в сероватой ворсистой ботве. Где ему ещё быть, если в саду роются всего две курицы, а в огороде их не видно вовсе? Да там забор… Забор! Вот от кого он поставлен – от кур! От кур и проклятого петуха! Обрадовавшись, Лёнька аж подпрыгнул. И тут увидел невдалеке писателя Мойдодырова.